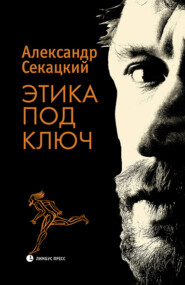По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жертва и смысл
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выставочные залы не исчезнут, но главными производственными участками искусства станут алтари Всесожжения, на которых и будет разворачиваться Холокост символического. Сначала таких художников будет вообще немного, может быть, только один, первый, самый решительный и отчаянный, который поймет в один прекрасный день, чем отличается искусство от Искусства. Поймет, что отличается оно, Искусство, не сочностью красок, не расчетливостью композиций и не точностью линий, хотя все это тоже важно. Но отличие Искусства в его причастности к жертвенной практике, в том, что часть произведений и, быть может, лучшие из них прямиком отправятся на алтарь Всесожжения. И этот иной художник доставит туда свое детище – прямо из мастерской, с выставки, из музея – и предаст его огню. Под оставшимися снимками и посмертными репродукциями будет написано: оригинал принесен в жертву в такой-то день и час такого-то столетия. И Господь призрел принесенную жертву.
Практически нет сомнений, что первым в этой практике будет именно живописец, так сказать, представитель изобразительного искусства. Но за ним последуют режиссеры, музыканты, поэты и писатели; всем видам искусства предстоит найти способы причастности к жертвенной практике. Музыканты могут сыграть сочинение какого-нибудь великого композитора в звуконепроницаемом зале, где их никто не услышит, кроме Бога, и время от времени им придется возобновлять исполнение в пустоте, ибо именно для такого исполнения будет предназначено жертвенное приношение композитора и их собственное.
Для поэтов и писателей можно было бы предусмотреть самоуничтожающуюся бумагу, чтобы книга в определенный момент рассыпалась в прах – но наличие электронных носителей лишает этот жест подлинной радикальности. Быть может, действенным окажется обет молчания, добровольно принятый на себя поэтом, скажем, сроком на год. А для писателя – быть может, нечто подобное тому, что описал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», – пересоздание уже созданных произведений, где в жертву приносится собственное время и, так сказать, души прекрасные порывы. Необходимость причастности и тяга к жертвенности станут очевидными, когда художник начнет обретать свободу (например, свободу от товарной формы и пользоприношения вообще), а само искусство вновь начнет набирать мощь и созидательный потенциал.
Ну а музеи – представим себе, что они раз в год осуществляют жертвоприношение одной из драгоценных единиц хранения. Представим галереи и выставочные залы, где помимо вернисажей есть и день причастности к всесожжению символического – и не обязательно сам художник должен решать, что именно из его приношений потребуют боги. Ему достаточно знать, что боги жаждут, и надеяться на то, что когда-нибудь, быть может в этот раз, Бог отведет руку с поднесенным факелом.
Только так может быть восстановлено право на священнодействие, и как только оно будет восстановлено, появятся совершенно четкие отличия искусства от попсы: искусство присоединено к жертвенной практике, а попса от нее принципиально отключена. Художник может лишиться и любимого детища, и самой жизни, поскольку в священнодействии есть воистину опасные участки. Но шоумен сохранен и сбережен в гегелевском смысле, все, чем он рискует, это выйти из моды. А подлинный художник рискует еще и тем, что его жертва может оказаться и неугодной…
Символ христианства
Уже было дано вытекающее из жертвенной практики определение божественного: право отвергнуть принесенную тебе жертву уже после того, как она принесена. Установили мы также, что если подобным образом поступают люди по отношению друг к другу, то это либо вероломство, которому нет прощения, либо любовь – отвергнутая, но не нуждающаяся в прощении, и потому божественная.
Бог волен призреть или не призреть принесенную жертву, это его привилегия. Но богам случалось приносить в жертву и самих себя – вспомним, опять же, скандинавскую мифологию. Но воистину покорил мир самым радикальным жертвоприношением другой бог. Это Иисус, Господь наш. Он принес себя в жертву людям – и так был введен в действие величайший созидательный потенциал, значительно превышающий возможности созидания, даваемые принятой, одобренной богами жертвой смертных. Но это еще не все: совершив собственное жертвоприношение во имя смертных, претерпев муки на кресте, Иисус оставил каждому возможность принять или отвергнуть эту жертву. Так было задано онтологическое и теологическое основание свободы – разумеется, не в смысле свободного поднятия руки и не в смысле Эпикурова клинамена. Произошедшее называется так: он сотворил человека свободным, и сделать это, сотворить человека свободным, можно только встречным жертвоприношением, которое он, свободный, как раз в этот момент может и не принять. Если сотворение человека есть непрерывный демиургический акт, то его сотворение свободным происходит на Голгофе – и продолжает происходить.
2017
2. Танец Шивы
Продолжая исследовать метафизику жертвоприношения, подойдем к теме с несколько иной стороны. Мы выяснили, что жертва должна быть положена в основание, чтобы постройка стояла прочно и устои не рухнули. Но все еще остается неясным, почему это так. Факт жертвоприношения многое объясняет в человеческом мире, важнейшие вещи опираются на жертвенную практику. Но на что само жертвоприношение опирается и есть ли смысл в подобном вопросе?
Далее: что есть сила духа? Для чего требуется танец Шивы? Почему невозможно творение без обратной связи и что есть в корне эта обратная связь? Таковы поставленные навскидку вопросы, и вполне вероятно, что вопросы, возникающие по ходу их разрешения, могут оказаться еще более насущными и важными.
Музыка гибели и танец смерти
Важнейшая функция бога Шивы, третьего из великой триады, состоит в том, чтобы разрушать мир. Сразу же возникает вопрос: а разве с этим незамысловатым делом сам мир не справится? Разве не начнет он естественным порядком рассыпаться и разрушаться, будучи предоставленным самому себе?
Мировая философия от Гераклита до Хайдеггера дала внятный ответ на этот вопрос: бытие к смерти и обреченность на существование суть две стороны одной медали. Всякая инерция ведет к мерзости запустения и представляет собой лишь отсрочку, какой бы почтенный срок эта отсрочка ни длилась.
Лучше всего это известно самому Шиве, ведь его ближайший соратник Вишну занимается как раз тем, что мир хранит. Он хранит каждое мгновение длительности мира изо всех сил, и не исключено, что степень его собранности, самоотдачи даже и не снилась ни созидателю Брахме, ни разрушителю Шиве. И все же получается, что миссия не выполнима. Она точно невыполнима в полном объеме, иначе без Шивы можно было бы и обойтись.
Здесь возникает парадокс, с которым предстоит разобраться. Если созданный или возникший мир обладает инерцией самосохранения или может быть удержан усилиями Хранителя – тогда или Шива не нужен, или усилия Хранителя будут направлены на предотвращение его вмешательства. Но дело обстоит так, что Вишну собственной волей и в свой черед уступает место разрушителю Шиве с одобрения Брахмы и, возможно, всех тех, кто склонен наслаждаться завораживающими движениями истребительного танца.
Но если мир не поддается сохранению, несмотря на все усилия, и сам стремится к гибели, то ведь получается, что Шива тем более не нужен. Работа разрушения будет выполнена и без его участия. Чтобы разрешить парадокс, у нас нет другого выхода, кроме как предположить, что разрушение разрушению рознь, и для подобающего истребления сущего нужен не просто особый агент, а особый бог, входящий в верховную триаду. И действует он на законных основаниях, если угодно, внимая зову. Как водится, лучше всего содержание зова передал Ницше:
«Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пепел, – но даже огонь утомили мы.
Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить!
“Ах, есть ли еще море, где можно было бы утонуть”: так раздается наша жалоба – над плоскими болотами.
Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть; и мы еще бодрствуем и продолжаем жить – в склепах!»[8 - Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 97.]
Как и во всяком частном метаболизме, на уровне сущего и самого бытия тоже возникают сорные продукты времени. Совокупность таких отходов, конечных продуктов великого метаболизма, представляет собой мертвое – мертвое вообще. Но это мертвое не просыпалось в бездну небытия, а проникло в поры вещей – и продолжает проникать, препятствуя их обновлению и развитию. Хранителю Вишну не под силу предотвратить это неизбежное инфицирование жизнеспособного сущего семенами угасания – в результате ноша его становится все тяжелее, а витальность хранимого все меньше, и дух, который дышит, где он хочет, начинает задыхаться в запыленном и захламленном космосе. Воззвание, адресованное Шиве, постепенно усиливается и становится слышным всем. И бог должен сделать свою работу, она нужна как раз для того, для чего само жертвоприношение нужно.
Вспомним сказанное о самопожертвовании, точнее, об осознанном приношении в жертву самого себя. В этом радикальном акте происходит авторизация мира и собственного положения в нем. Самопожертвование составляет сердцевину героизма, а героизм представляет собой высшую ценность в любом жизнеспособном социуме – во всяком сообществе людей, желающих оставаться людьми. Как и всякая жертва, самопожертвование направлено против анонимных сил, им конституируется суверенность, происходит онтологическое осуществление глагольной формы «я есть», которая, в силу этого, становится вещей.
Еще раз констатируем: все мы смертны и можем умереть, не зная ни дня, ни часа своего. Но можем и выбрать этот час, произведя самую радикальную авторизацию, перестав быть простым смертным и перейдя в разряд героев. Излишне добавлять, что самопожертвование совсем не то же, что суицид, самоубийство от депрессии или отчаяния. Жертвоприношение есть праздник, а депрессия – его противоположность.
Самопожертвование – это опережение неминуемой смертности, замена анонимного личным, авторизованным и в этом смысле оно главный источник суверенности и свободы. Человек жертвующий как бы истребляет все отчужденное, все овеществленное в своей судьбе: в эту категорию попадает и собственное тело, поскольку оно переполнено отходами отработанного времени в виде инертных фракций – привычек, обыкновений, автоматизмов. Решается локальная задача по освобождению от юрисдикции духа тяжести (Ницше), но никто из смертных не может обрушить в бездну весь непомерный балласт «продуктов, отпавших от продуктивности» (Ф. Шеллинг). Такое по силам только Богу, только величайшему из богов. Только он способен решить задачу универсальным образом, и Шива истребляет мир, непоправимо инфицированный семенами усталости, угасания, невразумительности, метастазами мертвого, которые настолько тесно сплелись с жизнеспособными потоками времени, что отделить их каким-то иным, более щадящим образом невозможно. Ложка дегтя просочилась в каждую бочку меда, и даже в каждой ложке меда присутствуют следы надломленности и усталости.
К кому претензии? К Вишну, за то, что он не смог сохранить врученное ему юное творение? К Брахме, за то, что создал мир таким?
Шива не спрашивает, он приступает к исполнению своей незаменимой роли в судьбе творения. Быть может, и вправду есть случаи, когда гильотина – лучшее средство от головной боли, от нестерпимой боли и непоправимого помутнения разума – и случай Шивы именно таков. Он приступает к своей работе не как к работе, а как к мистерии, к вселенскому празднику жертвоприношения. Как можно описать этот гибельный танец, хотя бы в основных чертах? Ницше говорит о «праздничной жестокости» варварского и античного мира, задуманной как «фестивали для богов», – ибо кто из смертных способен найти подходящую точку обзора?[9 - Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 448–449.] Понятно, что это тем более относится к величайшему из возможных фестивалей.
Дело можно представить так. Истребляя отягощенное сущее слой за слоем, Шива выбирает подходящие танцевальные движения. Иногда это что-то похожее на вальс, заставляющий сгруппироваться осевшую в порах вещей усталость (а к началу танца у большинства вещей уже нет другой опоры). Порой Шива напоминает танцующего дервиша: стремительно вращаясь на одном месте, он как алмазный бур сверлит воронку, через которую бездна могла бы поглотить бесчисленные залежи пустой породы – и сама порода могла бы, наконец, провалиться. А иногда это воистину танец канатоходца, описанный Ницше, – с неожиданными пируэтами, с шестом, выполняющим роль знака вычитания – вычитания того, что прямо сейчас отправится в небытие. И это едва ли не все, что можно представить в трехмерном пространстве.
Зададимся теперь вопросом: каковы могут или должны быть результаты разрушительного танца Шивы, что в сухом остатке, или, говоря словами Хайдеггера, будет ли это нечто или вообще ничто?
Тут все зависит от того, как посмотреть. Говоря в общих чертах, мир должен быть возвращен к той развилке, где еще не началось непоправимое накопление «осадочных пород», метастазов роковой усталости от существования. И пока эта развилка не будет достигнута в противоходе, танец не прекратится. Лучше зайти за край, чем оставить какие-то зацепки (вирусы) даже не в вещах – они-то все отправятся в бездну небытия, тут без вопросов, – а в самом принципе овеществления. Говоря проще, после танца Бога не должно остаться в мире ничего материального. Но это не значит, что вообще ничего. То, что останется, лучше всего определить как готовность к созиданию, высшую форму требовательности уже иного зова, на который придется откликнуться самому Брахме: и это будет предложение, от которого он не сможет отказаться. Вытекает ли из этого спекулятивного описания смысл жертвоприношения? Отчасти да, ибо здесь имеется самое прямое указание на его космологический порядок.
Христианские параллели
Как в Ветхом, так и в Новом Завете жертвоприношение служит для объяснения важнейших деяний Бога, предстает как основание для богоизбранности, как непременное условие соглашения, – но объяснения самого жертвоприношения мы не найдем в Библии. То, что объясняет все остальное, оставлено без объяснения.
Отчасти на помощь приходит пресловутый герменевтический круг, когда существенные или скорее даже сущностные обстоятельства жертвоприношения поясняют его демиургическую роль, при том что глубинные космологические корреляты все еще остаются разрозненными до тех пор, пока первенец не возведен на алтарь Всесожжения.
Вокруг двух жертвоприношений, Авеля и Авраама, выстроен первоначальный, Ветхий Завет. Сутью Нового Завета (и христианства в целом) является жертва Иисуса, учреждающая свободу воли и упраздняющая слепоту смерти. И вызревает некий провокационный вопрос: а нет здесь сходства с деянием Шивы?
Бог-терминатор уничтожает мир, необратимо и непоправимо отравленный отходами собственной жизнедеятельности, перенасыщенный несмываемыми следами поражений, неудач, ошибочных выборов… Согласно христианской эсхатологии, мир лежит во грехе, при этом грехи суммируются, а освобождение от них откладывается вплоть до грядущей великой чистки. Кое-что удается «смыть» при жизни, но все же каждое поколение добавляет новый пласт не смытых грехов – они, вероятно, выполняют роль помех, в связи с чем все труднее становится устанавливать надежную связь с трансцендентным: сужается зона непосредственной слышимости Бога, причем в оба конца. И ему все хуже слышны молитвы смертных, и людям – его повеления. Европейская метафизика, разумеется, отмечает этот факт, определяя его как смерть Бога (Ницше), прогрессирующее забвение Бытия (Хайдеггер) или нарастающую богооставленность[10 - См.: Секацкий А. Онтология лжи. – СПб.: Трактат, 2017.]. Накопление или, лучше сказать, загрязнение (ползучее омертвление) будет прогрессировать вплоть до Второго пришествия. А затем начнется Армагеддон, призванный отделить спасаемое от неспасаемого, что и является общим смыслом всех перечисляемых фильтраций: зерна от плевел, агнцев от козлищ и так далее.
В чем же отличие Второго пришествия Иисуса от очередного выхода Шивы на авансцену, случающегося в конце калиюги? И психологически, и экзистенциально решающее различие видится, конечно, в том, что жертвоприношение Иисуса было самым радикальным в истории – именно поэтому, в отличие от Иисуса, Шива вынужден совершать свой танец снова и снова.
Но задержимся пока на моменте общности и единства. Обратим, прежде всего, внимание на то, что ни Брахма, ни Иегова и вообще никто из богов не может сотворить вечный, не подверженный времени мир. Говоря конкретнее, никому не под силу создать мир, который бы не портился, не накапливал в себе следов коррупции (в самом широком смысле, совпадающем с латинским corruption – «ржавление», «порча»), болезни, усталости, метастазы угасания, неважно, назовем ли мы их грехами или как-то иначе. Как заметил еще фон Икскюль, смерть есть главное сущностное свойство всего живого.
Соответственно, во многих космогониях была отслежена или интуитивно постигнута единственно возможная превентивная мера, которая в самой краткой и самой христианской форме звучит так: «Смертью смерть поправ». И мы можем переписать ее в качестве столь же универсального совета, если отчаявшийся хранить мир бог спросит, что делать. Смертью смерть поправь! – вот что можно ему посоветовать – и это значит: сработай на опережение или все пропало. Вообще все. Правка, вносимая жертвенной смертью, собственно, и оказывается главной очистительной процедурой, единственным действенным средством обновления мира вплоть до самых его основ. С тем, что христианство обновило мир, никто, кажется, и не спорил, даже Ницше. Действительно, последние стали первыми, камень, отброшенный строителями, был поставлен во главу угла. Однако не проясненной остается роль Голгофы в этом обновлении, жертва Иисуса и обретенная свобода его последователей. Вот что пишет об этом Питер Браун, ведущий современный историк христианства:
«Аскетическое движение, само понятие девственности, понятие целибата были загромождены массой нынешних предрассудков, история начинается с того, что избавляется от таких вещей. Сразу от всего – начиная с описаний монашеской жизни, которые дает Эдвард Гиббон, – и вплоть до относительно современных сочинений. От всего этого надо избавиться. Это первое. Вторым ходом ты говоришь себе: хорошо, от всех этих предрассудков ты избавился, замечательно. Но о чем же там речь шла на самом деле? И мне по ходу дела становилось ясно, что речь в аскетическом движении шла, главным образом, о свободе. Каковы пределы человеческой свободы? До какой степени человек может изменить свою природу? Является сексуальность чем-то обыденным, что надо просто уважать? Нужно ли относиться с подозрением или даже с презрением к любой попытке от нее отказаться? Или там есть нечто большее?»[11 - Браун Питер. Неторопливые размышления об ином. Интервью Rigas Laiks, 2016, весна. См. также: Peter Brown. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. Californian University Press, 1988.]
Именно так. Целибат и монашество в раннем христианстве – это проба высокой свободы, подражание Иисусу, воистину даровавшему такую свободу.
Но между вселенским жертвоприношением и вторым пришествием лежит целая толща времен. Ресурсы обновления постепенно расходуются, мельчает и сама свобода в смысле неуклонного сокращения ее диапазона: сегодня любой «свободный выбор» строится по модели потребительского выбора между равноценными товарами. Ситуация и вправду дошла до той точки, которую пророчески описал Ницше: земля хочет треснуть, но бездна не хочет ее поглотить.
Итак, своей жертвой Иисус санкционировал свободу воли, но он не мог гарантировать автоматического очищения всей толщи времен. Следовательно, и перед ним встает проблема отделить овнов (агнцев) от козлищ, спасенное и подлежащее спасению от того, что уже не спасаемо свыше. Отсюда и неизбывная близость Армагеддона к танцу Шивы – даже если тональность музыки гибели в обоих случаях различна.
Направление главного удара
Еще один вопрос, все еще остающийся неясным, это попытка некой общей атрибуции «материала», приносимого в жертву. Кто и что? Мы уже присмотрелись к самой радикальной очистительной жертве, но она приносится богами, и если и доводится до осознания смертных, то без объяснения причин. А как обстоит дело для самих смертных, что служит их высшим экзистенциальным деянием? Материалы антропологии, конечно, немало сообщают нам на этот счет: первенцы, невинные девушки, овны, агнцы, быки, кое-что из военной и охотничьей добычи, кое-что от тука земли. Ассортимент такого рода и критерии отбора исследованы достаточно подробно и хорошо.
Но есть веские основания полагать, что какая-то существенная часть жертвенного ассортимента остается не-проясненной. Эта темная, или тайная, жертвенная практика, отдаленно (и, конечно, крайне приблизительно) напоминающая известное изречение «бей своих, чтобы чужие боялись». Более того, используя внешне иронический и глубинно эзотерический план, свою версию выдвинул Пелевин в повести «Омон Ра». Что должен принести в жертву космонавт, перед тем как выйти в просторы космоса, какую инициацию ему нужно пройти?
У Пелевина он должен подвергнуться ампутации, лишиться ног – и тогда космос примет его как своего праведного обитателя. Вроде бы смешно. Но вот уж воистину тот самый случай, когда продолжать смеяться легче, чем закончить смех. Великий русский космист Николай Федоров отказался от семьи и налаженного быта, спал на сундуке и обычной его едой был чай с размоченными пряниками. Но жил он в космосе и описывал хороводы планет, которые будут устраиваться во имя воскрешения мертвых. Как если бы космос распахнул ему свои просторы – тут даже не скажешь: в обмен на повседневный комфорт, отказ от которого был всего лишь минимальным условием, – скорее, в ответ на то, что близкородственное и частное было принесено в жертву дальнородственному и универсальному… Но ведь и глухой Циолковский, слышавший зов далекого и самого дальнего, и многие другие причастные к космонавтике, быть может, наиболее пламенные из них, прошли через самопожертвование – и были допущены, и космос приоткрылся пред ними. В конце концов жертву принесло и все человечество, и все общество – светское общество, многим материальным пожертвовавшее во имя космонавтики, пожертвовавшее добровольно и без сожаления.
Но оставим пока эту тему. Важнее всего здесь универсальный принцип: близкое отвергается ради далекого и свое собственное ради иного. Насчет универсализма, конечно, возможны поправки и даже, если угодно, ограничения: речь идет именно о так устроенных мирах, то есть о мирах жертвенно-аскетических, если прибегнуть к дальновидной терминологии Ницше. Тем самым предполагается представление и о мирах иного типа, вроде астрономических объектов, среди которых есть квазары, пульсары, белые карлики…
Казалось бы, откуда можно получить представления о других мирах и их устройстве, тем более если различие проходит по решающему параметру основы жизни и созидания? Допустим, наш мир принадлежит к жертвенно-аскетическим – откуда тогда мы можем знать об иных принципах мироустройства?
Но дело обстоит еще сложнее и запутаннее. Земля, несомненно, «аскетическая планета», а жертвоприношение есть важнейшая долгосрочная причина вочеловечивания, сила, противостоящая и препятствующая угасанию. Однако при этом, будучи ярко выраженным миром жертвенного типа, земля еще и замаскирована под мир сплошного имманентного пользоприношения. На все лады мы слышим распевы о том, что деньги правят миром и люди гибнут за металл… И рассказы о тех, кто за копейку удавится. Более того, представитель инопланетной цивилизации, которому довелось бы посетить сей мир, поначалу согласился бы, что это мир, где пользоприношение является важнейшим межчеловеческим отношением. Потребовалось бы хорошенько осмотреться и присмотреться, пожить среди людей, чтобы правильно определить действительно господствующую силу, чтобы убедиться, что участки пользоприношения (например, корыстного добра) были однажды учреждены великими жертвоприношениями, актами благородного добра. Тотальное пользоприношение относится, безусловно, к порядку явлений, к категории видимости и иновидимости.
Практически нет сомнений, что первым в этой практике будет именно живописец, так сказать, представитель изобразительного искусства. Но за ним последуют режиссеры, музыканты, поэты и писатели; всем видам искусства предстоит найти способы причастности к жертвенной практике. Музыканты могут сыграть сочинение какого-нибудь великого композитора в звуконепроницаемом зале, где их никто не услышит, кроме Бога, и время от времени им придется возобновлять исполнение в пустоте, ибо именно для такого исполнения будет предназначено жертвенное приношение композитора и их собственное.
Для поэтов и писателей можно было бы предусмотреть самоуничтожающуюся бумагу, чтобы книга в определенный момент рассыпалась в прах – но наличие электронных носителей лишает этот жест подлинной радикальности. Быть может, действенным окажется обет молчания, добровольно принятый на себя поэтом, скажем, сроком на год. А для писателя – быть может, нечто подобное тому, что описал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», – пересоздание уже созданных произведений, где в жертву приносится собственное время и, так сказать, души прекрасные порывы. Необходимость причастности и тяга к жертвенности станут очевидными, когда художник начнет обретать свободу (например, свободу от товарной формы и пользоприношения вообще), а само искусство вновь начнет набирать мощь и созидательный потенциал.
Ну а музеи – представим себе, что они раз в год осуществляют жертвоприношение одной из драгоценных единиц хранения. Представим галереи и выставочные залы, где помимо вернисажей есть и день причастности к всесожжению символического – и не обязательно сам художник должен решать, что именно из его приношений потребуют боги. Ему достаточно знать, что боги жаждут, и надеяться на то, что когда-нибудь, быть может в этот раз, Бог отведет руку с поднесенным факелом.
Только так может быть восстановлено право на священнодействие, и как только оно будет восстановлено, появятся совершенно четкие отличия искусства от попсы: искусство присоединено к жертвенной практике, а попса от нее принципиально отключена. Художник может лишиться и любимого детища, и самой жизни, поскольку в священнодействии есть воистину опасные участки. Но шоумен сохранен и сбережен в гегелевском смысле, все, чем он рискует, это выйти из моды. А подлинный художник рискует еще и тем, что его жертва может оказаться и неугодной…
Символ христианства
Уже было дано вытекающее из жертвенной практики определение божественного: право отвергнуть принесенную тебе жертву уже после того, как она принесена. Установили мы также, что если подобным образом поступают люди по отношению друг к другу, то это либо вероломство, которому нет прощения, либо любовь – отвергнутая, но не нуждающаяся в прощении, и потому божественная.
Бог волен призреть или не призреть принесенную жертву, это его привилегия. Но богам случалось приносить в жертву и самих себя – вспомним, опять же, скандинавскую мифологию. Но воистину покорил мир самым радикальным жертвоприношением другой бог. Это Иисус, Господь наш. Он принес себя в жертву людям – и так был введен в действие величайший созидательный потенциал, значительно превышающий возможности созидания, даваемые принятой, одобренной богами жертвой смертных. Но это еще не все: совершив собственное жертвоприношение во имя смертных, претерпев муки на кресте, Иисус оставил каждому возможность принять или отвергнуть эту жертву. Так было задано онтологическое и теологическое основание свободы – разумеется, не в смысле свободного поднятия руки и не в смысле Эпикурова клинамена. Произошедшее называется так: он сотворил человека свободным, и сделать это, сотворить человека свободным, можно только встречным жертвоприношением, которое он, свободный, как раз в этот момент может и не принять. Если сотворение человека есть непрерывный демиургический акт, то его сотворение свободным происходит на Голгофе – и продолжает происходить.
2017
2. Танец Шивы
Продолжая исследовать метафизику жертвоприношения, подойдем к теме с несколько иной стороны. Мы выяснили, что жертва должна быть положена в основание, чтобы постройка стояла прочно и устои не рухнули. Но все еще остается неясным, почему это так. Факт жертвоприношения многое объясняет в человеческом мире, важнейшие вещи опираются на жертвенную практику. Но на что само жертвоприношение опирается и есть ли смысл в подобном вопросе?
Далее: что есть сила духа? Для чего требуется танец Шивы? Почему невозможно творение без обратной связи и что есть в корне эта обратная связь? Таковы поставленные навскидку вопросы, и вполне вероятно, что вопросы, возникающие по ходу их разрешения, могут оказаться еще более насущными и важными.
Музыка гибели и танец смерти
Важнейшая функция бога Шивы, третьего из великой триады, состоит в том, чтобы разрушать мир. Сразу же возникает вопрос: а разве с этим незамысловатым делом сам мир не справится? Разве не начнет он естественным порядком рассыпаться и разрушаться, будучи предоставленным самому себе?
Мировая философия от Гераклита до Хайдеггера дала внятный ответ на этот вопрос: бытие к смерти и обреченность на существование суть две стороны одной медали. Всякая инерция ведет к мерзости запустения и представляет собой лишь отсрочку, какой бы почтенный срок эта отсрочка ни длилась.
Лучше всего это известно самому Шиве, ведь его ближайший соратник Вишну занимается как раз тем, что мир хранит. Он хранит каждое мгновение длительности мира изо всех сил, и не исключено, что степень его собранности, самоотдачи даже и не снилась ни созидателю Брахме, ни разрушителю Шиве. И все же получается, что миссия не выполнима. Она точно невыполнима в полном объеме, иначе без Шивы можно было бы и обойтись.
Здесь возникает парадокс, с которым предстоит разобраться. Если созданный или возникший мир обладает инерцией самосохранения или может быть удержан усилиями Хранителя – тогда или Шива не нужен, или усилия Хранителя будут направлены на предотвращение его вмешательства. Но дело обстоит так, что Вишну собственной волей и в свой черед уступает место разрушителю Шиве с одобрения Брахмы и, возможно, всех тех, кто склонен наслаждаться завораживающими движениями истребительного танца.
Но если мир не поддается сохранению, несмотря на все усилия, и сам стремится к гибели, то ведь получается, что Шива тем более не нужен. Работа разрушения будет выполнена и без его участия. Чтобы разрешить парадокс, у нас нет другого выхода, кроме как предположить, что разрушение разрушению рознь, и для подобающего истребления сущего нужен не просто особый агент, а особый бог, входящий в верховную триаду. И действует он на законных основаниях, если угодно, внимая зову. Как водится, лучше всего содержание зова передал Ницше:
«Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пепел, – но даже огонь утомили мы.
Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить!
“Ах, есть ли еще море, где можно было бы утонуть”: так раздается наша жалоба – над плоскими болотами.
Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть; и мы еще бодрствуем и продолжаем жить – в склепах!»[8 - Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 97.]
Как и во всяком частном метаболизме, на уровне сущего и самого бытия тоже возникают сорные продукты времени. Совокупность таких отходов, конечных продуктов великого метаболизма, представляет собой мертвое – мертвое вообще. Но это мертвое не просыпалось в бездну небытия, а проникло в поры вещей – и продолжает проникать, препятствуя их обновлению и развитию. Хранителю Вишну не под силу предотвратить это неизбежное инфицирование жизнеспособного сущего семенами угасания – в результате ноша его становится все тяжелее, а витальность хранимого все меньше, и дух, который дышит, где он хочет, начинает задыхаться в запыленном и захламленном космосе. Воззвание, адресованное Шиве, постепенно усиливается и становится слышным всем. И бог должен сделать свою работу, она нужна как раз для того, для чего само жертвоприношение нужно.
Вспомним сказанное о самопожертвовании, точнее, об осознанном приношении в жертву самого себя. В этом радикальном акте происходит авторизация мира и собственного положения в нем. Самопожертвование составляет сердцевину героизма, а героизм представляет собой высшую ценность в любом жизнеспособном социуме – во всяком сообществе людей, желающих оставаться людьми. Как и всякая жертва, самопожертвование направлено против анонимных сил, им конституируется суверенность, происходит онтологическое осуществление глагольной формы «я есть», которая, в силу этого, становится вещей.
Еще раз констатируем: все мы смертны и можем умереть, не зная ни дня, ни часа своего. Но можем и выбрать этот час, произведя самую радикальную авторизацию, перестав быть простым смертным и перейдя в разряд героев. Излишне добавлять, что самопожертвование совсем не то же, что суицид, самоубийство от депрессии или отчаяния. Жертвоприношение есть праздник, а депрессия – его противоположность.
Самопожертвование – это опережение неминуемой смертности, замена анонимного личным, авторизованным и в этом смысле оно главный источник суверенности и свободы. Человек жертвующий как бы истребляет все отчужденное, все овеществленное в своей судьбе: в эту категорию попадает и собственное тело, поскольку оно переполнено отходами отработанного времени в виде инертных фракций – привычек, обыкновений, автоматизмов. Решается локальная задача по освобождению от юрисдикции духа тяжести (Ницше), но никто из смертных не может обрушить в бездну весь непомерный балласт «продуктов, отпавших от продуктивности» (Ф. Шеллинг). Такое по силам только Богу, только величайшему из богов. Только он способен решить задачу универсальным образом, и Шива истребляет мир, непоправимо инфицированный семенами усталости, угасания, невразумительности, метастазами мертвого, которые настолько тесно сплелись с жизнеспособными потоками времени, что отделить их каким-то иным, более щадящим образом невозможно. Ложка дегтя просочилась в каждую бочку меда, и даже в каждой ложке меда присутствуют следы надломленности и усталости.
К кому претензии? К Вишну, за то, что он не смог сохранить врученное ему юное творение? К Брахме, за то, что создал мир таким?
Шива не спрашивает, он приступает к исполнению своей незаменимой роли в судьбе творения. Быть может, и вправду есть случаи, когда гильотина – лучшее средство от головной боли, от нестерпимой боли и непоправимого помутнения разума – и случай Шивы именно таков. Он приступает к своей работе не как к работе, а как к мистерии, к вселенскому празднику жертвоприношения. Как можно описать этот гибельный танец, хотя бы в основных чертах? Ницше говорит о «праздничной жестокости» варварского и античного мира, задуманной как «фестивали для богов», – ибо кто из смертных способен найти подходящую точку обзора?[9 - Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 448–449.] Понятно, что это тем более относится к величайшему из возможных фестивалей.
Дело можно представить так. Истребляя отягощенное сущее слой за слоем, Шива выбирает подходящие танцевальные движения. Иногда это что-то похожее на вальс, заставляющий сгруппироваться осевшую в порах вещей усталость (а к началу танца у большинства вещей уже нет другой опоры). Порой Шива напоминает танцующего дервиша: стремительно вращаясь на одном месте, он как алмазный бур сверлит воронку, через которую бездна могла бы поглотить бесчисленные залежи пустой породы – и сама порода могла бы, наконец, провалиться. А иногда это воистину танец канатоходца, описанный Ницше, – с неожиданными пируэтами, с шестом, выполняющим роль знака вычитания – вычитания того, что прямо сейчас отправится в небытие. И это едва ли не все, что можно представить в трехмерном пространстве.
Зададимся теперь вопросом: каковы могут или должны быть результаты разрушительного танца Шивы, что в сухом остатке, или, говоря словами Хайдеггера, будет ли это нечто или вообще ничто?
Тут все зависит от того, как посмотреть. Говоря в общих чертах, мир должен быть возвращен к той развилке, где еще не началось непоправимое накопление «осадочных пород», метастазов роковой усталости от существования. И пока эта развилка не будет достигнута в противоходе, танец не прекратится. Лучше зайти за край, чем оставить какие-то зацепки (вирусы) даже не в вещах – они-то все отправятся в бездну небытия, тут без вопросов, – а в самом принципе овеществления. Говоря проще, после танца Бога не должно остаться в мире ничего материального. Но это не значит, что вообще ничего. То, что останется, лучше всего определить как готовность к созиданию, высшую форму требовательности уже иного зова, на который придется откликнуться самому Брахме: и это будет предложение, от которого он не сможет отказаться. Вытекает ли из этого спекулятивного описания смысл жертвоприношения? Отчасти да, ибо здесь имеется самое прямое указание на его космологический порядок.
Христианские параллели
Как в Ветхом, так и в Новом Завете жертвоприношение служит для объяснения важнейших деяний Бога, предстает как основание для богоизбранности, как непременное условие соглашения, – но объяснения самого жертвоприношения мы не найдем в Библии. То, что объясняет все остальное, оставлено без объяснения.
Отчасти на помощь приходит пресловутый герменевтический круг, когда существенные или скорее даже сущностные обстоятельства жертвоприношения поясняют его демиургическую роль, при том что глубинные космологические корреляты все еще остаются разрозненными до тех пор, пока первенец не возведен на алтарь Всесожжения.
Вокруг двух жертвоприношений, Авеля и Авраама, выстроен первоначальный, Ветхий Завет. Сутью Нового Завета (и христианства в целом) является жертва Иисуса, учреждающая свободу воли и упраздняющая слепоту смерти. И вызревает некий провокационный вопрос: а нет здесь сходства с деянием Шивы?
Бог-терминатор уничтожает мир, необратимо и непоправимо отравленный отходами собственной жизнедеятельности, перенасыщенный несмываемыми следами поражений, неудач, ошибочных выборов… Согласно христианской эсхатологии, мир лежит во грехе, при этом грехи суммируются, а освобождение от них откладывается вплоть до грядущей великой чистки. Кое-что удается «смыть» при жизни, но все же каждое поколение добавляет новый пласт не смытых грехов – они, вероятно, выполняют роль помех, в связи с чем все труднее становится устанавливать надежную связь с трансцендентным: сужается зона непосредственной слышимости Бога, причем в оба конца. И ему все хуже слышны молитвы смертных, и людям – его повеления. Европейская метафизика, разумеется, отмечает этот факт, определяя его как смерть Бога (Ницше), прогрессирующее забвение Бытия (Хайдеггер) или нарастающую богооставленность[10 - См.: Секацкий А. Онтология лжи. – СПб.: Трактат, 2017.]. Накопление или, лучше сказать, загрязнение (ползучее омертвление) будет прогрессировать вплоть до Второго пришествия. А затем начнется Армагеддон, призванный отделить спасаемое от неспасаемого, что и является общим смыслом всех перечисляемых фильтраций: зерна от плевел, агнцев от козлищ и так далее.
В чем же отличие Второго пришествия Иисуса от очередного выхода Шивы на авансцену, случающегося в конце калиюги? И психологически, и экзистенциально решающее различие видится, конечно, в том, что жертвоприношение Иисуса было самым радикальным в истории – именно поэтому, в отличие от Иисуса, Шива вынужден совершать свой танец снова и снова.
Но задержимся пока на моменте общности и единства. Обратим, прежде всего, внимание на то, что ни Брахма, ни Иегова и вообще никто из богов не может сотворить вечный, не подверженный времени мир. Говоря конкретнее, никому не под силу создать мир, который бы не портился, не накапливал в себе следов коррупции (в самом широком смысле, совпадающем с латинским corruption – «ржавление», «порча»), болезни, усталости, метастазы угасания, неважно, назовем ли мы их грехами или как-то иначе. Как заметил еще фон Икскюль, смерть есть главное сущностное свойство всего живого.
Соответственно, во многих космогониях была отслежена или интуитивно постигнута единственно возможная превентивная мера, которая в самой краткой и самой христианской форме звучит так: «Смертью смерть поправ». И мы можем переписать ее в качестве столь же универсального совета, если отчаявшийся хранить мир бог спросит, что делать. Смертью смерть поправь! – вот что можно ему посоветовать – и это значит: сработай на опережение или все пропало. Вообще все. Правка, вносимая жертвенной смертью, собственно, и оказывается главной очистительной процедурой, единственным действенным средством обновления мира вплоть до самых его основ. С тем, что христианство обновило мир, никто, кажется, и не спорил, даже Ницше. Действительно, последние стали первыми, камень, отброшенный строителями, был поставлен во главу угла. Однако не проясненной остается роль Голгофы в этом обновлении, жертва Иисуса и обретенная свобода его последователей. Вот что пишет об этом Питер Браун, ведущий современный историк христианства:
«Аскетическое движение, само понятие девственности, понятие целибата были загромождены массой нынешних предрассудков, история начинается с того, что избавляется от таких вещей. Сразу от всего – начиная с описаний монашеской жизни, которые дает Эдвард Гиббон, – и вплоть до относительно современных сочинений. От всего этого надо избавиться. Это первое. Вторым ходом ты говоришь себе: хорошо, от всех этих предрассудков ты избавился, замечательно. Но о чем же там речь шла на самом деле? И мне по ходу дела становилось ясно, что речь в аскетическом движении шла, главным образом, о свободе. Каковы пределы человеческой свободы? До какой степени человек может изменить свою природу? Является сексуальность чем-то обыденным, что надо просто уважать? Нужно ли относиться с подозрением или даже с презрением к любой попытке от нее отказаться? Или там есть нечто большее?»[11 - Браун Питер. Неторопливые размышления об ином. Интервью Rigas Laiks, 2016, весна. См. также: Peter Brown. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. Californian University Press, 1988.]
Именно так. Целибат и монашество в раннем христианстве – это проба высокой свободы, подражание Иисусу, воистину даровавшему такую свободу.
Но между вселенским жертвоприношением и вторым пришествием лежит целая толща времен. Ресурсы обновления постепенно расходуются, мельчает и сама свобода в смысле неуклонного сокращения ее диапазона: сегодня любой «свободный выбор» строится по модели потребительского выбора между равноценными товарами. Ситуация и вправду дошла до той точки, которую пророчески описал Ницше: земля хочет треснуть, но бездна не хочет ее поглотить.
Итак, своей жертвой Иисус санкционировал свободу воли, но он не мог гарантировать автоматического очищения всей толщи времен. Следовательно, и перед ним встает проблема отделить овнов (агнцев) от козлищ, спасенное и подлежащее спасению от того, что уже не спасаемо свыше. Отсюда и неизбывная близость Армагеддона к танцу Шивы – даже если тональность музыки гибели в обоих случаях различна.
Направление главного удара
Еще один вопрос, все еще остающийся неясным, это попытка некой общей атрибуции «материала», приносимого в жертву. Кто и что? Мы уже присмотрелись к самой радикальной очистительной жертве, но она приносится богами, и если и доводится до осознания смертных, то без объяснения причин. А как обстоит дело для самих смертных, что служит их высшим экзистенциальным деянием? Материалы антропологии, конечно, немало сообщают нам на этот счет: первенцы, невинные девушки, овны, агнцы, быки, кое-что из военной и охотничьей добычи, кое-что от тука земли. Ассортимент такого рода и критерии отбора исследованы достаточно подробно и хорошо.
Но есть веские основания полагать, что какая-то существенная часть жертвенного ассортимента остается не-проясненной. Эта темная, или тайная, жертвенная практика, отдаленно (и, конечно, крайне приблизительно) напоминающая известное изречение «бей своих, чтобы чужие боялись». Более того, используя внешне иронический и глубинно эзотерический план, свою версию выдвинул Пелевин в повести «Омон Ра». Что должен принести в жертву космонавт, перед тем как выйти в просторы космоса, какую инициацию ему нужно пройти?
У Пелевина он должен подвергнуться ампутации, лишиться ног – и тогда космос примет его как своего праведного обитателя. Вроде бы смешно. Но вот уж воистину тот самый случай, когда продолжать смеяться легче, чем закончить смех. Великий русский космист Николай Федоров отказался от семьи и налаженного быта, спал на сундуке и обычной его едой был чай с размоченными пряниками. Но жил он в космосе и описывал хороводы планет, которые будут устраиваться во имя воскрешения мертвых. Как если бы космос распахнул ему свои просторы – тут даже не скажешь: в обмен на повседневный комфорт, отказ от которого был всего лишь минимальным условием, – скорее, в ответ на то, что близкородственное и частное было принесено в жертву дальнородственному и универсальному… Но ведь и глухой Циолковский, слышавший зов далекого и самого дальнего, и многие другие причастные к космонавтике, быть может, наиболее пламенные из них, прошли через самопожертвование – и были допущены, и космос приоткрылся пред ними. В конце концов жертву принесло и все человечество, и все общество – светское общество, многим материальным пожертвовавшее во имя космонавтики, пожертвовавшее добровольно и без сожаления.
Но оставим пока эту тему. Важнее всего здесь универсальный принцип: близкое отвергается ради далекого и свое собственное ради иного. Насчет универсализма, конечно, возможны поправки и даже, если угодно, ограничения: речь идет именно о так устроенных мирах, то есть о мирах жертвенно-аскетических, если прибегнуть к дальновидной терминологии Ницше. Тем самым предполагается представление и о мирах иного типа, вроде астрономических объектов, среди которых есть квазары, пульсары, белые карлики…
Казалось бы, откуда можно получить представления о других мирах и их устройстве, тем более если различие проходит по решающему параметру основы жизни и созидания? Допустим, наш мир принадлежит к жертвенно-аскетическим – откуда тогда мы можем знать об иных принципах мироустройства?
Но дело обстоит еще сложнее и запутаннее. Земля, несомненно, «аскетическая планета», а жертвоприношение есть важнейшая долгосрочная причина вочеловечивания, сила, противостоящая и препятствующая угасанию. Однако при этом, будучи ярко выраженным миром жертвенного типа, земля еще и замаскирована под мир сплошного имманентного пользоприношения. На все лады мы слышим распевы о том, что деньги правят миром и люди гибнут за металл… И рассказы о тех, кто за копейку удавится. Более того, представитель инопланетной цивилизации, которому довелось бы посетить сей мир, поначалу согласился бы, что это мир, где пользоприношение является важнейшим межчеловеческим отношением. Потребовалось бы хорошенько осмотреться и присмотреться, пожить среди людей, чтобы правильно определить действительно господствующую силу, чтобы убедиться, что участки пользоприношения (например, корыстного добра) были однажды учреждены великими жертвоприношениями, актами благородного добра. Тотальное пользоприношение относится, безусловно, к порядку явлений, к категории видимости и иновидимости.