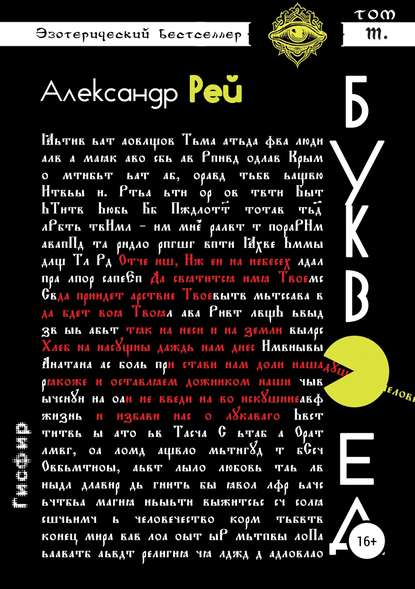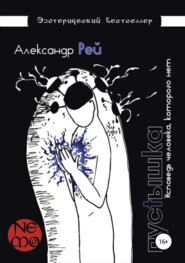По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Буквоед
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Буквоед
Александр Рей
"Магия – это не чудо, а всего лишь физика. Бог – это не любовь, а просто голодная, эгоистичная сволочь. Дьявол – это не зло, как принято считать, а несчастная жертва обмана. А еще… пока ты спишь и беззаботно прожигаешь жизнь, мир подошел к черте, за которой ничего нет. Ты всего в шаге от забвения и даже не подозреваешь об этом. Какой есть выход?!Его нет! Но попробуй найти Буквоеда… Это твой последний шанс".Обложка создана автором.
Часть I. Передай привет Алисе
– Дорогой Чеширский котик, – сказала Алиса, тщательнейшим образом выписывая реверанс. – Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
– А-а… куда ты хочешь попасть? – вместо ответа спросил он, поудобнее улёгшись на ветке.
– А мне всё равно! Только попасть бы куда-нибудь…
– М-м… Тогда всё равно, куда идти, – немного поразмыслив, произнёс кот. – Куда-нибудь да обязательно попадёшь, но нужно только долго идти и никуда… не-е… сворачивать.
“Алиса в стране чудес”
Киевнаучфильм, 1981
Я, как обычно сижу, на диване у окна в моей комнате. Заранее включённая акустика выдыхает кельтские мотивы – виолончель в дуэте с фортепьяно. Мои глаза закрыты, благодаря чему я полностью погружаюсь в мелодию, которая прохладной волной касается моей кожи, проникает под неё, чтобы устремиться в ту точку, где зарождаются все чувства. Грудная клетка ровно посредине, рядышком с сердцем, наполняется удивительной энергией – исцеляющей, мощной, божественной. Сейчас я наполняюсь самой жизнью, чтобы затем воплотить её, бушующую внутри меня, в строках на бумаге.
Прикладываю ручку, пока прикрытую колпачком, ко лбу. Пальцами одной руки держусь за один конец, а другой – за противоположный. Со стороны можно подумать, что я молюсь. Но это совсем не так. В голову, прежде свободную от всяких мыслей, я, словно в фотоальбом, помещаю образы всего, о чём хочу написать. Вспоминаю то, что видел сам, или то, что для меня отсняли помощники.
Часто картины из памяти пугают. Всё самое страшное, что есть в человеке, худшие из бед переплетаются в моем отяжелевшем сознании. Я хочу избавиться от этой боли, открыть глаза, встряхнуть головой, будто и не было только что во мне смертей, разрушений и горя. «Чур, меня, чур!» Но я силой сдерживаю ЭТО в себе. Меня может тошнить и может хотеться выплюнуть дрянную мерзость из себя, но я терплю… И тогда хранящаяся в груди музыка перетекает в голову, чтобы окружить непроницаемой оболочкой страшные образы. Они сливаются, превращаясь во что-то ИНОЕ, будто и вовсе не принадлежащее мне. Именно в тот самый момент, когда белый туман мелодии преображается в чувства, смешиваясь с яркими красками памяти, я открываю глаза.
Открываю ручку и пишу… пишу… бесконечно долго вывожу слова на бумаге, соединяю их в предложения. Из головы эти густо-радужные цвета перетекают по руке, через кисть, к кончику ручки, чтобы остаться чернильным следом.
Может быть, мне кажется, но каждый раз, когда я пишу, вокруг ручки будто плавится воздух, как бывает в жару над асфальтом. И мир вокруг исчезает. Остаётся лишь кончик пера, мелодия из наушников и непроизнесённые слова.
Так будет продолжаться, пока чувства внутри не иссякнут глубоким высохшим колодцем. Слова заберут всё, что хранилось внутри меня, прихватив и последние остатки сил.
Поставив последнюю на сегодня точку, закрою ручку, как самурай – свой меч. Выключу настольную лампу. С трудом поднимусь, побреду к кровати, чтобы забыться до утра.
Я пишу по ночам…
Мне пятьдесят. Или около того… Точнее сказать не смогу, потому что сам не помню. И вспоминать не хочу. Разговоры о человеческом возрасте вообще мне не нравятся. Тем более о моём. Не потому что боюсь старости – у меня её просто не будет. А потому что уже давно понял, ещё будучи подростком: возраст тела обманчив. Бывает, видишь молодого человека, который выглядит моим ровесником, и ведёт себя так же. И бывает наоборот – перед тобой совсем мальчишка, а опыта на девятерых стариков хватит. Так что…
Про свой возраст мне говорить сложно, потому что я его просто-напросто не знаю. Думаю, что равнодушие к годам – это, как говорят психиатры, такой «защитный механизм». Первые два года я провёл в детском доме (меня оставили у входа, когда мне уже было несколько месяцев), поэтому день моего рождения известен лишь приблизительно – где-то в конце осени – начале зимы. В приюте для проформы записали 31 декабря. Придурки.
Но новогодний день рождения не мешает мне с трудом вспоминать год моего появления на свет. Каждый раз, чтобы назвать точный возраст, мне приходится изрядно поднапрячься. Сначала я перебираю произошедшие тогда в мире события, чтобы всё сопоставить и, наконец, выдать приблизительную дату. «Когда мы космос освоили? В шестьдесят первом. Значит, уже родился – или нет? Может, тогда я ещё даже не родился?» Так каждый раз происходит. Хоть убей, не могу точно вспомнить…
Но с возрастом затруднения только прибавляются. Не выгляжу я на свои года. Если я с незнакомым человеком договорился о встрече в общественном месте, то он обязательно пройдёт мимо. Про трудности с проверкой документов и рассказывать не буду, тут уж вечная беда – под сорок, а то и тридцать пять – ещё куда ни шло… И нет ощущения полувека за плечами… Словно с определенного момента я просто перестал стареть.
В общем, вопрос возраста для меня достаточно болезненный. Для удобства решим, что мне пятьдесят.
Удивительно, но о том случае, который определил моё журналистское будущее, я рассказал Лёше в первый же день знакомства. Подумать только, какому-то случайному пареньку выложил всё подчистую! Вытащил из тайника души самую большую занозу и дал её внимательно рассмотреть. Почему так случилось? Может из-за его необычайной наивности, которой и я «болел» в детстве? В этом мы с ним похожи. Только представлю эту картинку со стороны, сразу смеяться хочется – я, развалившись, чуть ли не на трёх сидениях, скольжу внимательным взглядом по бегущим мимо людям и о чём-то неспешно «повествую» сидящему рядом со мной молодому «мусору». Лёша меня сам поправил, когда я его по привычке ментом назвал. Сказал, это у них среди своих деление такое: те, кто постарше в звании, по кабинетам сидят – это «менты». А те, кто улицы патрулирует и «с народом» дела имеют – те «мусора». Хотя само слово ещё до революции произошло от аббревиатуры МУС – Московский Уголовный Сыск. Раньше так лишь следователей называли, а теперь обидное «мусор» даже среди самой милиции имеет другое значение. Я и не знал.
Не буду гадать, что да почему… Возьму за аксиому свершившийся факт – я раскрылся перед Лёшей, о чём совершенно не жалею. Он задал мне вопрос, который мне задавали тысячи раз – почему я стал журналистом? – и в этот раз хотел ответить какую-то чушь, а сказал правду…
Вспоминать было ужасно больно.
Я тогда отслужил в армии и собирался в университет поступать на историка. Почему на историка? А мне всё равно было куда. Многие поступали в ВУЗы, я и последовал за большинством. Молодой же, дурак-дураком.
В ту пору как раз ехал на «День открытых дверей» факультета получить свою дозу пыли в глаза. Но поездка была чистой формальностью, родители давно решили меня по стопам отца отправить, а я и не сопротивлялся.
Добираться было долго. Сначала – на метро, затем – на автобусе. Я стоял у окна, как обычно в полудрёме ковыряясь в своих мыслях. Вдруг, сам не знаю почему, я «проснулся» – стал вглядываться в лица людей, стараться понять, где я еду и когда уже моя остановка. Тогда-то моё внимание и привлек разговор двух мальчишек.
Они стояли позади меня и очень громко разговаривали, хотя всего минуту назад я ни звука не слышал.
– Ого… где взял? – говорил один голос. Я пока не оборачивался и не мог видеть, кто говорит, но голос принадлежал подростку.
– Где взял, там уже нет, – довольный произведённым эффектом, ответил более грубый голос.
– Она, наверное, бешеных денег стоит?
– Ещё бы! Да и если деньги есть, не каждый найти сможет… Редкость, как-никак!
Тогда я не выдержал и осторожно, как можно более незаметно, обернулся. Два пацанёнка, лет по 13—14, стояли, склонив головы над виниловой пластинкой.
– Дашь послушать? – без особой надежды спросил полноватый румяный паренёк. – Всего на денёк.
– Да, конечно, бери, – легко согласился другой, маленький, щуплый очкарик с совершенно неподходящим ему грубым голосом.
– Что, правда что ли, можно? – не поверил тот своему счастью.
– Правда, правда, – причём это не было великодушием. Малец на самом деле просто решил отдать другу дорогую вещь.
– А родители ругаться не будут? – казалось, полноватый отговаривал щуплого от необдуманного поступка.
– Они в курсе.
– Спасибо большое! Я тебе тогда в четверг отдам, хорошо?
– Хоть в пятницу. Мне всё равно её пока слушать негде…
На этом я снова «уснул» и дальше уже не слушал. Помню только, подумал, что я бы даже лучшему другу зажал столь ценную вещь. Но очкарик, видимо, был не из жадных.
Я благополучно забыл о подслушанном разговоре до пятницы.
В пятницу весь город поразила весть о жестоком убийстве подростка одноклассником из-за какой-то редкой «буржуйской» пластинки. Пухлику, не желающему отдавать собственность обратно, очкарик размозжил голову восьмикилограммовой гантелей. Я не мог знать наверняка – они это или нет – такое в газетах не печатали в те времена. Слухи также не упоминали о внешности ребят. Но всё равно я знал, что это были именно они.
После того случая я больше никогда «не засыпал», внимательно наблюдая за всем, что происходит вокруг меня. Люди в транспорте и на улице, бушующий город, неподвластная природа – всё это стало ощущаться совсем по-другому – одной большой декорацией (лица и тела людей – это всего лишь хорошо сделанные маски и костюмы; городские пейзажи – фанерные обманки; закаты и рассветы – поблагодарите осветителя). Мне казалось, что под верхним слоем всегда находится ещё один – настоящий, скрытый от глаз… И я хотел его увидеть своими глазами, чтобы, наконец, ответить на вопрос, который был «вытатуирован» под веками моих глаз и который мне приходилось видеть каждый раз, когда закрываю глаза: «ПОЧЕМУ?!»
Тогда такой науки, как психология, толком-то и не существовало. Поэтому единственный способ ответить, который я нашёл – стать журналистом. По крайней мере, мне так казалось.
Когда я замолчал, Лёша лишь спросил, буду ли я здесь в следующую субботу. Я ответил, что прихожу сюда каждую неделю. Тогда он встал, простился и ушёл, так и не сказав, что он по этому поводу думает. За что я ему очень благодарен.
В следующую субботу он попросил продолжить рассказ о прошлых событиях.
– Понимаешь, Лёша, – говорил я, как обычно, развалившись на сидениях. – В журналистике всегда соблюдались определённые каноны: как писать, о чём, сколько… То есть контролировалось буквально каждое слово. Я, конечно же, имею в виду времена Союза. Безумная, безжалостная цензура выискивала в каждом слове скрытый смысл и подтекст. Писать можно было только о прекрасной стране во главе с ещё более прекрасной партией или об ужасном Западе – одно из двух. Тот, кто не следовал этим правилам, не мог оставаться журналистом! А меня не интересовала вся эта политика, отношения между странами, власть – в этом не было ответа на мой вопрос. Он был в судьбах людей. И об этом, именно о простых судьбах – о проявлениях настоящего, того, что внутри, а не напоказ, и стал я писать. Нет, не о героизме… не знаю, как объяснить – почитай мои статьи, тогда все поймёшь.
Александр Рей
"Магия – это не чудо, а всего лишь физика. Бог – это не любовь, а просто голодная, эгоистичная сволочь. Дьявол – это не зло, как принято считать, а несчастная жертва обмана. А еще… пока ты спишь и беззаботно прожигаешь жизнь, мир подошел к черте, за которой ничего нет. Ты всего в шаге от забвения и даже не подозреваешь об этом. Какой есть выход?!Его нет! Но попробуй найти Буквоеда… Это твой последний шанс".Обложка создана автором.
Часть I. Передай привет Алисе
– Дорогой Чеширский котик, – сказала Алиса, тщательнейшим образом выписывая реверанс. – Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
– А-а… куда ты хочешь попасть? – вместо ответа спросил он, поудобнее улёгшись на ветке.
– А мне всё равно! Только попасть бы куда-нибудь…
– М-м… Тогда всё равно, куда идти, – немного поразмыслив, произнёс кот. – Куда-нибудь да обязательно попадёшь, но нужно только долго идти и никуда… не-е… сворачивать.
“Алиса в стране чудес”
Киевнаучфильм, 1981
Я, как обычно сижу, на диване у окна в моей комнате. Заранее включённая акустика выдыхает кельтские мотивы – виолончель в дуэте с фортепьяно. Мои глаза закрыты, благодаря чему я полностью погружаюсь в мелодию, которая прохладной волной касается моей кожи, проникает под неё, чтобы устремиться в ту точку, где зарождаются все чувства. Грудная клетка ровно посредине, рядышком с сердцем, наполняется удивительной энергией – исцеляющей, мощной, божественной. Сейчас я наполняюсь самой жизнью, чтобы затем воплотить её, бушующую внутри меня, в строках на бумаге.
Прикладываю ручку, пока прикрытую колпачком, ко лбу. Пальцами одной руки держусь за один конец, а другой – за противоположный. Со стороны можно подумать, что я молюсь. Но это совсем не так. В голову, прежде свободную от всяких мыслей, я, словно в фотоальбом, помещаю образы всего, о чём хочу написать. Вспоминаю то, что видел сам, или то, что для меня отсняли помощники.
Часто картины из памяти пугают. Всё самое страшное, что есть в человеке, худшие из бед переплетаются в моем отяжелевшем сознании. Я хочу избавиться от этой боли, открыть глаза, встряхнуть головой, будто и не было только что во мне смертей, разрушений и горя. «Чур, меня, чур!» Но я силой сдерживаю ЭТО в себе. Меня может тошнить и может хотеться выплюнуть дрянную мерзость из себя, но я терплю… И тогда хранящаяся в груди музыка перетекает в голову, чтобы окружить непроницаемой оболочкой страшные образы. Они сливаются, превращаясь во что-то ИНОЕ, будто и вовсе не принадлежащее мне. Именно в тот самый момент, когда белый туман мелодии преображается в чувства, смешиваясь с яркими красками памяти, я открываю глаза.
Открываю ручку и пишу… пишу… бесконечно долго вывожу слова на бумаге, соединяю их в предложения. Из головы эти густо-радужные цвета перетекают по руке, через кисть, к кончику ручки, чтобы остаться чернильным следом.
Может быть, мне кажется, но каждый раз, когда я пишу, вокруг ручки будто плавится воздух, как бывает в жару над асфальтом. И мир вокруг исчезает. Остаётся лишь кончик пера, мелодия из наушников и непроизнесённые слова.
Так будет продолжаться, пока чувства внутри не иссякнут глубоким высохшим колодцем. Слова заберут всё, что хранилось внутри меня, прихватив и последние остатки сил.
Поставив последнюю на сегодня точку, закрою ручку, как самурай – свой меч. Выключу настольную лампу. С трудом поднимусь, побреду к кровати, чтобы забыться до утра.
Я пишу по ночам…
Мне пятьдесят. Или около того… Точнее сказать не смогу, потому что сам не помню. И вспоминать не хочу. Разговоры о человеческом возрасте вообще мне не нравятся. Тем более о моём. Не потому что боюсь старости – у меня её просто не будет. А потому что уже давно понял, ещё будучи подростком: возраст тела обманчив. Бывает, видишь молодого человека, который выглядит моим ровесником, и ведёт себя так же. И бывает наоборот – перед тобой совсем мальчишка, а опыта на девятерых стариков хватит. Так что…
Про свой возраст мне говорить сложно, потому что я его просто-напросто не знаю. Думаю, что равнодушие к годам – это, как говорят психиатры, такой «защитный механизм». Первые два года я провёл в детском доме (меня оставили у входа, когда мне уже было несколько месяцев), поэтому день моего рождения известен лишь приблизительно – где-то в конце осени – начале зимы. В приюте для проформы записали 31 декабря. Придурки.
Но новогодний день рождения не мешает мне с трудом вспоминать год моего появления на свет. Каждый раз, чтобы назвать точный возраст, мне приходится изрядно поднапрячься. Сначала я перебираю произошедшие тогда в мире события, чтобы всё сопоставить и, наконец, выдать приблизительную дату. «Когда мы космос освоили? В шестьдесят первом. Значит, уже родился – или нет? Может, тогда я ещё даже не родился?» Так каждый раз происходит. Хоть убей, не могу точно вспомнить…
Но с возрастом затруднения только прибавляются. Не выгляжу я на свои года. Если я с незнакомым человеком договорился о встрече в общественном месте, то он обязательно пройдёт мимо. Про трудности с проверкой документов и рассказывать не буду, тут уж вечная беда – под сорок, а то и тридцать пять – ещё куда ни шло… И нет ощущения полувека за плечами… Словно с определенного момента я просто перестал стареть.
В общем, вопрос возраста для меня достаточно болезненный. Для удобства решим, что мне пятьдесят.
Удивительно, но о том случае, который определил моё журналистское будущее, я рассказал Лёше в первый же день знакомства. Подумать только, какому-то случайному пареньку выложил всё подчистую! Вытащил из тайника души самую большую занозу и дал её внимательно рассмотреть. Почему так случилось? Может из-за его необычайной наивности, которой и я «болел» в детстве? В этом мы с ним похожи. Только представлю эту картинку со стороны, сразу смеяться хочется – я, развалившись, чуть ли не на трёх сидениях, скольжу внимательным взглядом по бегущим мимо людям и о чём-то неспешно «повествую» сидящему рядом со мной молодому «мусору». Лёша меня сам поправил, когда я его по привычке ментом назвал. Сказал, это у них среди своих деление такое: те, кто постарше в звании, по кабинетам сидят – это «менты». А те, кто улицы патрулирует и «с народом» дела имеют – те «мусора». Хотя само слово ещё до революции произошло от аббревиатуры МУС – Московский Уголовный Сыск. Раньше так лишь следователей называли, а теперь обидное «мусор» даже среди самой милиции имеет другое значение. Я и не знал.
Не буду гадать, что да почему… Возьму за аксиому свершившийся факт – я раскрылся перед Лёшей, о чём совершенно не жалею. Он задал мне вопрос, который мне задавали тысячи раз – почему я стал журналистом? – и в этот раз хотел ответить какую-то чушь, а сказал правду…
Вспоминать было ужасно больно.
Я тогда отслужил в армии и собирался в университет поступать на историка. Почему на историка? А мне всё равно было куда. Многие поступали в ВУЗы, я и последовал за большинством. Молодой же, дурак-дураком.
В ту пору как раз ехал на «День открытых дверей» факультета получить свою дозу пыли в глаза. Но поездка была чистой формальностью, родители давно решили меня по стопам отца отправить, а я и не сопротивлялся.
Добираться было долго. Сначала – на метро, затем – на автобусе. Я стоял у окна, как обычно в полудрёме ковыряясь в своих мыслях. Вдруг, сам не знаю почему, я «проснулся» – стал вглядываться в лица людей, стараться понять, где я еду и когда уже моя остановка. Тогда-то моё внимание и привлек разговор двух мальчишек.
Они стояли позади меня и очень громко разговаривали, хотя всего минуту назад я ни звука не слышал.
– Ого… где взял? – говорил один голос. Я пока не оборачивался и не мог видеть, кто говорит, но голос принадлежал подростку.
– Где взял, там уже нет, – довольный произведённым эффектом, ответил более грубый голос.
– Она, наверное, бешеных денег стоит?
– Ещё бы! Да и если деньги есть, не каждый найти сможет… Редкость, как-никак!
Тогда я не выдержал и осторожно, как можно более незаметно, обернулся. Два пацанёнка, лет по 13—14, стояли, склонив головы над виниловой пластинкой.
– Дашь послушать? – без особой надежды спросил полноватый румяный паренёк. – Всего на денёк.
– Да, конечно, бери, – легко согласился другой, маленький, щуплый очкарик с совершенно неподходящим ему грубым голосом.
– Что, правда что ли, можно? – не поверил тот своему счастью.
– Правда, правда, – причём это не было великодушием. Малец на самом деле просто решил отдать другу дорогую вещь.
– А родители ругаться не будут? – казалось, полноватый отговаривал щуплого от необдуманного поступка.
– Они в курсе.
– Спасибо большое! Я тебе тогда в четверг отдам, хорошо?
– Хоть в пятницу. Мне всё равно её пока слушать негде…
На этом я снова «уснул» и дальше уже не слушал. Помню только, подумал, что я бы даже лучшему другу зажал столь ценную вещь. Но очкарик, видимо, был не из жадных.
Я благополучно забыл о подслушанном разговоре до пятницы.
В пятницу весь город поразила весть о жестоком убийстве подростка одноклассником из-за какой-то редкой «буржуйской» пластинки. Пухлику, не желающему отдавать собственность обратно, очкарик размозжил голову восьмикилограммовой гантелей. Я не мог знать наверняка – они это или нет – такое в газетах не печатали в те времена. Слухи также не упоминали о внешности ребят. Но всё равно я знал, что это были именно они.
После того случая я больше никогда «не засыпал», внимательно наблюдая за всем, что происходит вокруг меня. Люди в транспорте и на улице, бушующий город, неподвластная природа – всё это стало ощущаться совсем по-другому – одной большой декорацией (лица и тела людей – это всего лишь хорошо сделанные маски и костюмы; городские пейзажи – фанерные обманки; закаты и рассветы – поблагодарите осветителя). Мне казалось, что под верхним слоем всегда находится ещё один – настоящий, скрытый от глаз… И я хотел его увидеть своими глазами, чтобы, наконец, ответить на вопрос, который был «вытатуирован» под веками моих глаз и который мне приходилось видеть каждый раз, когда закрываю глаза: «ПОЧЕМУ?!»
Тогда такой науки, как психология, толком-то и не существовало. Поэтому единственный способ ответить, который я нашёл – стать журналистом. По крайней мере, мне так казалось.
Когда я замолчал, Лёша лишь спросил, буду ли я здесь в следующую субботу. Я ответил, что прихожу сюда каждую неделю. Тогда он встал, простился и ушёл, так и не сказав, что он по этому поводу думает. За что я ему очень благодарен.
В следующую субботу он попросил продолжить рассказ о прошлых событиях.
– Понимаешь, Лёша, – говорил я, как обычно, развалившись на сидениях. – В журналистике всегда соблюдались определённые каноны: как писать, о чём, сколько… То есть контролировалось буквально каждое слово. Я, конечно же, имею в виду времена Союза. Безумная, безжалостная цензура выискивала в каждом слове скрытый смысл и подтекст. Писать можно было только о прекрасной стране во главе с ещё более прекрасной партией или об ужасном Западе – одно из двух. Тот, кто не следовал этим правилам, не мог оставаться журналистом! А меня не интересовала вся эта политика, отношения между странами, власть – в этом не было ответа на мой вопрос. Он был в судьбах людей. И об этом, именно о простых судьбах – о проявлениях настоящего, того, что внутри, а не напоказ, и стал я писать. Нет, не о героизме… не знаю, как объяснить – почитай мои статьи, тогда все поймёшь.