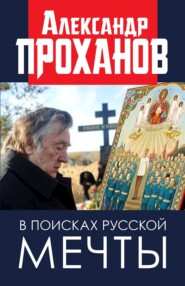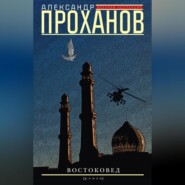По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Гексоген
Год написания книги
2001
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Господин Гексоген
Александр Андреевич Проханов
Последние годы ушедшего века насыщены трагическими событиями, среди которых кровавой строкой выделяется чеченская кампания. Генерал внешней разведки в отставке Виктор Белосельцев оказывается втянутым в политическую войну, пламя которой усердно поддерживают бывшие сотрудники советских спецслужб и чеченские боевики. Продвигая своего человека к вершине власти, организация заговорщиков не брезгует никакими методами, вплоть до массовой казни простых граждан. От генерала Белосельцева требуются титанические усилия, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий. Его взгляд на события новейшей российской истории порой шокирует своей неожиданностью, но оттого книга становится яркой, интересной и увлекательной.
Александр Проханов
Господин Гексоген
Часть I
Операция «Прокурор»
Глава первая
Генерал разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев чувствовал приближение осени по тончайшей желтизне, текущей в бледном воздухе московского утра, словно где-то уронили капельку йода и она растворялась среди фасадов и крыш, просачивалась струйками в форточку, плавала в пятне водянистого солнца, создавая ощущение незримой болезни, поразившей город, его бульвары и здания, жильцов и прохожих, церкви и кремлевские башни и его самого, Белосельцева, недвижно сидящего в негреющем свете затуманенного окна. Туман на стекле был золотисто-зеленый, такой же, как Тверской бульвар, где под липами, у черных стволов, начинали скапливаться озерки опавшей листвы. Ядовитый цвет увядания присутствовал в иконе, с которой осыпалась блеклая позолота нимбов. В коробках с бабочками, терявшими желтую сухую пыльцу. В стакане бледного чая, где преломлялась серебряная ложечка с полустертой фамильной монограммой. Он недвижно сидел, чувствуя, как горькие яды осени, порождая легкое головокружение, втекают в его кровь и дыхание, словно он надкусил черенок осинового листа, желтого, с капелькой бледной лазури. День, который он начинал, не сулил ему встреч и событий, был похож на бледное световое пятно, медленно плывущее над его головой. «О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы…» – повторял он стихотворную строчку, случайно залетевшую в память, трепетавшую там, не в силах улететь, словно бабочка, попавшая в паутину.
Телефонный звонок из гостиной донесся до кабинета и породил ощущение, будто в душе стеклорезом нанесли царапину.
– Виктор Андреевич, прости, что рано потревожил… Это Гречишников… Здесь такое печальное обстоятельство… Умер генерал Авдеев, которому, кажется, именно ты дал прозвище Суахили… Сегодня отпевают… Приходи, Виктор Андреевич, простимся с командиром… Панихида в одиннадцать… Хочу тебя повидать…
Еще несколько слов, произнесенных знакомым голосом, слабо дребезжащим, словно стакан в подстаканнике на столике идущего поезда. Царапина в душе, оставленная телефонным звонком. И болезненное изумление – застрявшая в памяти гумилевская строчка об Африке и небесных серафимах превратилась в известие о кончине старого генерала разведки, отправлявшего его, Белосельцева, в Мозамбик и Анголу, а теперь лежащего в русской церкви под блеклой фреской с шестикрылым небесным духом.
Он рассеянно думал, что природа необъяснимых совпадений связана с невидимыми свершениями, осуществляемыми вне человеческого разумения. Оставаясь неразгаданными и непознанными, они лишь временами попадают в поле зрения, словно мелькнувший под фонарем кусочек стены, мимо которой промчался по ночным непроглядным пространствам скоростной поезд.
Суахили был первоклассный разведчик, энтомолог, этнограф. Напоминал своей эрудицией офицеров царского Генерального штаба, которые наносили на карты речные броды, горные тропы, колодцы в пустынях, предвосхищая прохождение войск. Одновременно описывали нравы туземных племен, собирали гербарии, коллекционировали минералы, оставляя после себя изыскания, украшавшие библиотеки университетов и академий.
Суахили в бельгийском Конго ловил бабочек вблизи ракетодрома в джунглях, откуда запускались французские ракеты средней дальности. Захватывал в прозрачную кисею сачка редкие экземпляры африканских нимфалид и сатиров, при этом снимая баллистические характеристики ракет, беря пробы грунта, засекая время отсечки двигателей. Он был обстрелян, попал в контрразведку французов, наполовину потерял рассудок от пыток и через пять лет тюрьмы был обменен на агента французов, внедренного в военно-морской флот Югославии. Он, Суахили, отправлял Белосельцева в его африканский вояж, тонко управлял его действиями в пустыне Намиб и в устье реки Лимпопо. Оставил разведку в проклятые дни поражения, когда в свете голубых прожекторов краны снимали с постамента бронзовую фигуру Дзержинского и она покачивалась в ночном небе перед горящими окнами Лубянки, как огромный висельник.
С тех пор они не виделись, как и многие из былых сослуживцев, ушедших из помпезного здания госбезопасности, где угнездились предатели и агенты чужих разведок, которые вскрыли секретные сейфы и досье агентуры, овладели секретами государства, остановили биение сокровенного сердца Красной Империи. Говорили, что Суахили организовал какой-то фонд, помогает ветеранам разведки. Что он унес с собой списки заграничной агентуры в странах Африки и Латинской Америки. Что он пишет эзотерические стихи. Что его коллекция бабочек таит в себе коды агентурных сетей. Что он крестился. Что его видели в патриаршей резиденции. Что к нему за советом приезжают руководители банков и крупнейших нефтяных компаний. Белосельцев не проверял эти слухи. Удар, полученный им в дни проклятого августа, оглушил его на многие годы. Он жил, как контуженый, попавший под фугасный взрыв. Конечности оставались целы, внутренние органы продолжали служить, но в психике оказались разорванными тончайшие волокна и нити, связывающие его с бытием. Сторонясь сослуживцев, он жил, как отшельник в дупле, в постоянной дремоте.
Звонок Гречишникова, былого товарища, с кем вместе получали генеральские погоны и о ком почти не вспоминал эти годы, его дребезжащий, как стекло в подстаканнике, голос застигли врасплох. Мысль витала над Африкой, и весть о кончине Суахили свидетельствовала о движении таинственных, как облака, явлений, в которые Белосельцев был неявно включен. На него прохладно дохнуло опасностью. Он озирался, стараясь понять, откуда, с какой вершины сорвался холодный порыв. Но лес доступных для обозрения явлений стоял недвижный, в предосенней желтизне, и ни одна из золотых, вплетенных в березы гирлянд не шевельнулась от ветра. Он поднялся, готовясь извлечь из гардероба черный костюм, чтобы идти на отпевание в храм, затерявшийся среди московских переулков.
Снова раздался звонок. Еще не снимая трубку, не ведая, кто стремился заглянуть в его дом ранним утром, Белосельцев уже знал, что предстоящий разговор продолжит череду совпадений. Он неявно связан со звонком Гречишникова, со стихотворной строкой о небесных серафимах.
Говорил Прокурор мягким грассирующим голосом, словно в горле у него дрожала горошина, порождая целлулоидную вибрацию:
– Простите, Виктор Андреевич, за ранний звонок… Мы, кажется, сегодня собирались увидеться, но, увы, у меня безумный день… С утра иду в Кремль на встречу с Президентом… А потом коллегия… Хотел извиниться и перенести нашу встречу на другое время…
Горошина нежно рокотала в горле Прокурора. Белосельцев, слушая его, испытывал удовлетворение, похожее на тепло, которое разливается по телу от глотка горячего чая. Был открыт закон совпадений, и теперь лишь следовало подвести под него теорию. Прокурор, тоже собиратель бабочек, знавший о его уникальной коллекции, предлагал обмен – бабочку из Южной Африки, пойманную Белосельцевым на границе с Намибией, на бабочку с Филиппин, купленную Прокурором на рынке Манилы.
– Может быть, встретимся в выходные дни?.. У меня на даче?.. Я пришлю за вами машину…
Смерть Суахили, посылавшего его в Анголу, в зону боев. Звонок Гречишникова, приглашавшего проститься с Авдеевым. Звонок Прокурора, мечтавшего получить в коллекцию бабочку из долины Кунене. Шестикрылые серафимы над гробом старика генерала. Стихотворная строка Гумилева, трепещущая, как синяя бабочка. Все было связано. Было драгоценными чешуйками смальты, выпавшими из огромной, не доступной глазу мозаики. По мерцающим кусочкам стекла не угадать всей мозаики, укрытой в черноте высокого купола. Надо ждать, когда сядет солнце и последний луч, идущий снизу вверх, на мгновение осветит купол храма. И тогда откроется лик.
– Такие выматывающие дни!.. Такая нервотрепка!.. У людей не остается времени на любимые занятия!.. – жаловался Прокурор доверительно, как близкому человеку.
Белосельцев слушал интеллигентный, мягко грассирующий голос, представлял лысоватую голову, осторожный, вкрадчивый взгляд, губы, аккуратно выбиравшие слова. Белесое, невыразительное лицо Прокурора часто появлялось на телеэкране, где он многословно и невнятно рассказывал о коррупции власти, намекал на самых высоких вельможных персон. Из многословья Прокурора невозможно было понять, о каких персонах идет речь, какова сущность их прегрешений. Газеты трескуче и бесстрашно писали о «кремлевских ворах», называли имена Президента, его плотоядных и деятельных дочерей, известных и нелюбимых в публике чиновников и банкиров, – все это вызывало мучительное, гадливое чувство. Словно в кремлевских палатах, среди малахита и мрамора, стоял бак нечистот и оттуда, из-за дворцовых фасадов, белокаменных наличников и лепных карнизов, по ржавым трубам сочилась зловонная жижа.
– Я наслышан о вашей коллекции, – продолжал Прокурор. – Если мы, простые смертные, покупаем бабочек в зоомагазинах Сан-Паулу или Лагоса, то вы, как я слышал, собрали коллекцию на полях сражений, держа в одной руке сачок, а в другой автомат… Мечтаю взглянуть на ваши трофеи!
– Буду рад вас принять у себя. – Белосельцев осмотрел свою неприбранную гостиную, прикидывая, сколько времени потребуется на то, чтобы распихать по полкам скопившиеся на столе и тумбочке книги, кинуть в гардероб задержавшиеся на стульях пиджаки и галстуки, загнать в совок легкие катышки пыли, уютно свернувшиеся по углам. – Назначайте день, и мы непременно встретимся.
– Позвоню вам чуть позже, Виктор Андреевич, когда поутихнет нервотрепка… Бабочки – единственная отрада!.. Слово-то какое – бабочки!.. – Он нежно и весело засмеялся, и в этом смехе почудилось Белосельцеву утонченное сладострастие, искусно скрываемое под благопристойным выражением лица, сине-серебряными позументами прокурорского мундира, завуалированное рисунком тщательно подобранных фраз.
Положив телефонную трубку, Белосельцев вернулся в кабинет и стал рассматривать коробку ангольских бабочек, среди которых большие пепельно-красные с жемчужными пятнами нимфалиды были пойманы им на дороге, где горела и дымилась броня, лежали обгорелые трупы и на теплое зловонье воронок, на ядовитые газы взрывов летели бабочки. Они опускались на опаленные вмятины, и он брал руками их опьяненные мохнатые тельца, страстно стиснутые перепонки. Хватал за красные кончики крыльев.
Закон совпадений был необъясним с точки зрения трехмерного мира, классической логики, причинно-следственных связей. Для его объяснения требовалось знание иных измерений, где в огромных, многомерных объемах случались события наподобие вселенских взрывов, от которых в земную жизнь падала лишь легкая тень. Вдруг засыхал цветок. Меняла русло река. Старику снилась его молодая мать.
Белосельцев чувствовал, как его захватило прозрачное дуновение осени, источавшей перед бурями и жестокими ночными дождями мучительную красоту увядания. И нужно замереть, не противиться ветру, а лететь, как легкое пернатое семечко, – из сухого соцветия, через забор, через крышу, в необъятное туманное поле.
Он перепутал время отпевания и пришел в храм на час раньше, когда там текла медленная немноголюдная служба. В воздухе, среди бледных свечей, неярких лампад, была разлита все та же едва уловимая желтизна близкой осени. Неяркое, блеклое пение, выцветшие женские платки, тихие печальные лица, седая воздушная борода священника, сусальный иконостас из виноградных плодов и листьев, струящийся, отекающий, словно переполненные медовые соты, – все было в голубовато-желтой дымке, которая приплыла сюда с далеких опушек, скошенных лугов, волнистых осенних полей.
Он встал в стороне, под невысокими сводами, где были нарисованы деревья, цветы, среди которых, похожие на травяные и цветочные стебли, притаились ангелы, пророки, апостолы, с головами, напоминавшими подсолнухи, в одеждах цвета увядшей листвы. Перед ним возвышался медный подсвечник, отражавший круглые огоньки свечей, а сами свечи с острыми язычками и капельками расплавленного воска тихо, бездымно горели. Тут же стоял большой деревянный стол с грудами яблок – красных, желтых, зеленых, которые будто бы появились здесь из небесных садов, принесенные садовниками в плетеных корзинах. Сами садовники с нимбами смотрели из райских кущ, протягивая руки, предлагая Белосельцеву дары. Плоды на столе источали благоухание, вокруг каждого яблока был легкий светящийся нимб, и осы, прилетевшие в церковь на запах яблок, переполненные сладостью, вяло ползали по коричневым доскам стола.
Белосельцев испытал умиление и печаль. Храм был садом, куда в раннее утро, под цветущую белизну яблонь, приносили розовых младенцев. Где блистающим солнечным летом, под тяжелой глянцевитой листвой, венчали женихов и невест, поднося им блюда ароматных плодов. Куда под зимней холодной зарей, среди голых льдистых стволов, на хрустящий снег ставили гроб, и русская поземка шевелила бумажный венчик на белом лбу мертвеца.
Белосельцев обернулся. На стене, над входом, он увидел фреску Страшного суда. Огромный жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое яблоко. Он залег в червоточине, изгибаясь складчатым телом. Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое прожорливой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть яблока летали духи света и тьмы, словно крылатые муравьи. Они сшибались с тихим шелестом слюдяных черно-белых крыльев. Бились за добычу, за душу усопшего, похожую на белую мучнистую личинку. Этой личинкой была душа генерала Авдеева, которого везут отпевать по московским утренним улицам. Или душа Белосельцева, которая еще дремлет в дупле утомленного бренного тела.
Он изумлялся наивному живописцу, изобразившему жизнь человека, его страсти и похоти, любови и битвы, прозрения и погружение во тьму как сражение крылатых существ, излетающих из нагретого солнцем термитника. Колонна батальона «Буффало», пылящая по каменистой дороге. Ночь в отеле «Полана» с африканской женщиной, чьи лиловые соски были сладкими от земляничного сока. Казнь на пыльном плацу, когда погонщики гнали по кругу пленного, пока тот не рухнул и у него изо рта не хлынула алая кровь. Душа на фреске была похожа на тряпичную детскую куклу с нарисованными глазами и ртом. Духи света и тьмы бились за нее, как сердитые дети, а душа безмолвно и равнодушно взирала.
– Змей в Москву через метро пролез. Так и знай, метро – гнездо Змея. Сперва под Москвой туннель выкопали. Потом туда Змей пролез. А уж после внутри Змея поезда пустили. Едешь в метро – смотри зорче. За окном кишки Змея и слизь капает. Если хочешь убить Змея, взорви метро. Только делай с умом, ночью, когда весь народ уйдет и поезда встанут. Тогда Змей просыпается и в Кремль дорогу точит. Тут его и рви. Закладывай мину в трех местах – на «Театральной», на «Кутузовской» и на «Войковской» – и рви одной искрой разом. Тогда убьешь. А так не старайся. Он хитрее тебя.
Эти слова произнес за спиной Белосельцева тихий голос, принадлежавший невысокому сероватому человеку в сереньком потертом пиджаке, словно в складках его лежала едва заметная пыль дорог или остатки мельничного помола. Лицо его было выцветшим, бескровным, с маленьким носом и невыразительным ртом. И с огромными тихими глазами серого мягкого цвета, какой бывает у летнего неба, сквозь которое сеется теплый дождик и ровный греющий свет. Смысл слов был дикий и безумный, но лицо было спокойное и доброе, и глаза смотрели так, словно он знал Белосельцева прежде и теперь радовался встрече.
– Которые в метро ездят, те Змеем укушены. В мозгах яд. Хотят Мавзолей сломать по наущению Змея. Ленин Кремль сторожит, встал на пути Змея, не дает проползти. Как Ленина уберут, так Змей Кремль обовьет, хвост с головой свяжет, и конец России. Которые укушены Змеем, хотят из стены героев вынуть, которые за Отечество жертву принесли. Они не пускают Змея. Как только их уберут и Ленина вывезут, так России конец. Ты различай народ, который по наущению Змея, а который плачет, а Змея не пускает.
Человек говорил тихо и убедительно, как будто давал наставления, как пользоваться нехитрым инструментом, стамеской или лопатой, чтобы их ловчее держать, производить работу с наименьшей затратой сил. Белосельцев всматривался в его спокойное бледное лицо, поначалу решив, что перед ним тихий сумасшедший, от которого нужно отойти. Но глаза человека были умны, добры, угадывали в Белосельцеве его печаль и растерянность. И Белосельцев решил, что перед ним один из народных мудрецов и пророков, которые во все века появляются на папертях русских церквей, словно их рожает одна и та же невидимая, тихая женщина, плодоносящая в глубинах русской жизни.
– Чтобы Змею вокруг Кремля сомкнуться, ста шагов не хватает. Пойди, сам промерь. Мавзолей от угла к углу аккурат сто шагов. Я мерил. Раньше караул стоял, штыками отпугивал. Теперь пусто. Я сторожу. Раньше России солдат был нужен, генерал, космонавт. Инженеров и писателей требовалось. А теперь сторож нужен. Одному тяжело. Приходи, подменишь меня. Будешь сторож. Станем в две смены дежурить. А не то проползет.
Белосельцев вдруг почувствовал, как его вовлекает в бесшумную воронку, куда, сворачиваясь, устремлялось пространство и время, и он, лишаясь воли, испытывая головокружение и мучительную слабость, утекает в эту воронку, теряя телесность, превращаясь в длинный блестящий ручей. Подумал, что лучше ему отойти, покинуть храм, оставить сероглазого юродивого перед фреской, грудой яблок, коричневым, вырезанным из елового корня распятием. Но не было сил. Воля его, как струйка ртути, утекала в воронку, и он, испытывая сладость падения, слушал невнятные речи.
– Узнай тайну Змея, тогда и убьешь. Без тайны убить невозможно, только жизнь потеряешь. Герой, который Змея хочет убить, тот мученик. Молитвой его не взять. Автоматом Калашникова, системой «Град» и мощами Серафима Саровского. Тогда попробуй. Защитники Дома Советов хотели убить Змея, но тайны не знали, и он их убил. Кого пожег, у кого ум отнял, а кого Змеем сделал. Спорили, кто Христос, а кто Сталин, а Змей их вычислил. В этом тайна.
Белосельцеву хотелось внимать, не разгадывая премудрость блаженного, следовать за ним по пятам по дорогам, по папертям, от погоста к погосту, вслушиваясь в его шелестящие речи. Ночевать в стожках, кормиться у сердобольных людей, стоять у церковных ворот с медной кружкой, слушая бормотание старух, завернувшись в дырявую ветошь. Забыть, откуда он родом, как его звать, какие грехи и проступки совершил на своем веку. Без памяти и без имени брести по бесконечному русскому тракту, где замерзшая грязь в колее и репейник на снежной обочине.
– Царя жиды умучили, а Сталин умучил жидов. Знал тайну Змея. Он войну выиграл и спас русских. Он жертву принес, сына родного отдал, а о себе не подумал. Сталин святой, и Победа его святая. От его Победы в новом веке новая Россия пойдет, а старой России тоже конца не будет. Умом не понять.
Белосельцев испытал блаженство, связанное с потерей воли и успокоением разума, который вдруг умолк, как умолкает переполненный птицами куст перед заходом солнца. Ему хотелось смотреть в глаза блаженного человека и плакать беззвучными слезами не боли, не умиления, а тихого сострадания всем, кто пришел в этот мир, обрел в нем свое имя и плоть, движется среди моря житейского, чтобы неизбежно исчезнуть, оставив после себя чуть слышный, исчезающий звук.
– Жертва нужна, чтобы Змея убить. Все Христа ждем, чтобы он снова за нас жизнь отдал, а сами забыли, как жертвовать. Ты пожертвуй, как капитан Гастелло, и взорвешь Змея. А то с красным знаменем по городу ходишь на потеху Змею, а жертвовать не желаешь. Возьми яблоко. – Он вынул из-за спины и протянул Белосельцеву большое румяное яблоко, держа его в черных, замасленных пальцах, какие бывают у слесарей и авторемонтников. – Не бойсь, оно чистое, без червя. Меня зовут Николай Николаевич. А ты не бойся, плачь, коли хочешь.
И, оставив в руке Белосельцева яблоко, он ушел в проем церковных дверей, словно оплавился солнцем, и исчез. А Белосельцев остался, держа светящийся плод, чувствуя, как близки слезы, изумляясь таинственной череде совпадений, в которую был ввергнут.
Снаружи, на церковном подворье, зашумело, надвинулось, потемнело. Дверь заслонилась, и два сильных, нецерковных молодых человека внесли крышку гроба. Прошли мимо Белосельцева, озабоченные, работящие, прислонили крышку к стене. Генерал Авдеев прибыл, извещая о своем появлении деревянной, дубового цвета, лакированной крышкой с толстыми медными ручками. Белосельцев, глядя на крышку, удивлялся ее стилистическому сходству с тяжелым рабочим столом в генеральском кабинете, с деревянными сталинскими панелями, с темнокожим, похожим на кита диваном, на котором был вырезан деревянный герб государства. Явилась странная мысль, что генерал, не желая расстаться с дорогим ему интерьером, завещал изготовить гроб из панелей стола и дивана, а оставшийся дубовый материал пустить на отделку нового, уготованного ему кабинета…
Внесли венки из живых цветов с черными и красными лентами – от родных, от ветеранов разведки, от Академии наук. Один венок привлек внимание Белосельцева. Среди красных роз вяло лежала черная с серебряными буквами лента с надписью: «От соратников по борьбе». В этих словах был таинственный знак, задевший сознание Белосельцева, который никогда не называл свою работу в разведке борьбой, а своих начальников и подчиненных – соратниками.
Шумно, с оханьем, с шарканьем ног, вшестером, внесли тяжелый гроб, напоминавший дорогой старомодный комод со множеством ручек и ящиков, в которых, если их выдвинуть, увидишь старые крахмальные скатерти с кружевной бахромой, форменные сюртуки и камзолы, пересыпанные снежными хлопьями нафталина, фамильное серебро с потемневшими монограммами. Гроб поставили на деревянные лавочки у стены, на которой высоко, раздувая щеки, выдыхая струи света, парил шестикрылый дух.
Александр Андреевич Проханов
Последние годы ушедшего века насыщены трагическими событиями, среди которых кровавой строкой выделяется чеченская кампания. Генерал внешней разведки в отставке Виктор Белосельцев оказывается втянутым в политическую войну, пламя которой усердно поддерживают бывшие сотрудники советских спецслужб и чеченские боевики. Продвигая своего человека к вершине власти, организация заговорщиков не брезгует никакими методами, вплоть до массовой казни простых граждан. От генерала Белосельцева требуются титанические усилия, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий. Его взгляд на события новейшей российской истории порой шокирует своей неожиданностью, но оттого книга становится яркой, интересной и увлекательной.
Александр Проханов
Господин Гексоген
Часть I
Операция «Прокурор»
Глава первая
Генерал разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев чувствовал приближение осени по тончайшей желтизне, текущей в бледном воздухе московского утра, словно где-то уронили капельку йода и она растворялась среди фасадов и крыш, просачивалась струйками в форточку, плавала в пятне водянистого солнца, создавая ощущение незримой болезни, поразившей город, его бульвары и здания, жильцов и прохожих, церкви и кремлевские башни и его самого, Белосельцева, недвижно сидящего в негреющем свете затуманенного окна. Туман на стекле был золотисто-зеленый, такой же, как Тверской бульвар, где под липами, у черных стволов, начинали скапливаться озерки опавшей листвы. Ядовитый цвет увядания присутствовал в иконе, с которой осыпалась блеклая позолота нимбов. В коробках с бабочками, терявшими желтую сухую пыльцу. В стакане бледного чая, где преломлялась серебряная ложечка с полустертой фамильной монограммой. Он недвижно сидел, чувствуя, как горькие яды осени, порождая легкое головокружение, втекают в его кровь и дыхание, словно он надкусил черенок осинового листа, желтого, с капелькой бледной лазури. День, который он начинал, не сулил ему встреч и событий, был похож на бледное световое пятно, медленно плывущее над его головой. «О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы…» – повторял он стихотворную строчку, случайно залетевшую в память, трепетавшую там, не в силах улететь, словно бабочка, попавшая в паутину.
Телефонный звонок из гостиной донесся до кабинета и породил ощущение, будто в душе стеклорезом нанесли царапину.
– Виктор Андреевич, прости, что рано потревожил… Это Гречишников… Здесь такое печальное обстоятельство… Умер генерал Авдеев, которому, кажется, именно ты дал прозвище Суахили… Сегодня отпевают… Приходи, Виктор Андреевич, простимся с командиром… Панихида в одиннадцать… Хочу тебя повидать…
Еще несколько слов, произнесенных знакомым голосом, слабо дребезжащим, словно стакан в подстаканнике на столике идущего поезда. Царапина в душе, оставленная телефонным звонком. И болезненное изумление – застрявшая в памяти гумилевская строчка об Африке и небесных серафимах превратилась в известие о кончине старого генерала разведки, отправлявшего его, Белосельцева, в Мозамбик и Анголу, а теперь лежащего в русской церкви под блеклой фреской с шестикрылым небесным духом.
Он рассеянно думал, что природа необъяснимых совпадений связана с невидимыми свершениями, осуществляемыми вне человеческого разумения. Оставаясь неразгаданными и непознанными, они лишь временами попадают в поле зрения, словно мелькнувший под фонарем кусочек стены, мимо которой промчался по ночным непроглядным пространствам скоростной поезд.
Суахили был первоклассный разведчик, энтомолог, этнограф. Напоминал своей эрудицией офицеров царского Генерального штаба, которые наносили на карты речные броды, горные тропы, колодцы в пустынях, предвосхищая прохождение войск. Одновременно описывали нравы туземных племен, собирали гербарии, коллекционировали минералы, оставляя после себя изыскания, украшавшие библиотеки университетов и академий.
Суахили в бельгийском Конго ловил бабочек вблизи ракетодрома в джунглях, откуда запускались французские ракеты средней дальности. Захватывал в прозрачную кисею сачка редкие экземпляры африканских нимфалид и сатиров, при этом снимая баллистические характеристики ракет, беря пробы грунта, засекая время отсечки двигателей. Он был обстрелян, попал в контрразведку французов, наполовину потерял рассудок от пыток и через пять лет тюрьмы был обменен на агента французов, внедренного в военно-морской флот Югославии. Он, Суахили, отправлял Белосельцева в его африканский вояж, тонко управлял его действиями в пустыне Намиб и в устье реки Лимпопо. Оставил разведку в проклятые дни поражения, когда в свете голубых прожекторов краны снимали с постамента бронзовую фигуру Дзержинского и она покачивалась в ночном небе перед горящими окнами Лубянки, как огромный висельник.
С тех пор они не виделись, как и многие из былых сослуживцев, ушедших из помпезного здания госбезопасности, где угнездились предатели и агенты чужих разведок, которые вскрыли секретные сейфы и досье агентуры, овладели секретами государства, остановили биение сокровенного сердца Красной Империи. Говорили, что Суахили организовал какой-то фонд, помогает ветеранам разведки. Что он унес с собой списки заграничной агентуры в странах Африки и Латинской Америки. Что он пишет эзотерические стихи. Что его коллекция бабочек таит в себе коды агентурных сетей. Что он крестился. Что его видели в патриаршей резиденции. Что к нему за советом приезжают руководители банков и крупнейших нефтяных компаний. Белосельцев не проверял эти слухи. Удар, полученный им в дни проклятого августа, оглушил его на многие годы. Он жил, как контуженый, попавший под фугасный взрыв. Конечности оставались целы, внутренние органы продолжали служить, но в психике оказались разорванными тончайшие волокна и нити, связывающие его с бытием. Сторонясь сослуживцев, он жил, как отшельник в дупле, в постоянной дремоте.
Звонок Гречишникова, былого товарища, с кем вместе получали генеральские погоны и о ком почти не вспоминал эти годы, его дребезжащий, как стекло в подстаканнике, голос застигли врасплох. Мысль витала над Африкой, и весть о кончине Суахили свидетельствовала о движении таинственных, как облака, явлений, в которые Белосельцев был неявно включен. На него прохладно дохнуло опасностью. Он озирался, стараясь понять, откуда, с какой вершины сорвался холодный порыв. Но лес доступных для обозрения явлений стоял недвижный, в предосенней желтизне, и ни одна из золотых, вплетенных в березы гирлянд не шевельнулась от ветра. Он поднялся, готовясь извлечь из гардероба черный костюм, чтобы идти на отпевание в храм, затерявшийся среди московских переулков.
Снова раздался звонок. Еще не снимая трубку, не ведая, кто стремился заглянуть в его дом ранним утром, Белосельцев уже знал, что предстоящий разговор продолжит череду совпадений. Он неявно связан со звонком Гречишникова, со стихотворной строкой о небесных серафимах.
Говорил Прокурор мягким грассирующим голосом, словно в горле у него дрожала горошина, порождая целлулоидную вибрацию:
– Простите, Виктор Андреевич, за ранний звонок… Мы, кажется, сегодня собирались увидеться, но, увы, у меня безумный день… С утра иду в Кремль на встречу с Президентом… А потом коллегия… Хотел извиниться и перенести нашу встречу на другое время…
Горошина нежно рокотала в горле Прокурора. Белосельцев, слушая его, испытывал удовлетворение, похожее на тепло, которое разливается по телу от глотка горячего чая. Был открыт закон совпадений, и теперь лишь следовало подвести под него теорию. Прокурор, тоже собиратель бабочек, знавший о его уникальной коллекции, предлагал обмен – бабочку из Южной Африки, пойманную Белосельцевым на границе с Намибией, на бабочку с Филиппин, купленную Прокурором на рынке Манилы.
– Может быть, встретимся в выходные дни?.. У меня на даче?.. Я пришлю за вами машину…
Смерть Суахили, посылавшего его в Анголу, в зону боев. Звонок Гречишникова, приглашавшего проститься с Авдеевым. Звонок Прокурора, мечтавшего получить в коллекцию бабочку из долины Кунене. Шестикрылые серафимы над гробом старика генерала. Стихотворная строка Гумилева, трепещущая, как синяя бабочка. Все было связано. Было драгоценными чешуйками смальты, выпавшими из огромной, не доступной глазу мозаики. По мерцающим кусочкам стекла не угадать всей мозаики, укрытой в черноте высокого купола. Надо ждать, когда сядет солнце и последний луч, идущий снизу вверх, на мгновение осветит купол храма. И тогда откроется лик.
– Такие выматывающие дни!.. Такая нервотрепка!.. У людей не остается времени на любимые занятия!.. – жаловался Прокурор доверительно, как близкому человеку.
Белосельцев слушал интеллигентный, мягко грассирующий голос, представлял лысоватую голову, осторожный, вкрадчивый взгляд, губы, аккуратно выбиравшие слова. Белесое, невыразительное лицо Прокурора часто появлялось на телеэкране, где он многословно и невнятно рассказывал о коррупции власти, намекал на самых высоких вельможных персон. Из многословья Прокурора невозможно было понять, о каких персонах идет речь, какова сущность их прегрешений. Газеты трескуче и бесстрашно писали о «кремлевских ворах», называли имена Президента, его плотоядных и деятельных дочерей, известных и нелюбимых в публике чиновников и банкиров, – все это вызывало мучительное, гадливое чувство. Словно в кремлевских палатах, среди малахита и мрамора, стоял бак нечистот и оттуда, из-за дворцовых фасадов, белокаменных наличников и лепных карнизов, по ржавым трубам сочилась зловонная жижа.
– Я наслышан о вашей коллекции, – продолжал Прокурор. – Если мы, простые смертные, покупаем бабочек в зоомагазинах Сан-Паулу или Лагоса, то вы, как я слышал, собрали коллекцию на полях сражений, держа в одной руке сачок, а в другой автомат… Мечтаю взглянуть на ваши трофеи!
– Буду рад вас принять у себя. – Белосельцев осмотрел свою неприбранную гостиную, прикидывая, сколько времени потребуется на то, чтобы распихать по полкам скопившиеся на столе и тумбочке книги, кинуть в гардероб задержавшиеся на стульях пиджаки и галстуки, загнать в совок легкие катышки пыли, уютно свернувшиеся по углам. – Назначайте день, и мы непременно встретимся.
– Позвоню вам чуть позже, Виктор Андреевич, когда поутихнет нервотрепка… Бабочки – единственная отрада!.. Слово-то какое – бабочки!.. – Он нежно и весело засмеялся, и в этом смехе почудилось Белосельцеву утонченное сладострастие, искусно скрываемое под благопристойным выражением лица, сине-серебряными позументами прокурорского мундира, завуалированное рисунком тщательно подобранных фраз.
Положив телефонную трубку, Белосельцев вернулся в кабинет и стал рассматривать коробку ангольских бабочек, среди которых большие пепельно-красные с жемчужными пятнами нимфалиды были пойманы им на дороге, где горела и дымилась броня, лежали обгорелые трупы и на теплое зловонье воронок, на ядовитые газы взрывов летели бабочки. Они опускались на опаленные вмятины, и он брал руками их опьяненные мохнатые тельца, страстно стиснутые перепонки. Хватал за красные кончики крыльев.
Закон совпадений был необъясним с точки зрения трехмерного мира, классической логики, причинно-следственных связей. Для его объяснения требовалось знание иных измерений, где в огромных, многомерных объемах случались события наподобие вселенских взрывов, от которых в земную жизнь падала лишь легкая тень. Вдруг засыхал цветок. Меняла русло река. Старику снилась его молодая мать.
Белосельцев чувствовал, как его захватило прозрачное дуновение осени, источавшей перед бурями и жестокими ночными дождями мучительную красоту увядания. И нужно замереть, не противиться ветру, а лететь, как легкое пернатое семечко, – из сухого соцветия, через забор, через крышу, в необъятное туманное поле.
Он перепутал время отпевания и пришел в храм на час раньше, когда там текла медленная немноголюдная служба. В воздухе, среди бледных свечей, неярких лампад, была разлита все та же едва уловимая желтизна близкой осени. Неяркое, блеклое пение, выцветшие женские платки, тихие печальные лица, седая воздушная борода священника, сусальный иконостас из виноградных плодов и листьев, струящийся, отекающий, словно переполненные медовые соты, – все было в голубовато-желтой дымке, которая приплыла сюда с далеких опушек, скошенных лугов, волнистых осенних полей.
Он встал в стороне, под невысокими сводами, где были нарисованы деревья, цветы, среди которых, похожие на травяные и цветочные стебли, притаились ангелы, пророки, апостолы, с головами, напоминавшими подсолнухи, в одеждах цвета увядшей листвы. Перед ним возвышался медный подсвечник, отражавший круглые огоньки свечей, а сами свечи с острыми язычками и капельками расплавленного воска тихо, бездымно горели. Тут же стоял большой деревянный стол с грудами яблок – красных, желтых, зеленых, которые будто бы появились здесь из небесных садов, принесенные садовниками в плетеных корзинах. Сами садовники с нимбами смотрели из райских кущ, протягивая руки, предлагая Белосельцеву дары. Плоды на столе источали благоухание, вокруг каждого яблока был легкий светящийся нимб, и осы, прилетевшие в церковь на запах яблок, переполненные сладостью, вяло ползали по коричневым доскам стола.
Белосельцев испытал умиление и печаль. Храм был садом, куда в раннее утро, под цветущую белизну яблонь, приносили розовых младенцев. Где блистающим солнечным летом, под тяжелой глянцевитой листвой, венчали женихов и невест, поднося им блюда ароматных плодов. Куда под зимней холодной зарей, среди голых льдистых стволов, на хрустящий снег ставили гроб, и русская поземка шевелила бумажный венчик на белом лбу мертвеца.
Белосельцев обернулся. На стене, над входом, он увидел фреску Страшного суда. Огромный жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое яблоко. Он залег в червоточине, изгибаясь складчатым телом. Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое прожорливой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть яблока летали духи света и тьмы, словно крылатые муравьи. Они сшибались с тихим шелестом слюдяных черно-белых крыльев. Бились за добычу, за душу усопшего, похожую на белую мучнистую личинку. Этой личинкой была душа генерала Авдеева, которого везут отпевать по московским утренним улицам. Или душа Белосельцева, которая еще дремлет в дупле утомленного бренного тела.
Он изумлялся наивному живописцу, изобразившему жизнь человека, его страсти и похоти, любови и битвы, прозрения и погружение во тьму как сражение крылатых существ, излетающих из нагретого солнцем термитника. Колонна батальона «Буффало», пылящая по каменистой дороге. Ночь в отеле «Полана» с африканской женщиной, чьи лиловые соски были сладкими от земляничного сока. Казнь на пыльном плацу, когда погонщики гнали по кругу пленного, пока тот не рухнул и у него изо рта не хлынула алая кровь. Душа на фреске была похожа на тряпичную детскую куклу с нарисованными глазами и ртом. Духи света и тьмы бились за нее, как сердитые дети, а душа безмолвно и равнодушно взирала.
– Змей в Москву через метро пролез. Так и знай, метро – гнездо Змея. Сперва под Москвой туннель выкопали. Потом туда Змей пролез. А уж после внутри Змея поезда пустили. Едешь в метро – смотри зорче. За окном кишки Змея и слизь капает. Если хочешь убить Змея, взорви метро. Только делай с умом, ночью, когда весь народ уйдет и поезда встанут. Тогда Змей просыпается и в Кремль дорогу точит. Тут его и рви. Закладывай мину в трех местах – на «Театральной», на «Кутузовской» и на «Войковской» – и рви одной искрой разом. Тогда убьешь. А так не старайся. Он хитрее тебя.
Эти слова произнес за спиной Белосельцева тихий голос, принадлежавший невысокому сероватому человеку в сереньком потертом пиджаке, словно в складках его лежала едва заметная пыль дорог или остатки мельничного помола. Лицо его было выцветшим, бескровным, с маленьким носом и невыразительным ртом. И с огромными тихими глазами серого мягкого цвета, какой бывает у летнего неба, сквозь которое сеется теплый дождик и ровный греющий свет. Смысл слов был дикий и безумный, но лицо было спокойное и доброе, и глаза смотрели так, словно он знал Белосельцева прежде и теперь радовался встрече.
– Которые в метро ездят, те Змеем укушены. В мозгах яд. Хотят Мавзолей сломать по наущению Змея. Ленин Кремль сторожит, встал на пути Змея, не дает проползти. Как Ленина уберут, так Змей Кремль обовьет, хвост с головой свяжет, и конец России. Которые укушены Змеем, хотят из стены героев вынуть, которые за Отечество жертву принесли. Они не пускают Змея. Как только их уберут и Ленина вывезут, так России конец. Ты различай народ, который по наущению Змея, а который плачет, а Змея не пускает.
Человек говорил тихо и убедительно, как будто давал наставления, как пользоваться нехитрым инструментом, стамеской или лопатой, чтобы их ловчее держать, производить работу с наименьшей затратой сил. Белосельцев всматривался в его спокойное бледное лицо, поначалу решив, что перед ним тихий сумасшедший, от которого нужно отойти. Но глаза человека были умны, добры, угадывали в Белосельцеве его печаль и растерянность. И Белосельцев решил, что перед ним один из народных мудрецов и пророков, которые во все века появляются на папертях русских церквей, словно их рожает одна и та же невидимая, тихая женщина, плодоносящая в глубинах русской жизни.
– Чтобы Змею вокруг Кремля сомкнуться, ста шагов не хватает. Пойди, сам промерь. Мавзолей от угла к углу аккурат сто шагов. Я мерил. Раньше караул стоял, штыками отпугивал. Теперь пусто. Я сторожу. Раньше России солдат был нужен, генерал, космонавт. Инженеров и писателей требовалось. А теперь сторож нужен. Одному тяжело. Приходи, подменишь меня. Будешь сторож. Станем в две смены дежурить. А не то проползет.
Белосельцев вдруг почувствовал, как его вовлекает в бесшумную воронку, куда, сворачиваясь, устремлялось пространство и время, и он, лишаясь воли, испытывая головокружение и мучительную слабость, утекает в эту воронку, теряя телесность, превращаясь в длинный блестящий ручей. Подумал, что лучше ему отойти, покинуть храм, оставить сероглазого юродивого перед фреской, грудой яблок, коричневым, вырезанным из елового корня распятием. Но не было сил. Воля его, как струйка ртути, утекала в воронку, и он, испытывая сладость падения, слушал невнятные речи.
– Узнай тайну Змея, тогда и убьешь. Без тайны убить невозможно, только жизнь потеряешь. Герой, который Змея хочет убить, тот мученик. Молитвой его не взять. Автоматом Калашникова, системой «Град» и мощами Серафима Саровского. Тогда попробуй. Защитники Дома Советов хотели убить Змея, но тайны не знали, и он их убил. Кого пожег, у кого ум отнял, а кого Змеем сделал. Спорили, кто Христос, а кто Сталин, а Змей их вычислил. В этом тайна.
Белосельцеву хотелось внимать, не разгадывая премудрость блаженного, следовать за ним по пятам по дорогам, по папертям, от погоста к погосту, вслушиваясь в его шелестящие речи. Ночевать в стожках, кормиться у сердобольных людей, стоять у церковных ворот с медной кружкой, слушая бормотание старух, завернувшись в дырявую ветошь. Забыть, откуда он родом, как его звать, какие грехи и проступки совершил на своем веку. Без памяти и без имени брести по бесконечному русскому тракту, где замерзшая грязь в колее и репейник на снежной обочине.
– Царя жиды умучили, а Сталин умучил жидов. Знал тайну Змея. Он войну выиграл и спас русских. Он жертву принес, сына родного отдал, а о себе не подумал. Сталин святой, и Победа его святая. От его Победы в новом веке новая Россия пойдет, а старой России тоже конца не будет. Умом не понять.
Белосельцев испытал блаженство, связанное с потерей воли и успокоением разума, который вдруг умолк, как умолкает переполненный птицами куст перед заходом солнца. Ему хотелось смотреть в глаза блаженного человека и плакать беззвучными слезами не боли, не умиления, а тихого сострадания всем, кто пришел в этот мир, обрел в нем свое имя и плоть, движется среди моря житейского, чтобы неизбежно исчезнуть, оставив после себя чуть слышный, исчезающий звук.
– Жертва нужна, чтобы Змея убить. Все Христа ждем, чтобы он снова за нас жизнь отдал, а сами забыли, как жертвовать. Ты пожертвуй, как капитан Гастелло, и взорвешь Змея. А то с красным знаменем по городу ходишь на потеху Змею, а жертвовать не желаешь. Возьми яблоко. – Он вынул из-за спины и протянул Белосельцеву большое румяное яблоко, держа его в черных, замасленных пальцах, какие бывают у слесарей и авторемонтников. – Не бойсь, оно чистое, без червя. Меня зовут Николай Николаевич. А ты не бойся, плачь, коли хочешь.
И, оставив в руке Белосельцева яблоко, он ушел в проем церковных дверей, словно оплавился солнцем, и исчез. А Белосельцев остался, держа светящийся плод, чувствуя, как близки слезы, изумляясь таинственной череде совпадений, в которую был ввергнут.
Снаружи, на церковном подворье, зашумело, надвинулось, потемнело. Дверь заслонилась, и два сильных, нецерковных молодых человека внесли крышку гроба. Прошли мимо Белосельцева, озабоченные, работящие, прислонили крышку к стене. Генерал Авдеев прибыл, извещая о своем появлении деревянной, дубового цвета, лакированной крышкой с толстыми медными ручками. Белосельцев, глядя на крышку, удивлялся ее стилистическому сходству с тяжелым рабочим столом в генеральском кабинете, с деревянными сталинскими панелями, с темнокожим, похожим на кита диваном, на котором был вырезан деревянный герб государства. Явилась странная мысль, что генерал, не желая расстаться с дорогим ему интерьером, завещал изготовить гроб из панелей стола и дивана, а оставшийся дубовый материал пустить на отделку нового, уготованного ему кабинета…
Внесли венки из живых цветов с черными и красными лентами – от родных, от ветеранов разведки, от Академии наук. Один венок привлек внимание Белосельцева. Среди красных роз вяло лежала черная с серебряными буквами лента с надписью: «От соратников по борьбе». В этих словах был таинственный знак, задевший сознание Белосельцева, который никогда не называл свою работу в разведке борьбой, а своих начальников и подчиненных – соратниками.
Шумно, с оханьем, с шарканьем ног, вшестером, внесли тяжелый гроб, напоминавший дорогой старомодный комод со множеством ручек и ящиков, в которых, если их выдвинуть, увидишь старые крахмальные скатерти с кружевной бахромой, форменные сюртуки и камзолы, пересыпанные снежными хлопьями нафталина, фамильное серебро с потемневшими монограммами. Гроб поставили на деревянные лавочки у стены, на которой высоко, раздувая щеки, выдыхая струи света, парил шестикрылый дух.