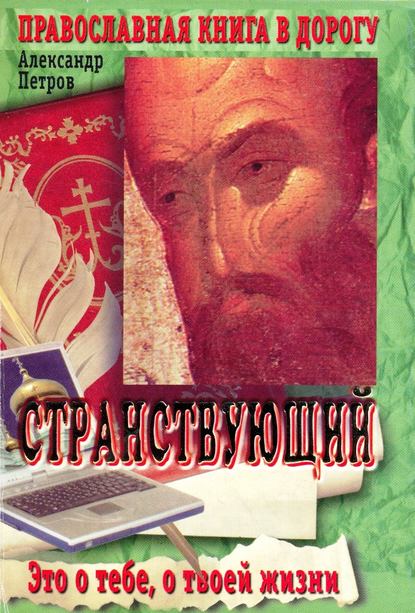По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странствующий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что с тобой, Мария? – звучит над ее ухом хриплый бас.
– Лучше бы мне умереть раньше, – со вздохом произносит красавица, низко опустив голову.
– Ну-ка подойди и разуй меня, – ворчливо хрипит воин.
Мария понуро склоняется к его пыльным сапогам. Вдруг в ее плечи впиваются сильные пальцы. «Ну и хватка у этого старика», – мелькает у нее в голове. Она поднимает голову и силится разглядеть лицо посетителя. Военная шляпа с широкими полями затеняет его. Одна рука старика оставляет ее плечо и срывает шляпу. Свет от масляной лампы освещает лицо… старца Авраамия. Он плачет, как ребенок, и прерывисто говорит:
– Дитя мое, Мария, ты узнаешь своего старого воспитателя? Двадцать лет, с самого сиротского младенчества, охранял я твою ангельскую чистоту. Где твой слезный плач? На что ты променяла сладостные подвиги поста и бдения? Словно с высоких небес ты упала в грязную яму. Почему не сказала мне, когда согрешила, чтобы я взял на себя подвиг покаяния за твой грех? Каждый человек немощен, любой может пасть и согрешить. Только один Бог без греха. Ты слышишь, дитятко мое маленькое?
Но Мария не отвечает. Бледное лицо в пятнах стыда и ледяные руки безвольно упали. Будто кукла содрогается она в крепких руках старца.
– Мне ли ты не отвечаешь, жизнь моя! Ведь это ради тебя вышел я из затвора, ехал на лошади в эту даль, вкушал презренное мясо и упивался вином, выдавая себя за старого блудника.
Только на исходе ночи приходит в себя Мария и, успокоившись, говорит сквозь слезы:
– Стыдно и горько мне, учитель. Как я могу молиться Богу оскверненными устами?
– Дитя мое, да будет грех твой на мне. Я буду отвечать за тебя на суде Божием. Тебя же я умоляю, дитятко мое возлюбленное, вернись в свою келью, да затворись в ее спасительном покрове. Пощади мою старость!
– Если ты уверен, что Господь простит меня, то я готова все оставшиеся дни провести в покаянии. Я счастлива буду умывать своими слезами твои ноги, которые привели тебя сюда для моего спасения.
– Встань же! Пойдем отсюда.
– У меня здесь в тайнике много золота. Что мне с ним делать?
– Это нечестное богатство, деточка. Оставь его, и уйдем.
Бесшумной тенью проскальзывают беглецы мимо хозяина, храпящего за столом в обнимку с пустым кувшином и обглоданной костью. Авраамий подсаживает Марию на широкое седло из воловьей шкуры, садится сам. Сперва сильно гонит старец лошадь, отдохнувшую за ночь. Затем, когда город остается далеко за холмами, он спешивается и ведет ее под уздцы, радостно оглядываясь на притихшую Марию, как пастырь на заблудшую овечку.
И не страшно, что во время этой поездки пришлось оскоромиться. Господь не в желудок смотрит, а в сердце. И если там живет жертвенная любовь к падшему созданию Божию, то и Небеса сорадуются спасительному обращению. И не страшно, что от долгой тряски в седле напомнили о себе старые переломы, отбитые почки, которые теперь ноют и горят.
…Три года на берегу солнечного Геллеспонта он ради послушания епископу обращал в христианскую веру язычников. Три года избивали его несчастные язычники кольями и камнями до полусмерти. Но однажды собрались вместе и вспомнили, что ни разу от старца никто слова плохого не услышал, но только ласку и кроткие вразумления. И пошли они к Авраамию, и просили его пасти их стадо заблудшее.
Но ни пятьдесят лет земляного затвора, ни обращение язычников, ни победа в схватке с самим сатаной – ничего так не радовало старца, как возвращение этой заблудшей овечки.
Вернувшись в свою келью, Мария дни и ночи напролет слезно молит Бога о помиловании. Ее рыдания прерываются лишь на миг, возгораясь снова и снова. Длится это год за годом – несколько лет. Но Мария утратила чувство времени. Для нее открылись врата вечности. Огнем покаяния она воссоединяется с огнезрачными жителями небес. Старец Авраамий иногда приникает к окошку, соединяющему их кельи. И обоняет тонкий аромат, текущий оттуда. В знак прощения милостивый Господь дарует Марии благодать исцеления. И множество приехавших издалека хромых и расслабленных уходят отсюда на своих ногах.
…Не сразу, как от сна в явь, возвращаюсь в обычное состояние. Ноги идут, руки двигаются в такт, а душа творит свое дело.
В дивный миг, когда мое сознание освобождается от множества нитей, раздирающих внимание в разные стороны…
В дивный миг, когда время останавливается…
…А пространство плавит углы и высоты, обращаясь в поток, который бесшумно подхватывает и бережно несет меня в океан сверкающего покоя…
В редчайший по красоте миг попытки моего смирения…
…Чья-то грубая рука хватает меня за плечо и разворачивает от мирного покоя к мятежному уродству: передо мной красные глаза пьяницы. С трудом узнаю в опухшей физиономии знакомые черты своего приятеля.
– Слышь, Тихон, ты это… там Маня с какой-то японкой гуляет вторую неделю, – тычет он трясущимся пальцем в сторону пивбара. – Ты это… я больше не могу. Здоровья нет. И на работу пора. Ты это… вытащи ее оттуда. Она тебя послушает. Все. Аут… – он понуро уходит. Его качает ветром. Его сейчас, как плащ, можно через плечо перебросить.
Оглядываюсь на Валерия. Тот невозмутимо кивает и шепотом произносит: «во ад сойду – Ты там еси». По дороге ему поясняю. Маша – моя школьная подруга. Она постоянно влипает в какие-то неприятности, из которых приходится ее вызволять. Вообще-то она добрая, готовая каждому помочь. Но все делает как-то глупо. Может быть, поэтому у нее все через пень-колоду. Она чистосердечно влюблялась в мужчин и серьезно выходила замуж три раза. Только мужья на второй месяц начинали гулять от нее. Она узнавала об этом через подруг и приступала к спасению брака. Мужей находила она среди богемы. Им было невдомек, как можно жить с одной женщиной. Так она влюбляется до сих пор и все так же упорно попадает в скверные истории.
Итак, мы спускаемся в подземелье с красно-черными стенами, чем-то похожее на местность, на которую намекал Валерий. У входа в зал дорогу нам преграждает охранник. Объясняю, что пришел к Маше, называю полное ее имя. В это время из зала раздается крик:
– Тихон! Входи. Пропустите его.
Мы с Валерием входим в полупустой зал, где накрыты несколько сдвинутых столов. Здесь сидят четыре человека. Среди них две резвые женщины и двое мужчин, способных лишь кивать и многозначительно улыбаться. Метрдотель провожает нас и уважительно сажает напротив. Видимо, девочки не скупятся…
– Тишенька, счастье ты наше! Что же ты так долго ехал? – вопит Маша. – Я приказывала тебя доставить много раз.
«Счастье» – это перевод моего имени на русский язык… Разглядываю свою школьную подругу. Если бы не яркий румянец на впалых щеках и с гнусавинкой прононс, понять, что эта дама пьяна, было бы невозможно. У Маши все длинное: пальцы, шея, ноги, нос, глаза и губы – это следствие, по ее мнению, смешения в ее артериях разнородных кровей. Впрочем, судя по ее бесшабашности, русская все остальные придавила. Перед ней за частоколом бутылок и бокалов высится гора красных панцирей и окурков. Рядом лежат сотовый телефон, пудреница и телефонная книжка. Она одновременно ест, пьет, курит, давит пальцем на кнопки телефона, делает пометки в блокноте и говорит:
– Ты видишь эту узбечку? Вообще-то она не узбечка, а японка. У нее папа русский дипломат, а мама японская японка. Зовут ее Катька. Вообще-то она не Катька, а какая-то Катаяма, что ли? Я так до сих пор и не выучила. Не важно! Катька как приезжает в Россию, в ней русский генотип дыбом встает, и она зовет меня водку пить. И самое страшное: у нее денег и здоровья ужас сколько. Мы уже две недели гудим, здесь перебывало пол-Москвы. Здоровые мужики падают, их выносят, а Катька только сегодня икать начала. А это значит, что запаса прочности у нее еще дня на три-четыре. Нет, ну ты скажи, Тишенька, это у нее от Стеньки Разина или от самураев?
– Это, Манечка, смотря на какую тему вы пьете, – рассуждаю вслух.
– Она пьет, потому что ей в России грустно делается.
– А почему грустно, Катюш? – заглядываю в щелочку узких глаз.
– Смысла… ик… не могу… ик… найти… ой! – задумчиво поясняет русская японка.
– А почему, Катюша, ты столь тонкий предмет в подвале ищешь? Вы что там, на своих островах, Достоевского не читали, или Бунина, Акиру Куросаву не смотрели?
– Там это не нужно, а здесь некогда, – отвечает за подругу Маша. – Дело в том, что мы пытаемся найти смысл через людей, поэтому их сюда и зазываем. А они как накушаются, сразу нить теряют. Поэтому за две недели мы его и не нашли. И так каждый Катькин приезд.
– У вас машина есть? – спрашиваю наобум.
– Как не быть! Целый лимузин с «Мосфильма». Длинный, как батон сервелата. Думаешь, как мы народ туда-сюда возим.
Я встаю и решительно заявляю:
– Слушай мою команду! Всем на выход, погружаемся в транспортное средство.
Первой вскакивает японка, готовая на все, вплоть до харакири. Следом – Маша. За ними вяло встают мужчины из богемной сферы.
Ехать в лимузине еще терпимо, но забираться внутрь и рассаживаться по местам – это мучение. Полубезумные люди, согнувшись в три погибели, тычутся друг в друга, с охами и стонами расползаются по сидениям. Я сажаю Валерия рядом с водителем и объясняю маршрут. Валера кивает: дорогу он знает, был там не раз.
Маша, разумеется, усаживает меня в кресле рядом с собой. Поначалу она продолжает кричать, но чем сильнее она сотрясает мою барабанную перепонку, тем тише я отвечаю. Так и она затихает и говорит спокойно:
– Знаешь, Тишенька, я так устала.
– Еще бы – столько яда усвоить.
– Это, конечно, есть, но не главное. Понимаешь, надоело расшибать нос о стену. Уж столько раз жизнь меня учила, а все зря. Ты тоже чего-то вечно ищешь. Скажи честно, Тиша, ты нашел, чего искал?
– Нашел, Машенька.
– Лучше бы мне умереть раньше, – со вздохом произносит красавица, низко опустив голову.
– Ну-ка подойди и разуй меня, – ворчливо хрипит воин.
Мария понуро склоняется к его пыльным сапогам. Вдруг в ее плечи впиваются сильные пальцы. «Ну и хватка у этого старика», – мелькает у нее в голове. Она поднимает голову и силится разглядеть лицо посетителя. Военная шляпа с широкими полями затеняет его. Одна рука старика оставляет ее плечо и срывает шляпу. Свет от масляной лампы освещает лицо… старца Авраамия. Он плачет, как ребенок, и прерывисто говорит:
– Дитя мое, Мария, ты узнаешь своего старого воспитателя? Двадцать лет, с самого сиротского младенчества, охранял я твою ангельскую чистоту. Где твой слезный плач? На что ты променяла сладостные подвиги поста и бдения? Словно с высоких небес ты упала в грязную яму. Почему не сказала мне, когда согрешила, чтобы я взял на себя подвиг покаяния за твой грех? Каждый человек немощен, любой может пасть и согрешить. Только один Бог без греха. Ты слышишь, дитятко мое маленькое?
Но Мария не отвечает. Бледное лицо в пятнах стыда и ледяные руки безвольно упали. Будто кукла содрогается она в крепких руках старца.
– Мне ли ты не отвечаешь, жизнь моя! Ведь это ради тебя вышел я из затвора, ехал на лошади в эту даль, вкушал презренное мясо и упивался вином, выдавая себя за старого блудника.
Только на исходе ночи приходит в себя Мария и, успокоившись, говорит сквозь слезы:
– Стыдно и горько мне, учитель. Как я могу молиться Богу оскверненными устами?
– Дитя мое, да будет грех твой на мне. Я буду отвечать за тебя на суде Божием. Тебя же я умоляю, дитятко мое возлюбленное, вернись в свою келью, да затворись в ее спасительном покрове. Пощади мою старость!
– Если ты уверен, что Господь простит меня, то я готова все оставшиеся дни провести в покаянии. Я счастлива буду умывать своими слезами твои ноги, которые привели тебя сюда для моего спасения.
– Встань же! Пойдем отсюда.
– У меня здесь в тайнике много золота. Что мне с ним делать?
– Это нечестное богатство, деточка. Оставь его, и уйдем.
Бесшумной тенью проскальзывают беглецы мимо хозяина, храпящего за столом в обнимку с пустым кувшином и обглоданной костью. Авраамий подсаживает Марию на широкое седло из воловьей шкуры, садится сам. Сперва сильно гонит старец лошадь, отдохнувшую за ночь. Затем, когда город остается далеко за холмами, он спешивается и ведет ее под уздцы, радостно оглядываясь на притихшую Марию, как пастырь на заблудшую овечку.
И не страшно, что во время этой поездки пришлось оскоромиться. Господь не в желудок смотрит, а в сердце. И если там живет жертвенная любовь к падшему созданию Божию, то и Небеса сорадуются спасительному обращению. И не страшно, что от долгой тряски в седле напомнили о себе старые переломы, отбитые почки, которые теперь ноют и горят.
…Три года на берегу солнечного Геллеспонта он ради послушания епископу обращал в христианскую веру язычников. Три года избивали его несчастные язычники кольями и камнями до полусмерти. Но однажды собрались вместе и вспомнили, что ни разу от старца никто слова плохого не услышал, но только ласку и кроткие вразумления. И пошли они к Авраамию, и просили его пасти их стадо заблудшее.
Но ни пятьдесят лет земляного затвора, ни обращение язычников, ни победа в схватке с самим сатаной – ничего так не радовало старца, как возвращение этой заблудшей овечки.
Вернувшись в свою келью, Мария дни и ночи напролет слезно молит Бога о помиловании. Ее рыдания прерываются лишь на миг, возгораясь снова и снова. Длится это год за годом – несколько лет. Но Мария утратила чувство времени. Для нее открылись врата вечности. Огнем покаяния она воссоединяется с огнезрачными жителями небес. Старец Авраамий иногда приникает к окошку, соединяющему их кельи. И обоняет тонкий аромат, текущий оттуда. В знак прощения милостивый Господь дарует Марии благодать исцеления. И множество приехавших издалека хромых и расслабленных уходят отсюда на своих ногах.
…Не сразу, как от сна в явь, возвращаюсь в обычное состояние. Ноги идут, руки двигаются в такт, а душа творит свое дело.
В дивный миг, когда мое сознание освобождается от множества нитей, раздирающих внимание в разные стороны…
В дивный миг, когда время останавливается…
…А пространство плавит углы и высоты, обращаясь в поток, который бесшумно подхватывает и бережно несет меня в океан сверкающего покоя…
В редчайший по красоте миг попытки моего смирения…
…Чья-то грубая рука хватает меня за плечо и разворачивает от мирного покоя к мятежному уродству: передо мной красные глаза пьяницы. С трудом узнаю в опухшей физиономии знакомые черты своего приятеля.
– Слышь, Тихон, ты это… там Маня с какой-то японкой гуляет вторую неделю, – тычет он трясущимся пальцем в сторону пивбара. – Ты это… я больше не могу. Здоровья нет. И на работу пора. Ты это… вытащи ее оттуда. Она тебя послушает. Все. Аут… – он понуро уходит. Его качает ветром. Его сейчас, как плащ, можно через плечо перебросить.
Оглядываюсь на Валерия. Тот невозмутимо кивает и шепотом произносит: «во ад сойду – Ты там еси». По дороге ему поясняю. Маша – моя школьная подруга. Она постоянно влипает в какие-то неприятности, из которых приходится ее вызволять. Вообще-то она добрая, готовая каждому помочь. Но все делает как-то глупо. Может быть, поэтому у нее все через пень-колоду. Она чистосердечно влюблялась в мужчин и серьезно выходила замуж три раза. Только мужья на второй месяц начинали гулять от нее. Она узнавала об этом через подруг и приступала к спасению брака. Мужей находила она среди богемы. Им было невдомек, как можно жить с одной женщиной. Так она влюбляется до сих пор и все так же упорно попадает в скверные истории.
Итак, мы спускаемся в подземелье с красно-черными стенами, чем-то похожее на местность, на которую намекал Валерий. У входа в зал дорогу нам преграждает охранник. Объясняю, что пришел к Маше, называю полное ее имя. В это время из зала раздается крик:
– Тихон! Входи. Пропустите его.
Мы с Валерием входим в полупустой зал, где накрыты несколько сдвинутых столов. Здесь сидят четыре человека. Среди них две резвые женщины и двое мужчин, способных лишь кивать и многозначительно улыбаться. Метрдотель провожает нас и уважительно сажает напротив. Видимо, девочки не скупятся…
– Тишенька, счастье ты наше! Что же ты так долго ехал? – вопит Маша. – Я приказывала тебя доставить много раз.
«Счастье» – это перевод моего имени на русский язык… Разглядываю свою школьную подругу. Если бы не яркий румянец на впалых щеках и с гнусавинкой прононс, понять, что эта дама пьяна, было бы невозможно. У Маши все длинное: пальцы, шея, ноги, нос, глаза и губы – это следствие, по ее мнению, смешения в ее артериях разнородных кровей. Впрочем, судя по ее бесшабашности, русская все остальные придавила. Перед ней за частоколом бутылок и бокалов высится гора красных панцирей и окурков. Рядом лежат сотовый телефон, пудреница и телефонная книжка. Она одновременно ест, пьет, курит, давит пальцем на кнопки телефона, делает пометки в блокноте и говорит:
– Ты видишь эту узбечку? Вообще-то она не узбечка, а японка. У нее папа русский дипломат, а мама японская японка. Зовут ее Катька. Вообще-то она не Катька, а какая-то Катаяма, что ли? Я так до сих пор и не выучила. Не важно! Катька как приезжает в Россию, в ней русский генотип дыбом встает, и она зовет меня водку пить. И самое страшное: у нее денег и здоровья ужас сколько. Мы уже две недели гудим, здесь перебывало пол-Москвы. Здоровые мужики падают, их выносят, а Катька только сегодня икать начала. А это значит, что запаса прочности у нее еще дня на три-четыре. Нет, ну ты скажи, Тишенька, это у нее от Стеньки Разина или от самураев?
– Это, Манечка, смотря на какую тему вы пьете, – рассуждаю вслух.
– Она пьет, потому что ей в России грустно делается.
– А почему грустно, Катюш? – заглядываю в щелочку узких глаз.
– Смысла… ик… не могу… ик… найти… ой! – задумчиво поясняет русская японка.
– А почему, Катюша, ты столь тонкий предмет в подвале ищешь? Вы что там, на своих островах, Достоевского не читали, или Бунина, Акиру Куросаву не смотрели?
– Там это не нужно, а здесь некогда, – отвечает за подругу Маша. – Дело в том, что мы пытаемся найти смысл через людей, поэтому их сюда и зазываем. А они как накушаются, сразу нить теряют. Поэтому за две недели мы его и не нашли. И так каждый Катькин приезд.
– У вас машина есть? – спрашиваю наобум.
– Как не быть! Целый лимузин с «Мосфильма». Длинный, как батон сервелата. Думаешь, как мы народ туда-сюда возим.
Я встаю и решительно заявляю:
– Слушай мою команду! Всем на выход, погружаемся в транспортное средство.
Первой вскакивает японка, готовая на все, вплоть до харакири. Следом – Маша. За ними вяло встают мужчины из богемной сферы.
Ехать в лимузине еще терпимо, но забираться внутрь и рассаживаться по местам – это мучение. Полубезумные люди, согнувшись в три погибели, тычутся друг в друга, с охами и стонами расползаются по сидениям. Я сажаю Валерия рядом с водителем и объясняю маршрут. Валера кивает: дорогу он знает, был там не раз.
Маша, разумеется, усаживает меня в кресле рядом с собой. Поначалу она продолжает кричать, но чем сильнее она сотрясает мою барабанную перепонку, тем тише я отвечаю. Так и она затихает и говорит спокойно:
– Знаешь, Тишенька, я так устала.
– Еще бы – столько яда усвоить.
– Это, конечно, есть, но не главное. Понимаешь, надоело расшибать нос о стену. Уж столько раз жизнь меня учила, а все зря. Ты тоже чего-то вечно ищешь. Скажи честно, Тиша, ты нашел, чего искал?
– Нашел, Машенька.
Другие электронные книги автора Александр Петров
Миссионер




 4.5
4.5
Созерцатель




 4.6
4.6
Другие аудиокниги автора Александр Петров
Сказки для Сонечки




 4.67
4.67
Миссионер




 4.67
4.67