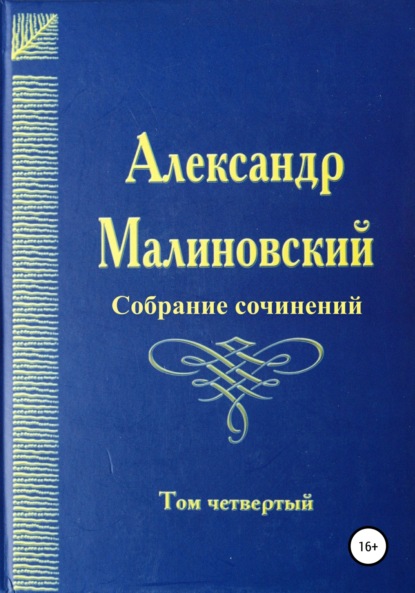По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений. Том 4
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Алексеевич вместо ответа только досадливо морщится, и, молча потянув из-под говорившего свою гимнастерку, встает, и идёт со двора.
…– А, а, внученька, дорогая, иди-ка сюда. Как ты поживаешь? – Бабка Степанида из-под руки смотрит на Любку, другой кормит кур.
– Хорошо, бабуля.
– А скажи-ка, зовешь своего отца-то как следует аль нет?
– Зову, – соврала Любка.
– А…а, какая умница стала. На-ка тебе за это конфетку.
Бабка Степанида долго шарит в подолах своих длинных юбок, находит наконец какой-то потайной карман и извлекает оттуда две карамельки. О подол вытирает их.
– Нате, нате, золотые мои.
Любка быстро отправляет конфету в рот и уже, приоткрыв калитку, на ходу сознается, сверкнув озорно глазами:
– Бабуля, а я никак его не зову.
И выбегает на улицу.
…– Ты бы хоть бороду сбрил, Коля, – говорит Любкина мать вечером после ужина, – а то так ребенок дикарем и растет.
– Сейчас дочь отцом не называет, а сбрею – жена смотреть не будет.
– Глупый ты у меня ещё, Коленька, – мать Любки подходит и обнимает дядю Колю, – у других ног нет, без рук возвращаются – так они без ума радешеньки, а ты целехонек весь. Ты свои шрамы на войне получил, а не в пьяной драке, понял, горюшко моё? Ты же у нас герой. Эти шрамы на теле. Пострашнее те, которые в душе. Ты думаешь, она маленькая? Не переживает? Переживает. А за что ребенку такое?
– Война никого не щадит.
– Не щадит, Коля. Мама говорит, что мне надо уехать в Сосновку на недельку, а вам остаться. Пусть привыкает. Уехать, Коленька?
– Не надо, ничего не надо. Не надо возню вокруг этого разводить. Всему своё время. Она умная девчонка, сама говоришь.
Мы с Любкой всё слышим. Дверь в избу открыта, и мы стоим в сенцах, затаившись за старым шкафом.
– Завтра буду звать его отцом, – говорит Любка, мне ведь совсем не трудно.
…Через несколько минут мы уже бежим ловить бабочек на поляну за Бесперстовой баней. Там в буйных зарослях конопли и лебеды мы храним в банках целую коллекцию засушенных жуков, бабочек, растений всяких.
И никто об этом не знает.
Яблоко победы
Мой дядя Алексей вернулся с войны значительно позднее мая 1945 года. Потому-то его возвращение и смогло задержаться в моей памяти – к тому времени мне было около четырех лет.
Дядя был с товарищем.
Отчетливо помню, как разом стало тесно от серых шинелей в нашей избе, как потом мы сидели все за столом в передней. Помню себя, державшего в руках гостинец дяди – большое красное яблоко.
Не знаю, когда я впервые услышал слово «победа». Может, когда во все глаза глядел, держа обеими руками яблоко, на этих людей, пришедших с войны, или позднее…
Но так уж получилось, что теперь слово «победа» я не могу представить без неперестающего волновать душу серого цвета военных шинелей и того огромного красного яблока.
«Яблоко победы», – произнёс я однажды уже взрослым и осекся. Каким же должно было быть дерево, которое вырастило его! С каким трудом досталось это яблоко! И какое же оно красное…
Пронькин осокорь
Утром, пока я ладил новое вязовое окосиво, он ходил молча вдоль покосившегося плетня, исподволь наблюдая за мной. Когда же нехитрая моя работа была закончена, сказал, будто мы с ним говорили все утро:
– А что, не к Лушкиной ли поляне собрался?
– К ней, – отвечаю.
– А не возьмешь ли меня с собой?
– Могу, – торопливо соглашаюсь я, почему-то боясь обидеть старика отказом, а сам пытаюсь сообразить, для какой такой цели надо деду Проняю в его восемьдесят быть на Лушкиной поляне. Чудит, думаю, дед.
Уже садясь на мотоцикл, кричу ему на ухо, стараясь не столько пересилить тарахтенье мотора, сколько дедову глухоту:
– А что за забота в лесу?
– Забота у меня давнишняя.
Дорогой я пытался вспомнить, все, что знал о старике. И оказалось, что знаю-то совсем мало. Даже отчество не помню. Прон Репков – вот и все. И имя и фамилия для наших мест редкие. Вроде был женат.
Когда приехали, дед засуетившись, молча направился к речному обрыву, оставляя за собой глубокую тропинку в буйном разнотравье. Немного помедлив, последовал за ним и я.
Лушкина поляна метров двести длиной. Одним своим концом выходит из лесной чащи на речной обрывистый берег.
Проняй остановился около великана осокоря, стоявшего метрах в четырех от речного обрыва, и надолго замер, не обращая на меня никакого внимания.
…После того, как четверть поляны покрылась рядами скошенной травы, я подошёл к осокорю. Дед сидел, прислонив спину к могучему стволу дерева. Спал или делал вид, что спит.
Уже возвращаясь на поляну, я через плечо посмотрел на обрыв. Осокорь стоял молчаливо и раздумчиво. И тут меня поразила какая-то неуловимая связь между деревом и человеком. Это нельзя было передать словами, об этом нельзя было спросить. Надо было, очевидно, догадаться, что-то понять самому. Путаясь в догадках, но уже не сердясь на старика за его молчаливость, вернулся к своей работе.
Домой по-прежнему ехали молча.
Все это сразу бы и забылось, если б не случайный разговор, осветивший иным светом и сделавший понятным поведение Прона Репкова.
Единственный оставшийся в живых свидетель давней истории, одногодок Репкова Матвей Качимов рассказывал:
– Не скрою, завидовал я Прону, счастливей меня оказался. Его Улька полюбила, а не меня. Я и петь, и танцевать всегда первый был, а Прон – молчун молчуном, а заговорит, то все про лес да птиц и зверье разное. Вот обида меня и мучила.
Но не суждено им было свадьбу сыграть. В восемнадцатом году, когда пришли белочехи, попалась Уля на глаза трем солдатам – подкараулили они её в леске… Ну, и ясное дело. Утопилась Ульяна в тот же вечер, не пережив позора.
– А Прон что?
– На том месте, где утопилась Ульяна, посадил Прон осокорь, в память о ней.
…– А, а, внученька, дорогая, иди-ка сюда. Как ты поживаешь? – Бабка Степанида из-под руки смотрит на Любку, другой кормит кур.
– Хорошо, бабуля.
– А скажи-ка, зовешь своего отца-то как следует аль нет?
– Зову, – соврала Любка.
– А…а, какая умница стала. На-ка тебе за это конфетку.
Бабка Степанида долго шарит в подолах своих длинных юбок, находит наконец какой-то потайной карман и извлекает оттуда две карамельки. О подол вытирает их.
– Нате, нате, золотые мои.
Любка быстро отправляет конфету в рот и уже, приоткрыв калитку, на ходу сознается, сверкнув озорно глазами:
– Бабуля, а я никак его не зову.
И выбегает на улицу.
…– Ты бы хоть бороду сбрил, Коля, – говорит Любкина мать вечером после ужина, – а то так ребенок дикарем и растет.
– Сейчас дочь отцом не называет, а сбрею – жена смотреть не будет.
– Глупый ты у меня ещё, Коленька, – мать Любки подходит и обнимает дядю Колю, – у других ног нет, без рук возвращаются – так они без ума радешеньки, а ты целехонек весь. Ты свои шрамы на войне получил, а не в пьяной драке, понял, горюшко моё? Ты же у нас герой. Эти шрамы на теле. Пострашнее те, которые в душе. Ты думаешь, она маленькая? Не переживает? Переживает. А за что ребенку такое?
– Война никого не щадит.
– Не щадит, Коля. Мама говорит, что мне надо уехать в Сосновку на недельку, а вам остаться. Пусть привыкает. Уехать, Коленька?
– Не надо, ничего не надо. Не надо возню вокруг этого разводить. Всему своё время. Она умная девчонка, сама говоришь.
Мы с Любкой всё слышим. Дверь в избу открыта, и мы стоим в сенцах, затаившись за старым шкафом.
– Завтра буду звать его отцом, – говорит Любка, мне ведь совсем не трудно.
…Через несколько минут мы уже бежим ловить бабочек на поляну за Бесперстовой баней. Там в буйных зарослях конопли и лебеды мы храним в банках целую коллекцию засушенных жуков, бабочек, растений всяких.
И никто об этом не знает.
Яблоко победы
Мой дядя Алексей вернулся с войны значительно позднее мая 1945 года. Потому-то его возвращение и смогло задержаться в моей памяти – к тому времени мне было около четырех лет.
Дядя был с товарищем.
Отчетливо помню, как разом стало тесно от серых шинелей в нашей избе, как потом мы сидели все за столом в передней. Помню себя, державшего в руках гостинец дяди – большое красное яблоко.
Не знаю, когда я впервые услышал слово «победа». Может, когда во все глаза глядел, держа обеими руками яблоко, на этих людей, пришедших с войны, или позднее…
Но так уж получилось, что теперь слово «победа» я не могу представить без неперестающего волновать душу серого цвета военных шинелей и того огромного красного яблока.
«Яблоко победы», – произнёс я однажды уже взрослым и осекся. Каким же должно было быть дерево, которое вырастило его! С каким трудом досталось это яблоко! И какое же оно красное…
Пронькин осокорь
Утром, пока я ладил новое вязовое окосиво, он ходил молча вдоль покосившегося плетня, исподволь наблюдая за мной. Когда же нехитрая моя работа была закончена, сказал, будто мы с ним говорили все утро:
– А что, не к Лушкиной ли поляне собрался?
– К ней, – отвечаю.
– А не возьмешь ли меня с собой?
– Могу, – торопливо соглашаюсь я, почему-то боясь обидеть старика отказом, а сам пытаюсь сообразить, для какой такой цели надо деду Проняю в его восемьдесят быть на Лушкиной поляне. Чудит, думаю, дед.
Уже садясь на мотоцикл, кричу ему на ухо, стараясь не столько пересилить тарахтенье мотора, сколько дедову глухоту:
– А что за забота в лесу?
– Забота у меня давнишняя.
Дорогой я пытался вспомнить, все, что знал о старике. И оказалось, что знаю-то совсем мало. Даже отчество не помню. Прон Репков – вот и все. И имя и фамилия для наших мест редкие. Вроде был женат.
Когда приехали, дед засуетившись, молча направился к речному обрыву, оставляя за собой глубокую тропинку в буйном разнотравье. Немного помедлив, последовал за ним и я.
Лушкина поляна метров двести длиной. Одним своим концом выходит из лесной чащи на речной обрывистый берег.
Проняй остановился около великана осокоря, стоявшего метрах в четырех от речного обрыва, и надолго замер, не обращая на меня никакого внимания.
…После того, как четверть поляны покрылась рядами скошенной травы, я подошёл к осокорю. Дед сидел, прислонив спину к могучему стволу дерева. Спал или делал вид, что спит.
Уже возвращаясь на поляну, я через плечо посмотрел на обрыв. Осокорь стоял молчаливо и раздумчиво. И тут меня поразила какая-то неуловимая связь между деревом и человеком. Это нельзя было передать словами, об этом нельзя было спросить. Надо было, очевидно, догадаться, что-то понять самому. Путаясь в догадках, но уже не сердясь на старика за его молчаливость, вернулся к своей работе.
Домой по-прежнему ехали молча.
Все это сразу бы и забылось, если б не случайный разговор, осветивший иным светом и сделавший понятным поведение Прона Репкова.
Единственный оставшийся в живых свидетель давней истории, одногодок Репкова Матвей Качимов рассказывал:
– Не скрою, завидовал я Прону, счастливей меня оказался. Его Улька полюбила, а не меня. Я и петь, и танцевать всегда первый был, а Прон – молчун молчуном, а заговорит, то все про лес да птиц и зверье разное. Вот обида меня и мучила.
Но не суждено им было свадьбу сыграть. В восемнадцатом году, когда пришли белочехи, попалась Уля на глаза трем солдатам – подкараулили они её в леске… Ну, и ясное дело. Утопилась Ульяна в тот же вечер, не пережив позора.
– А Прон что?
– На том месте, где утопилась Ульяна, посадил Прон осокорь, в память о ней.