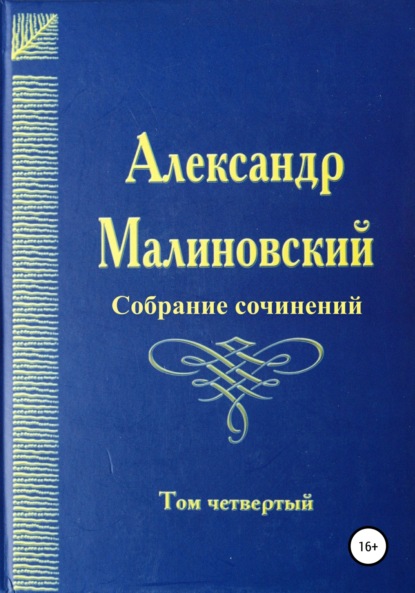По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений. Том 4
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Маленькая, светящаяся изнутри необъяснимым, мудрым светом, она смотрит на мир своими добрыми глазами, видавшими голод, смерть, и улыбается этому вечному миру, в котором по чьей-то забывчивости все ещё живет. И думается мне, когда я смотрю на неё, что к старости в человеке все мрачное и угрюмое пропадает и остается только то светлое, что было заложено при рождении и что встретилось ему в его долгой и такой мгновенной жизни.
Иногда мне хочется представить её молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая она, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали её такой светлой, желающей всем добра и счастья?
…Каким я приду к своей старости?
Выпь
Возвращался ночью с охоты. На болоте кричала выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.
Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.
– Удивительно! – говорил мне на следующее утро мой дядя, давний охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошние вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.
Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства…
Любка
У Горюшиных мяли глину. Стайка ребятишек сидела на бревнах рядом. Тут же Петька Сонюшкин, по-уличному – Карась. Поблескивая звонкими медалями на выцветшей и чистенькой гимнастерке, а ещё больше своими весёлыми темными глазами, поглядывал на оголивших крепкие загорелые ноги горюшиных рослых девчат.
– Эх, кабы не мои болячки, станцевал бы я с тобой цыганочку, Варюха, в глиняном твоём кругу! – Петька осторожно, как маленького ребенка, обеими руками переложил забинтованную негнувшуюся правую ногу с подпиравшего её костыля на бревно, – вот отнянчаю её, и первый вальс с тобой.
Затекли ноги, и мы с Любкой спрыгнули с низенького плетня на землю, подошли к высокому окошку с играющим патефоном. В тот самый момент в распахнутые ворота вбежал десятилетний брат Варьки, Вовка:
– Ты тут, Любаха, прохлаждаешься, а твой отец с войны пришел, из госпиталя.
Уже на бегу, не поспевая за шумной стаей ребятни, я подумал, что отец Любки должен быть непременно красивее задаваки Карася и медалей у него должно быть никак не меньше.
Чтобы увидеть происходившее в избе, нам с Любкой понадобилось пробираться через столпившихся у порога ребятишек и взрослых. Когда же протиснулись к столу, она досадливо потупилась. За столом на коленях у огромного с бородой в военной форме человека сидела Танька, в руке у неё был кусок сахара.
– И сеструха меня обогнала, кругом не успела, – горько прошептала Любка.
– Любушка, что же ты, подойди к отцу, – мать легонько подтолкнула её в спину.
Любка сделала два шага вперед и тут же, подхваченная крепкой рукой, оказалась на коленях у отца.
– Ну вот, теперь весь мой женский батальон в сборе.
Я видел, Любке было неудобно сидеть на коленях отца, болела ещё, наверное, ушибленная о калитку нога, и она запросилась на лавку.
– Дичок ещё, Коля, привыкнет. Ведь она тебя и не помнит, было-то ей до войны всего три годочка, – улыбчиво говорила Любкина мать.
– Ну, ладно, Лексеич, значит, повидались, и хорошо. О делах поговорим потом. Денька через два-три приходи в правление. – Председатель колхоза Шульга мелкими шажками устремился к выходу.
– И чего он такой бородатый и пребольшущий, мой отец? Вон Карась какой, красивый, хоть и нога не ходит, – зашептала мне Любка, – а может, это и не мой отец, а так только все говорят?
– Тань, Тань, правда, что это наш отец? – Любка потянула сестренку за рукав, когда мы оказались за воротами на улице.
– Вот чудная какая, а кто же?
– А почему он с бородой?
– Ну почему, почему? Разве нельзя? Вон дед наш тоже с бородой был.
– А на фотографиях отец без бороды, – не сдаётся Любка.
– Ну тебя с твоими придумками. Мамка и отцу сказала, что ты у нас чудная.
– А почему он вам с мамкой платки привез, а мне нет? – вздохнув, спросила Любка. Но сестра ничего не ответила.
Прошла неделя, а Любка так и не решила свой главный вопрос.
– Ты почему не зовешь его папой, – больно щипнула Любку сестра, – вон мамка вчера Горюшиным жаловалась на тебя, какая ты непонятливая.
– Ах, так! Не буду и не буду. Вы все против меня! Ты зачем так щиплешься?
…– Люба, Любашка, иди-ка сюда!
Любка соскакивает с бревна и идёт к матери.
– Сбегай-ка за отцом на общий двор, позови обедать. Опять опаздывает.
Любка нехотя выходит на улицу.
…Отца её мы нашли на ферме. Поснимав рубахи, трое мужчин (два коренастых и загорелых и один худой и белый) ставили новый сруб в колодец. Чуть поодаль дядя Коля тесал подушку для телеги.
– Алексеич, подмога пришла.
Один из мужиков, ловко вонзив топор в бревно, скомандовал:
– Шабаш, чувствую, на обед пора, раз гонцы появились.
Подойдя ближе и глядя куда-то в пустоту, а не на отца, Любка скороговоркой выпалила:
– Мамка послала звать обедать, все уже на столе.
– Обедать, говоришь, ну-ка, дочка, подойди, нам поговорить надо.
Глянув в лицо отцу, Любка вдруг чего-то испугалась.
– Не-е, мне надо ещё к бабке заскочить, мать велела.
Насчет бабки Любка придумала на ходу.
– Что, солдат, не ладятся отношения с дочерью? – поинтересовался один из плотников, тот, который высокий и белый.
– Да, хвастаться нечем.
– А на что ж ремень солдатский? Аль не знаешь, как применить?
Иногда мне хочется представить её молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая она, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали её такой светлой, желающей всем добра и счастья?
…Каким я приду к своей старости?
Выпь
Возвращался ночью с охоты. На болоте кричала выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.
Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.
– Удивительно! – говорил мне на следующее утро мой дядя, давний охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошние вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.
Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства…
Любка
У Горюшиных мяли глину. Стайка ребятишек сидела на бревнах рядом. Тут же Петька Сонюшкин, по-уличному – Карась. Поблескивая звонкими медалями на выцветшей и чистенькой гимнастерке, а ещё больше своими весёлыми темными глазами, поглядывал на оголивших крепкие загорелые ноги горюшиных рослых девчат.
– Эх, кабы не мои болячки, станцевал бы я с тобой цыганочку, Варюха, в глиняном твоём кругу! – Петька осторожно, как маленького ребенка, обеими руками переложил забинтованную негнувшуюся правую ногу с подпиравшего её костыля на бревно, – вот отнянчаю её, и первый вальс с тобой.
Затекли ноги, и мы с Любкой спрыгнули с низенького плетня на землю, подошли к высокому окошку с играющим патефоном. В тот самый момент в распахнутые ворота вбежал десятилетний брат Варьки, Вовка:
– Ты тут, Любаха, прохлаждаешься, а твой отец с войны пришел, из госпиталя.
Уже на бегу, не поспевая за шумной стаей ребятни, я подумал, что отец Любки должен быть непременно красивее задаваки Карася и медалей у него должно быть никак не меньше.
Чтобы увидеть происходившее в избе, нам с Любкой понадобилось пробираться через столпившихся у порога ребятишек и взрослых. Когда же протиснулись к столу, она досадливо потупилась. За столом на коленях у огромного с бородой в военной форме человека сидела Танька, в руке у неё был кусок сахара.
– И сеструха меня обогнала, кругом не успела, – горько прошептала Любка.
– Любушка, что же ты, подойди к отцу, – мать легонько подтолкнула её в спину.
Любка сделала два шага вперед и тут же, подхваченная крепкой рукой, оказалась на коленях у отца.
– Ну вот, теперь весь мой женский батальон в сборе.
Я видел, Любке было неудобно сидеть на коленях отца, болела ещё, наверное, ушибленная о калитку нога, и она запросилась на лавку.
– Дичок ещё, Коля, привыкнет. Ведь она тебя и не помнит, было-то ей до войны всего три годочка, – улыбчиво говорила Любкина мать.
– Ну, ладно, Лексеич, значит, повидались, и хорошо. О делах поговорим потом. Денька через два-три приходи в правление. – Председатель колхоза Шульга мелкими шажками устремился к выходу.
– И чего он такой бородатый и пребольшущий, мой отец? Вон Карась какой, красивый, хоть и нога не ходит, – зашептала мне Любка, – а может, это и не мой отец, а так только все говорят?
– Тань, Тань, правда, что это наш отец? – Любка потянула сестренку за рукав, когда мы оказались за воротами на улице.
– Вот чудная какая, а кто же?
– А почему он с бородой?
– Ну почему, почему? Разве нельзя? Вон дед наш тоже с бородой был.
– А на фотографиях отец без бороды, – не сдаётся Любка.
– Ну тебя с твоими придумками. Мамка и отцу сказала, что ты у нас чудная.
– А почему он вам с мамкой платки привез, а мне нет? – вздохнув, спросила Любка. Но сестра ничего не ответила.
Прошла неделя, а Любка так и не решила свой главный вопрос.
– Ты почему не зовешь его папой, – больно щипнула Любку сестра, – вон мамка вчера Горюшиным жаловалась на тебя, какая ты непонятливая.
– Ах, так! Не буду и не буду. Вы все против меня! Ты зачем так щиплешься?
…– Люба, Любашка, иди-ка сюда!
Любка соскакивает с бревна и идёт к матери.
– Сбегай-ка за отцом на общий двор, позови обедать. Опять опаздывает.
Любка нехотя выходит на улицу.
…Отца её мы нашли на ферме. Поснимав рубахи, трое мужчин (два коренастых и загорелых и один худой и белый) ставили новый сруб в колодец. Чуть поодаль дядя Коля тесал подушку для телеги.
– Алексеич, подмога пришла.
Один из мужиков, ловко вонзив топор в бревно, скомандовал:
– Шабаш, чувствую, на обед пора, раз гонцы появились.
Подойдя ближе и глядя куда-то в пустоту, а не на отца, Любка скороговоркой выпалила:
– Мамка послала звать обедать, все уже на столе.
– Обедать, говоришь, ну-ка, дочка, подойди, нам поговорить надо.
Глянув в лицо отцу, Любка вдруг чего-то испугалась.
– Не-е, мне надо ещё к бабке заскочить, мать велела.
Насчет бабки Любка придумала на ходу.
– Что, солдат, не ладятся отношения с дочерью? – поинтересовался один из плотников, тот, который высокий и белый.
– Да, хвастаться нечем.
– А на что ж ремень солдатский? Аль не знаешь, как применить?