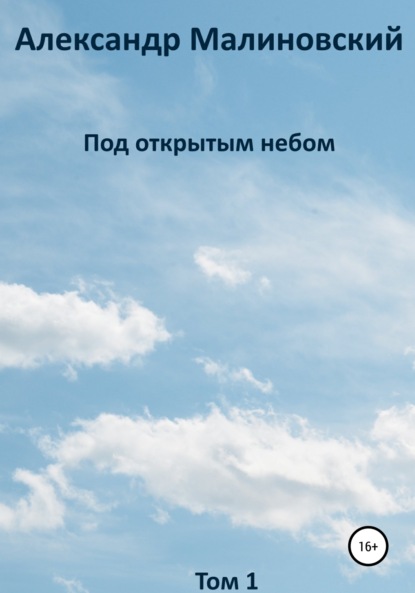По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Под открытым небом. Том 1
Год написания книги
2006
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Откуда ты знаешь?
Она помолчала, потом продолжила:
– Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, выспрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко на тебя смотрели, спрашивали, ты ли сын Стаса, и уходили, ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабьим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.
Вздохнув, задумчиво добавила:
– Может, пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху-ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся в сорок шестом и тебя усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука – не захотел, видимо, мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как всё поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один ещё живой, а другой – может, и живой, да не знай где.
«Как всё поделить? Как всё поделить?» – стучало в висках у Шурки. Он не заметил, как выпустил из рук корзинку. Она опрокинулась, весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, поставил корзину на порог. Быстро ушёл в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела заплаканного лица.
Договор
Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин, с уздечкой в руках. Он из Заколюковки – самой дальней утёвской улицы. И не один – со своим дружком Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал в сумке большую белую чернильницу-непроливашку.
Мишка подошёл поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, пустился вприсядку около Шурки:
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.
Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз оказался перед непреодолимой преградой. Мишка крутил перед собой уздечку. Она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурку по щеке.
– Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!
– Тебе слабо самому – один на один, – у Шурки нервно тряслись руки. Он уже ничего не боялся.
– Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? – предложил Кар.
– А Мишка согласен? – спросил Шурка.
– А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. – Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И, уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого ещё обиднее, скорчил рожу и пропищал:
Поляк, поляк, с печки бряк —
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец,
Гутен морген, гутен таг.
«Семиклассник, а такой дурень», – подумал с досадой Шурка.
Молодая пряха
В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряха
У окна сидит.
Ровный и красивый голос деда завораживает Шурку. Сейчас дед сидит в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком чурбачке и вяжет сетку, вернее – бредень, закрепив верёвочки за дужку железной кровати.
– Если два выходных ещё повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.
– А как это – отводом?
– Долго рассказывать. Сам увидишь, – отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряхе:
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Шуркин дед всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Вечный единоличник, никогда не был в колхозе. А зачем ему колхоз: его постоянная должность – конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.
Шурка любил, когда дед пел в дороге, в степи, в лесу… Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.
В прошлом году на маёвку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене около Осинового озера. Там ровная площадка и от неё круто поднимается косогор. Он и служил одной большой трибуной. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное – слева, справа – Осиновое и Лещевое. Дальше, где синева ложится большим широким пологом с белыми кудряшками на зелёную необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка. От неё всегда исходит особый свет.
Когда объявили «Липу вековую», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня!».
Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня. Слова были те же, мелодия почти та же, но – другая. Певец был напорист и резок, будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дед никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване. От этого песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего знакома, лошади свои, цель впереди ясна. Тревоги не было. Было уверенное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что ещё будет.
Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но негромко. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать. Сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещевого озера. Там у него стояли пять раколовок. Надо до вечера их проверить и вернуться домой.
Отец приехал
Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня отправились за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.
В Самару поехали через Кряж, а обратно планировали – через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-Малышевке у Репкова, в Крепости – у Янина, дорога дальняя – под сто километров.
– Всё, Шура, – говорила мать, – начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай, что к чему.
– А что, мам?
– Ну хотя бы жить тебе надо теперь в своём доме, не у деда, а то нехорошо как-то.
– Но деда с бабой на меня обидятся?
– Нет, не обидятся. Можно у них бывать, а ночевать лучше домой, ладно?
– Ладно, – соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно. У деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядья Алексей и Серёга – с ними всегда здорово.
– Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит – и всё, уморят там мужика. Раз вставать стал – заберём домой, скорее прилепится к жизни».
Мать пристально посмотрела на Шурку:
– Будешь его отцом звать?
– Буду. Я уже звал в госпитале.