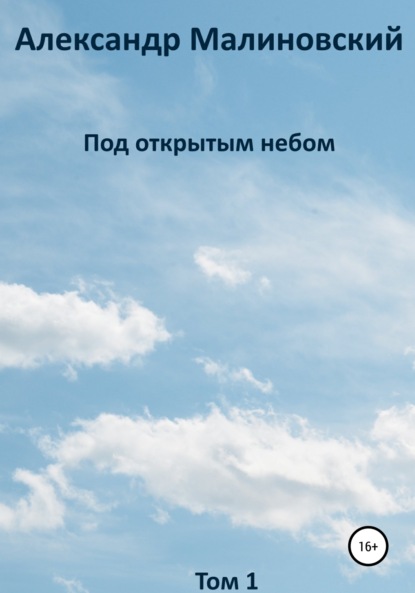По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Под открытым небом. Том 1
Год написания книги
2006
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как долго по бездорожью в снегопад добирались домой, и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости ещё не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.
Юрьева гора
Замечательная это штука – Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачёвых. Гора бывает разной. Если на дворе мороз крепкий, то, политая водой, она превращается в такой ледяной жёлоб, что с ветром в ушах мчишься с неё в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пудовкину – первым утёвским большевикам. Их расстрелял карательный отряд белых. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, дальней родственницей Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.
Если много снега, то на горе хорошо играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, её надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.
Если с горы съезжать сразу вбок – в огороды, то там уклон крутой и с трамплином. Редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать – гиблое дело. Салазки – совсем иное.
И ещё есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:
– На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе – какие-то чужие военные. Привели нашинских бедненьких, все избитые. Не успела понять, что готовится, как затрещали выстрелы. Оба и упали в пыль. Я побежала к себе во двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнилась – начались роды, хорошо, что Иван дома был.
Только разродилась, военные к нам: большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь убёг из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван – раз под кровать – и притаился.
Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Один молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подзорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но солдат этот быстро опустил подзор и развёл руками, что-то сказал своему, тот махнул рукой и они выбежали во двор.
Там, на памятнике, год и число: «21 августа 1918» – это день расстрела Проживина и Пудовкина. Но это ещё и день рождения твоей матери, Шурка.
«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию Проживина. Интересно, какой он? Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утёвку когда-нибудь снимут кино», – так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы сам был участником героических дел, прославивших его село.
Кошка Акулина
«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжёлый металлический предмет… О, я никогда не забуду её страшного голоса!
– Боже мой, Элен? – кричала она. – Лента! Пёстрая лента!»
Мяукнула кошка в сенях за дверью, просясь в дом. Шурка покосился и передёрнул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.
– Шурка, будет колготиться, ложись спать.
Голос матери доносился из передней, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подсунул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не мешал спящим. Налил кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подальше от тёмного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.
Глаза побежали по строчке:
«Сестра была без сознания, когда она приблизился к ней…» Странная возня на шестке отвлекла от чтения. Он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты жёлтые глаза кошки. Чёрное тело её почти не было видно, оно сливалось с тёмным зевом печки. Такая добродушная днём, а теперь ставшая враждебной печь и два устремлённых беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.
– Тихо, Акулина, – зашептал Шурка, – маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, а завтра с утра в школу, потом с дедом ехать за соломой.
Он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями клеёнку. Шурке показалось, что она приняла снегирей, изображённых на клеёнке, за живых, и рассмеялся.
– Вот дурёха, – сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает, запрягая лошадей, – нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом. Клеёнкой пахнут.
Кошка спрыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки. По отвесной стене взбежала до потолка, там, ухватившись за торчащий крюк, повисла, как обезьянка, и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.
Шурке стало жутковато. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение чёрной молнии с двумя жёлтыми светящимися точками-глазами.
Кошка взбегала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь, как заведённая дьявольская игрушка, металась по стенам, по потолку…
Шурке стало не по себе. «Взбесилась, – подумал он. – Хорошо, что все спят, а то могла покусать».
Распахнул дверь в сени. Акулина, казалось, только этого и ждала – чёрной лентой скользнула в раскрывшееся тёмное пространство и растворилась в нём…
Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Чёрное с жёлтым всё стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла своё и он заснул.
…А утром пришла на сепаратор Нюра Сисямкина и принесла новость: этой ночью умерла бабка Акулина – бывшая хозяйка кошки. Преставилась, бедная, на девяностом году.
– Вот это да, – только и произнёс Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.
Стал искать кошку Акулину, но её нигде не было.
«Эй, Баргузин…»
– Бабушка, Баргузин – он кто?
– Как – кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?
Шурка сидит на пороге, отделяющем горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из неё набирает в кружку ягоды шиповника для чая.
Бабушка Груня чистит карасей – дед утром ходил проверять сети. Замороженные караси ожили и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимала очередного, летели водяные брызги.
– Я не вдруг. В воскресенье, когда Веньке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.
Шурка помнил тот замечательный день, деда своего, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась широко, вольно и пел её уверенно и ладно Шуркин дед. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне: «Славное море священный Байкал…».
«Священный Байкал» – это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белозубым загорелым парнем с обнажённым по пояс телом. И обязательно кудрявым.
– Так это ж ветер такой на Байкале.
– Да-а-а?.. – разочарованно протянул Шурка. – Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, – он запнулся, подбирая и обдумывая слова, – про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?
– Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы светлые, кудрявые и голубые глаза. Смотрел прямо и приветливо.
– А как оказался в Утёвке?
– Кто ж его знает? Война разметала многих по свету, вот и очутился у нас. Ему нравилось имя Саша. Тебя наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.
– Бабушка, а что он говорил, когда его забирали в армию?
– Просил нас с дедом помочь воспитать ребёнка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.
– И не вернулся? – выдохнул Шурка.
– Время такое. Он поляк – могли не пустить после войны в Россию. Может, грех на него какой положили.
– Но он жив? Так ведь?! – почти выкрикнул Шурка.