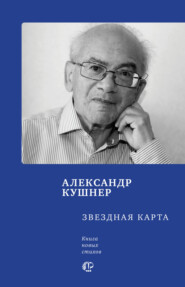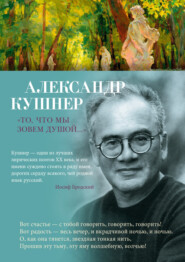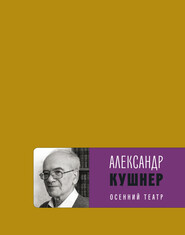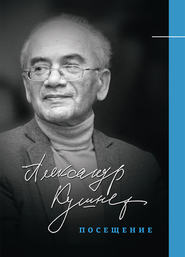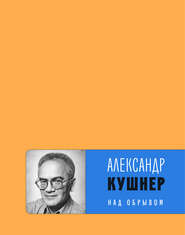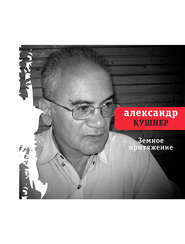По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О поэтах и поэзии. Статьи и стихи
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Как тяжко гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разделяющем нас! Мне кажется, будто, для того чтобы говорить с тобою, я должен приподнять на себе целый мир» (Э. Ф. Тютчевой, 14 июля 1843 года).
В том же письме – характерное, типично тютчевское определение времени: «И мне кажется, что без меня ты больше во власти этого недуга, именуемого временем».
Но и стихи Тютчева словно натянуты на географическую карту, надеты на острия отстоящих друг от друга за тысячи верст городов:
Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошной Генуи залив…
(«Глядел я, стоя над Невой…»)
Человек живет, и с течением времени все больше мест на земле, связываясь с мучительными воспоминаниями, оказываются для него невыносимыми: и Генуя («Прости… Чрез много, много лет / Ты будешь помнить с содроганьем / Сей край, сей брег с его полуденным сияньем»), и Ницца («О, этот Юг! о, эта Ницца!.. / О, как их блеск меня тревожит»), и Женева, и Петербург, и Овстуг…
Даже Овстуг, усадьба, в которой протекли детские годы поэта, не радует его после двадцатишестилетнего отсутствия. «И правда, в первые мгновенья по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший. Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов в сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, – все это помещается на участке в несколько квадратных сажен… Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то… что, в конечном счете, имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием. Но ты сама понимаешь, что обаяние не замедлило исчезнуть и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки…» (Э. Ф. Тютчевой, Овстуг, 31 августа 1846 года). Ровно через неделю по приезде Тютчев решает уехать из Овстуга, называя свой отъезд «возвращением из царства теней».
«Зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший», «обаяние», исчезнувшее и потонувшее «в чувстве полнейшей скуки», – кажется, невозможно найти более точных слов для выражения этого горького чувства, но Тютчев находит их, обращаясь к стихам:
О, бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах…
(«Итак, опять увиделся я с вами…»)
Перед нами два способа выражения одного чувства: прозаический и поэтический. Они у Тютчева чрезвычайно близки. Нет, не стихи ориентированы на прозу – проза Тютчева сдвинута в сторону поэзии, приподнята сердечным волнением. В то же время характерно различие меж стихами и прозой в мотивировке «безучастности» и «скуки», овладевших сознанием. В письме выдвинут мотив разлуки с близким человеком: «А между тем я окружен вещами, которые являются для меня самыми старыми знакомыми в этом мире, к счастью, – значительно более давними, чем ты… Так вот, быть может, именно эта их давность сравнительно с тобою и вызывает во мне не особенно благожелательное отношение к ним. Только твое присутствие здесь могло бы оправдать их. Да, одно только твое присутствие способно заполнить пропасть и снова связать цепь». Объяснение удивительное по своей тонкости, психологической достоверности! Но в стихах, взрывающих самые глубокие пласты человеческого существа, найден другой, более сильный, трагический мотив:
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!
В таких работах, как эта, самые уязвимые места – связки между основными тезисами. Они призваны скрепить разваливающиеся мысли, выявить в творчестве и сознании исследуемого автора систему, которой у того никогда не было.
Я не знаю, в каком отношении к мотивам расстояния, к «химерам разлуки» стоит «тема сна» у Тютчева, может быть, между ними и была какая-то связь. Но поэтическая философия, в отличие от научной, не занимается сведением концов с концами, поэтический мир не заполняет пропуски и зияния причинно-следственным раствором.
«Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами», «Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье», «Здесь человек лишь снится сам себе».
Ничуть не меньше этих снов в письмах Тютчева.
«…А в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами – гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться! Иван IV и старуха Разумовская! Как похоже на сон то, что мы называем действительностью!» (Э. Ф. Тютчевой, 9 сентября 1856 года).
Реальная жизнь для человека, не утратившего способности удивляться, – фантастична, он видит ее странность; комбинации вещей и явлений в ней неожиданней любого сна. А кроме того, она так же непрочна, так же ненадежна, как сон.
Кто смеет молвить: До свиданья,
Чрез бездну двух или трех дней?
Мысль о непрочности жизни преследует Тютчева и в его письмах. «Когда испытываешь ежеминутно… сознание хрупкости и непрочности всего в жизни, то существование, помимо духовного роста, является лишь бессмысленным кошмаром».
Здесь мы приблизились к разгадке непрофессионального отношения Тютчева к своим стихам: стоит ли заботиться о стихах, если вообще все в жизни и сама жизнь висят на волоске?
В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут…
Тютчев знал, как прекрасна и страшна жизнь, сильнее, чем кто-либо другой, ощущал ее катастрофичность. Письма его полны рассказов о внезапных катастрофах. «Нет, непрочность человеческой жизни – единственная вещь на земле, которую никакие разглагольствования и никакое ораторское красноречие никогда не в силах будут преувеличить. Я вспомнил, что в последний раз видел его с женой на костюмированном балу у великого князя Константина Николаевича, где несколько минут просидел за одним столом с ними, и они, спокойно сидя рядом, и не предчувствовали, какая пропасть готовилась раскрыться между ними…» (Э. Ф. Тютчевой, 23 июля 1856 года).
«Чувство пропасти», на краю которой находится каждый человек в каждое мгновенье своей жизни, – удивительное свойство, придающее поэзии Тютчева головокружительную остроту. Присутствие этой «всепоглощающей и миротворной бездны» в стихах и письмах Тютчева роднит его с Паскалем, ставившим между собой и пространством стул, чтобы отгородиться от мерещившейся ему пропасти.
Рассказывая о гибели в бою Андрея Карамзина, по вине которого и вместе с ним погиб весь его отряд, Тютчев пишет: «Представить себе только, что испытал этот несчастный А. Карамзин… и как в… последнюю минуту, на клочке незнакомой земли, посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти пронеслась, как молния, мысль о том существовании, которое от него ускользало: жена, сестры, вся эта жизнь, столь сладостная, столь полная ласки, столь обильная привязанностями и благоденствием» (Э. Ф. Тютчевой, 9 июня 1854 года).
XIX век, кажущийся нам таким спокойным, таким равномерно движущимся к порогам XX, был наполнен для Тютчева подземным гулом приближающейся катастрофы. Вот что он писал в 1854 году, во время Крымской войны: «Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения… ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу…» (Э. Ф. Тютчевой, 18 августа 1854 года).
Тема катастроф и катаклизмов, «роковых минут» в лирике Тютчева стала хрестоматийной и не нуждается в подкреплении цитатами. Интересно другое – что Тютчев не списывал их на «стихию» истории, а стремился вникнуть в их закономерность. Его волновал закон исторического возмездия.
В стихотворении «1856» о новом годе, родившемся в «железной колыбели», сказано: «Он совершит, как поздний мститель, / Давно задуманный удар». В письме об этом Тютчев пишет более развернуто: «В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых» (А. Д. Блудовой, 28 сентября 1857 года).
Должен признаться, это письмо производит на меня более сильное впечатление, чем стихотворение на ту же тему. Так называемые политические стихи Тютчева отпугивают дидактикой и преднамеренностью, мысль в них не рождается вместе со стихом, а задана заранее, возникнув до стиха. Здесь, кстати сказать, проясняется одно из отличий стихов от прозы. Проза нуждается в сильной мысли, всем своим ходом доказывает и развивает эту мысль. Стихи возникают иначе: их первооснова – та музыка, тот невнятный гул, который вздымает стиховую волну. Поэтическая мысль растет и набирает силу вместе со стихом, ее нельзя отодрать от стиха, представить себе отдельно от него.
Тютчев ошибся. Ни 1856-й, ни 1857-й, ни последующие годы не привели к крушению. Пророчества даже гениальных поэтов редко сбываются. Унывать по этому поводу не приходится: жизнь мудрее и таинственней своих, даже самых мудрых, детей. Когда Пушкин назвал поэта «пророком», он имел в виду не буквальное осуществление пророчеств и угадывание сроков, а способность поэта внушать тревогу и беспокойство, пробуждать совесть, «глаголом жечь сердца людей».
Да и Тютчев, стремившийся забежать вперед, подсказать истории свое представление о должном направлении завитков вышиваемого ею узора, в еще большей степени благоговел перед подспудными силами жизни, перед тем, что он назвал в одном из лучших стихотворений «божьим согласьем», своим лучом согревающим «и чистый перл на дне морском», а в другом стихотворении – хаосом, который «шевелится», который назван у него «родимым».
Эти не зависящие от человека силы, это «предопределение», не считающееся ни с нежностью, ни с любовью, ни с правотой и страданием, он прозревал и в истории, но прежде всего – в человеческой жизни.
«Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы…» – писал он А. И. Георгиевскому после смерти Денисьевой. Нет, еще в самом начале этой трагической любви были написаны стихи о «борьбе неравной двух сердец», о неизбежности гибели (какое топорное слово по сравнению со стиховым – «изноет»!) для того из них, что «нежнее».
Письма Георгиевскому, Полонскому, дочери Дарье в ужасном для него 1864 году живут рядом со стихами этого времени; три из них: «Весь день она лежала в забытьи…», «Утихла биза… Легче дышит…» и «О, этот Юг! о, эта Ницца!..» – были отправлены Георгиевскому в одном конверте с письмом.
Не только подробности и признания, но и стилистика, речевые конструкции этих писем совпадают со стихами.
«…Я говорил сам себе… что если б что и могло меня подбодрить, создать мне по крайней мере видимость жизни, так это сберечь себя для тебя, посвятить себя тебе, мое бедное, милое дитя, – тебе, столь любящей и столь одинокой, внешне столь мало рассудительной и столь глубоко искренней, – тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви…» – пишет Тютчев дочери Дарье, написавшей отцу сочувственное письмо в страшное время. «Посвятить… тебе… тебе, столь любящей и столь одинокой… тебе, кому я, быть может, передал…» Интонационно это так похоже на стихи: «Ты взял ее, но муку вспоминанья, / Живую муку мне оставь по ней, – / По ней, по ней, свой подвиг совершившей… / По ней, по ней, судьбы не одолевшей, / Но и себя не давшей победить, / По ней, по ней, так до конца умевшей / Страдать, молиться, верить и любить».
Интонационное совпадение обращения к дочери и стихотворения об умершей возлюбленной – интереснейшая психологическая деталь; объяснение ее – в тексте письма: «В твоих словах, в их интонации я ощутил нечто столь нежное, столь искренно, столь глубоко прочувствованное, что – знаешь ли – мне почудилось, будто я слышу отзвук другого голоса… никогда в течение четырнадцати лет не говорившего со мной без душевного волнения, того голоса, что и посейчас звучит в моих ушах и которого я никогда, никогда более не услышу…»
Стихотворение написано в марте 1865 года, письмо – в сентябре 1864 года. Как же долго жила в сердце Тютчева эта интонация, как искала она выхода! «Душевное волнение», одухотворяющее женский голос, сродни волнению, раскаляющему стихи. Жар этого волнения, тепло этого голоса призывал Лермонтов в свой загробный сон.
Есть стихи, как будто вспомнившие об изначальной природе стихового слова, о магической силе, способной заговорить боль. Тютчевское «тебе, тебе» (в письме к дочери), «по ней, по ней» (в стихах) – этот нажим, этот повтор и есть заговор, заклинание.
«Друг мой, теперь все испробовано – ничто не помогло, ничто не утешило, – не живется – не живется – не живется…» (Я. П. Полонскому, 8/20 декабря 1864 года).
Так и в стихах, поднявшихся из этого пламени, заговаривается боль, а на языке стиховедения это называется повтором.
«Душа, увы, не выстрадает счастья, / Но может выстрадать себя… Душа, душа, которая всецело / Одной заветной отдалась любви… Он милосердный, всемогущий, / Он, греющий своим лучом».
Стихи берут свой интонационный рисунок не в какой-то особой поэтической сфере – они заимствуют лучшие свои строки в живой речи.
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,