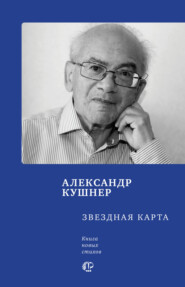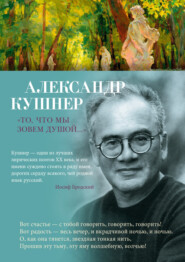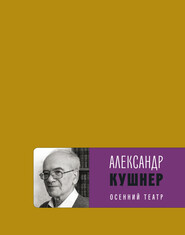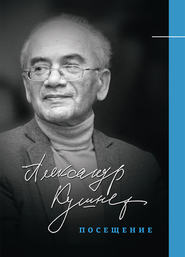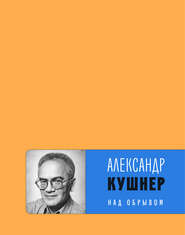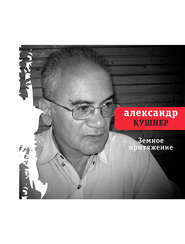По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О поэтах и поэзии. Статьи и стихи
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тобой и кончу, прохрипев,
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.
(«Поэзия»)
Поди выуди из стихов Заболоцкого черты самого поэта! «Я шел сквозь рощу», «И я на лестнице стою», «В моем окне на весь квартал / Обводный царствует канал», «И тогда я открыл свою книгу в большом переплете», «Я наблюдал, как речка умирала», «И я стоял у каменной глазницы», «И я ушел», «Я вышел в поле», «Но вздрогнул я и, разгибая спину, / Легко сбежал с пригорка на равнину».
Глаголы действия и состояния дают нам представление о местонахождении человека, дают возможность встать на его место и увидеть предмет под тем же ракурсом – но сам автор непременно устранен из стихотворения. Он такой же, как все. Разумеется, это прием. И разумеется, авторские черты читатель восстанавливает по иным, куда более существенным признакам: интонации, строению фразы, излюбленным сюжетам, положениям и т. д. Более того, фотографии Заболоцкого, публикуемые в его посмертных изданиях, поразительно совпадают с образом человека, писавшего эти стихи. Таким мы и представили бы его себе: человеком в круглых, бухгалтерских очках, при галстуке, сосредоточенно-серьезным, невозмутимым, изгнавшим из своего облика все поэтическое, артистическое, выделяющее из массы горожан, – таким бы и представили, если бы у нас возникло такое желание. Но оно и не возникло – настолько сильна антиромантическая позиция Заболоцкого, настолько убедительно и достоверно стремление поэта быть как все и говорить от нашего имени.
Включенность в общую жизнь, отказ от лирической маски, роли и театрализации кажутся наиболее продуктивным и современным отношением поэта к «пожизненности задачи», входящей «в заветы дней». Последним, на мой взгляд, выступлением, пронизанным блоковским духом, было пастернаковское стихотворение «Гамлет»: «Гул затих. Я вышел на подмостки…» Как тут не отметить, что этот выход на сцену под пристальные «тысячи биноклей на оси» был осознан Пастернаком как горчайшая необходимость. Ничего общего с эстрадным витийством, телевизионными «шоу» и выставлением своей персоны напоказ многомиллионному «зрителю поэзии» это не имеет.
И неслучайным представляется отсутствие в сегодняшней поэзии поэта, – наследника Блока. Вычитывать в творчестве современных поэтов особую судьбу и биографические подробности, признать за кем-либо право на исключительную роль – у читателя нет ни желания, ни достаточно убедительных поводов.
Поэтический дар – бесценный дар. Но кроме него есть на свете и другие бесценные дары: музыка, живопись, доброта, человечность, любовь, чувство справедливости. Медицинская сестра, облегчающая страдания людям в больничной палате, на невидимых миру весах перевесит поэта.
Пушкин уподобил поэту эхо. Поэт – это тот, кто, как эхо, откликается на лучшие? – нет, на все проявления человеческого духа вокруг себя: «Ревет ли зверь в лесу глухом, / Трубит ли рог, гремит ли гром, / Поет ли дева за холмом…»
Поэт – это тот, кто разделяет жизнь, судьбу и ответственность с людьми, живущими рядом, находя для мыслей и чувств лучшее выражение.
Но иногда… иногда возникает смутное желание услышать с книжной страницы иной голос, героический и бескомпромиссный, голос, способный увлечь за собой, взять на себя всю полноту ответственности. Должен быть поэт, готовый протянуть руку, сказать:
Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.
(«Миры летят. Года летят. Пустая…»)
Не исключено, что он появится, – не сегодня, не завтра… Когда? Нам не дано это знать. Вот тогда и возникнет новый, не юбилейный прилив любви к блоковской поэзии.
Любовь к поэзии – это любовь. Ее невозможно ни навязать, ни испытывать по принуждению. Да поэзия и не нуждается в притворстве. Поэты, в том числе и великие, время от времени удаляются от нас на какие-то максимальные расстояния, с тем чтобы затем вернуться.
Как в космологии, в науке, изучающей поэзию, могли бы, наверное, существовать методы, позволяющие с большой точностью предсказывать периоды сближений и затмений.
Блок, мне кажется, занимает сегодня не самую близкую точку на пути своего сближения с нами. Но движется к нам. Нет, не он, конечно, движется к нам, это мы, возможно, приближаемся к нему.
А до тех пор что же остается для нас от Блока? Нет, не весь его мир, и не всё в его облике… Остаются стихи, не все стихи… Скажем, стихотворений пятьдесят: «Приближается звук…», «Шаги командора», «Превратила все в шутку сначала…», «Река раскинулась…», «Выхожу я в путь, открытый взорам…», «Есть минуты, когда не тревожит…», «За горами, лесами…», «Голос из хора», «Последнее напутствие»…
У каждого из нас – свой список, хотя ядро его, по-видимому, совпадает для всех. Пятьдесят или шестьдесят гениальных стихотворений – это так много, такой баснословный подарок, что желать большего – значит проявить нетерпение и непонимание объективных законов, которым подчинена жизнь, а с нею вместе – и поэзия.
1980
«Запиши на всякий случай…»
* * *
Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но… кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.
1992
Стихи и письма
Невозможно, кажется, найти другого поэта, который бы так равнодушно относился к судьбе своих стихов, как Тютчев. В двух прижизненных изданиях Тютчев не принял никакого участия, первое вышло под редакцией Тургенева, второе редактировали зять Тютчева И. С. Аксаков и сын – И. Ф. Тютчев.
В биографическом очерке, посвященном Тютчеву, Аксаков вспоминал: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семьи, частью от посторонних».
Некоторые стихи Тютчева оказались затерянными среди бумаг современников и опубликованы спустя много лет после его смерти.
Так, стихотворение «Как ни тяжел последний час…» печатается по тексту, помещенному впервые в книге «Сочинения гр. П. И. Капниста» (т. I, 1901). Капнист, присутствовавший на заседании цензурного комитета 14 октября 1867 года, заметил, что Тютчев «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу». Капнист подобрал листок и сохранил его «на память о любимом им поэте».
А стихотворение «Не знаю я, коснется ль благодать…», посвященное Э. Ф. Тютчевой, второй жене поэта, было вложено им в принадлежавший ей гербарий, но обнаружено ею только в мае 1875 года, через два года после его смерти.
У Г. Грина в романе «Суть дела» герой романа накануне самоубийства пробирается в комнату любимой женщины и, не найдя ни одного клочка бумаги, пишет, отогнув в ее альбоме зеленую марку с Георгом VI, под этой маркой: «Я тебя люблю». «Этих слов она не вырвет, подумал он с какой-то жестокостью и огорчением, они тут останутся навсегда. На мгновение ему почудилось, что он подложил противнику мину, но какой же это противник?»
Тютчев относился к своим стихам как к письмам: они были его частным делом. Понять это как раз помогают его письма.
Что такое письма Тютчева? Тютчев не писал ни романов, ни рассказов, ни пьес, ни мемуаров, от него не осталось ни дневников, ни записных книжек. (Политические статьи Тютчева – не в счет, они перекликаются лишь с его политическими стихами, тоже, впрочем, не очень удачными.)
И все-таки есть у Тютчева замечательная проза – это его письма. Какое счастье, что телефон изобрели позднее!
У этих писем странная черта: они не приноравливаются к адресату. Пушкин, например, всегда видел перед собой собеседника и менял свой эпистолярный стиль в зависимости от того, к кому обращался: к женщине ли, другу, родственнику, приятелю, литератору, чиновнику…
Тютчев в своих письмах одинаков. В этом смысле его письма безадресны. Так пишутся стихи, так пишется проза.
Кому писал Тютчев? Гагарину, Горчакову, Жуковскому, Вяземскому, Полонскому, Георгиевскому… Но главным образом – своей второй жене Эрнестине Федоровне и дочерям от первого брака Анне, Дарье, Екатерине. Уровень этих домашних писем никак не снижен по сравнению с письмами к литераторам и светским знакомым, а то, пожалуй, и превосходит их своей духовной напряженностью, широтой обобщений, зоркостью наблюдений, глубиной признаний.
О чем пишет Тютчев в письмах? Почти все основные темы и мотивы его лирики отражены в письмах.
Это прежде всего мотив разлуки, времени, расстояния – их таинственной силы, их враждебности человеку.
«А мне, мне нужно твое действительное присутствие… Такое свидание убедит нас в нашем обоюдном бытии и поможет нам думать иногда друг о друге» (Д. Ф. Тютчевой, 9/21 апреля 1868 года).
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.
(«Поэзия»)
Поди выуди из стихов Заболоцкого черты самого поэта! «Я шел сквозь рощу», «И я на лестнице стою», «В моем окне на весь квартал / Обводный царствует канал», «И тогда я открыл свою книгу в большом переплете», «Я наблюдал, как речка умирала», «И я стоял у каменной глазницы», «И я ушел», «Я вышел в поле», «Но вздрогнул я и, разгибая спину, / Легко сбежал с пригорка на равнину».
Глаголы действия и состояния дают нам представление о местонахождении человека, дают возможность встать на его место и увидеть предмет под тем же ракурсом – но сам автор непременно устранен из стихотворения. Он такой же, как все. Разумеется, это прием. И разумеется, авторские черты читатель восстанавливает по иным, куда более существенным признакам: интонации, строению фразы, излюбленным сюжетам, положениям и т. д. Более того, фотографии Заболоцкого, публикуемые в его посмертных изданиях, поразительно совпадают с образом человека, писавшего эти стихи. Таким мы и представили бы его себе: человеком в круглых, бухгалтерских очках, при галстуке, сосредоточенно-серьезным, невозмутимым, изгнавшим из своего облика все поэтическое, артистическое, выделяющее из массы горожан, – таким бы и представили, если бы у нас возникло такое желание. Но оно и не возникло – настолько сильна антиромантическая позиция Заболоцкого, настолько убедительно и достоверно стремление поэта быть как все и говорить от нашего имени.
Включенность в общую жизнь, отказ от лирической маски, роли и театрализации кажутся наиболее продуктивным и современным отношением поэта к «пожизненности задачи», входящей «в заветы дней». Последним, на мой взгляд, выступлением, пронизанным блоковским духом, было пастернаковское стихотворение «Гамлет»: «Гул затих. Я вышел на подмостки…» Как тут не отметить, что этот выход на сцену под пристальные «тысячи биноклей на оси» был осознан Пастернаком как горчайшая необходимость. Ничего общего с эстрадным витийством, телевизионными «шоу» и выставлением своей персоны напоказ многомиллионному «зрителю поэзии» это не имеет.
И неслучайным представляется отсутствие в сегодняшней поэзии поэта, – наследника Блока. Вычитывать в творчестве современных поэтов особую судьбу и биографические подробности, признать за кем-либо право на исключительную роль – у читателя нет ни желания, ни достаточно убедительных поводов.
Поэтический дар – бесценный дар. Но кроме него есть на свете и другие бесценные дары: музыка, живопись, доброта, человечность, любовь, чувство справедливости. Медицинская сестра, облегчающая страдания людям в больничной палате, на невидимых миру весах перевесит поэта.
Пушкин уподобил поэту эхо. Поэт – это тот, кто, как эхо, откликается на лучшие? – нет, на все проявления человеческого духа вокруг себя: «Ревет ли зверь в лесу глухом, / Трубит ли рог, гремит ли гром, / Поет ли дева за холмом…»
Поэт – это тот, кто разделяет жизнь, судьбу и ответственность с людьми, живущими рядом, находя для мыслей и чувств лучшее выражение.
Но иногда… иногда возникает смутное желание услышать с книжной страницы иной голос, героический и бескомпромиссный, голос, способный увлечь за собой, взять на себя всю полноту ответственности. Должен быть поэт, готовый протянуть руку, сказать:
Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.
(«Миры летят. Года летят. Пустая…»)
Не исключено, что он появится, – не сегодня, не завтра… Когда? Нам не дано это знать. Вот тогда и возникнет новый, не юбилейный прилив любви к блоковской поэзии.
Любовь к поэзии – это любовь. Ее невозможно ни навязать, ни испытывать по принуждению. Да поэзия и не нуждается в притворстве. Поэты, в том числе и великие, время от времени удаляются от нас на какие-то максимальные расстояния, с тем чтобы затем вернуться.
Как в космологии, в науке, изучающей поэзию, могли бы, наверное, существовать методы, позволяющие с большой точностью предсказывать периоды сближений и затмений.
Блок, мне кажется, занимает сегодня не самую близкую точку на пути своего сближения с нами. Но движется к нам. Нет, не он, конечно, движется к нам, это мы, возможно, приближаемся к нему.
А до тех пор что же остается для нас от Блока? Нет, не весь его мир, и не всё в его облике… Остаются стихи, не все стихи… Скажем, стихотворений пятьдесят: «Приближается звук…», «Шаги командора», «Превратила все в шутку сначала…», «Река раскинулась…», «Выхожу я в путь, открытый взорам…», «Есть минуты, когда не тревожит…», «За горами, лесами…», «Голос из хора», «Последнее напутствие»…
У каждого из нас – свой список, хотя ядро его, по-видимому, совпадает для всех. Пятьдесят или шестьдесят гениальных стихотворений – это так много, такой баснословный подарок, что желать большего – значит проявить нетерпение и непонимание объективных законов, которым подчинена жизнь, а с нею вместе – и поэзия.
1980
«Запиши на всякий случай…»
* * *
Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но… кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.
1992
Стихи и письма
Невозможно, кажется, найти другого поэта, который бы так равнодушно относился к судьбе своих стихов, как Тютчев. В двух прижизненных изданиях Тютчев не принял никакого участия, первое вышло под редакцией Тургенева, второе редактировали зять Тютчева И. С. Аксаков и сын – И. Ф. Тютчев.
В биографическом очерке, посвященном Тютчеву, Аксаков вспоминал: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семьи, частью от посторонних».
Некоторые стихи Тютчева оказались затерянными среди бумаг современников и опубликованы спустя много лет после его смерти.
Так, стихотворение «Как ни тяжел последний час…» печатается по тексту, помещенному впервые в книге «Сочинения гр. П. И. Капниста» (т. I, 1901). Капнист, присутствовавший на заседании цензурного комитета 14 октября 1867 года, заметил, что Тютчев «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу». Капнист подобрал листок и сохранил его «на память о любимом им поэте».
А стихотворение «Не знаю я, коснется ль благодать…», посвященное Э. Ф. Тютчевой, второй жене поэта, было вложено им в принадлежавший ей гербарий, но обнаружено ею только в мае 1875 года, через два года после его смерти.
У Г. Грина в романе «Суть дела» герой романа накануне самоубийства пробирается в комнату любимой женщины и, не найдя ни одного клочка бумаги, пишет, отогнув в ее альбоме зеленую марку с Георгом VI, под этой маркой: «Я тебя люблю». «Этих слов она не вырвет, подумал он с какой-то жестокостью и огорчением, они тут останутся навсегда. На мгновение ему почудилось, что он подложил противнику мину, но какой же это противник?»
Тютчев относился к своим стихам как к письмам: они были его частным делом. Понять это как раз помогают его письма.
Что такое письма Тютчева? Тютчев не писал ни романов, ни рассказов, ни пьес, ни мемуаров, от него не осталось ни дневников, ни записных книжек. (Политические статьи Тютчева – не в счет, они перекликаются лишь с его политическими стихами, тоже, впрочем, не очень удачными.)
И все-таки есть у Тютчева замечательная проза – это его письма. Какое счастье, что телефон изобрели позднее!
У этих писем странная черта: они не приноравливаются к адресату. Пушкин, например, всегда видел перед собой собеседника и менял свой эпистолярный стиль в зависимости от того, к кому обращался: к женщине ли, другу, родственнику, приятелю, литератору, чиновнику…
Тютчев в своих письмах одинаков. В этом смысле его письма безадресны. Так пишутся стихи, так пишется проза.
Кому писал Тютчев? Гагарину, Горчакову, Жуковскому, Вяземскому, Полонскому, Георгиевскому… Но главным образом – своей второй жене Эрнестине Федоровне и дочерям от первого брака Анне, Дарье, Екатерине. Уровень этих домашних писем никак не снижен по сравнению с письмами к литераторам и светским знакомым, а то, пожалуй, и превосходит их своей духовной напряженностью, широтой обобщений, зоркостью наблюдений, глубиной признаний.
О чем пишет Тютчев в письмах? Почти все основные темы и мотивы его лирики отражены в письмах.
Это прежде всего мотив разлуки, времени, расстояния – их таинственной силы, их враждебности человеку.
«А мне, мне нужно твое действительное присутствие… Такое свидание убедит нас в нашем обоюдном бытии и поможет нам думать иногда друг о друге» (Д. Ф. Тютчевой, 9/21 апреля 1868 года).