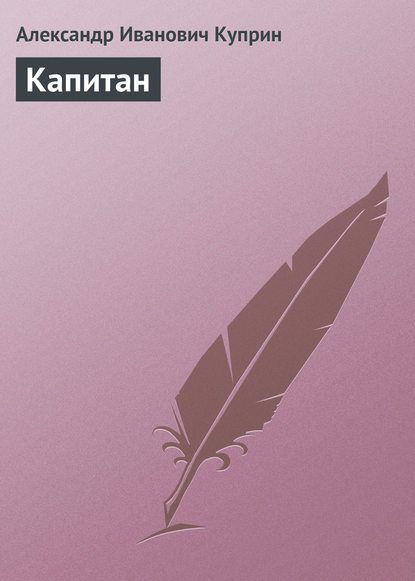По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капитан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Иванович Куприн
«Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца, чех, два турка, негр – остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался самой замечательной фигурой на корабле…»
Александр Иванович Куприн
Капитан
– Благодарю вас, господин. Если вы позволите… я не пью пива… Стакан рому, – это так… Ну вот, я и продолжаю. Вы спрашиваете, как я попал на корабль «Утренняя звезда»? Да очень просто! Чего только не предпримешь, когда тебе двадцать четыре года, а ты холост и свободен, как ветер? В то время я околачивался в Новороссийске. Прекрасная бухта, только не осенью, когда там свирепствует норд-ост – по-местному, бора. Тут-то я и попал на этот несчастный барк, у которого было два фока, две грот-мачты и, конечно, бизань – пять мачт. Это было огромное старое судно, чуть ли не допотопного типа, видевшее очень многое на своем веку. Оно могло вобрать в свои огромные внутренности около пятнадцати тысяч тонн груза и несло на себе парусов приблизительно около двух тысяч квадратных аршин. Должен откровенно сказать, что призвания к морскому делу у меня никакого не было, а просто меня повлекла проказливость и молодая любовь к приключениям.
Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца, чех, два турка, негр – остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался самой замечательной фигурой на корабле. Это был краснорожий, маленький, но чрезвычайно широкоплечий человек с бритыми усами и с бородой, растущей как будто из горла. Ноги он всегда держал раскорякою от постоянного хождения по палубе. В том случае, когда обижали команду, он стоял за нее, как родной отец, а в других случаях, в наших личных матросских делах, он был истинным деспотом. До сих пор я помню первый урок, который он преподал мне в управлении бегучим такелажем. Это было в Средиземном море, где нас всех страшно закачало. Совершенно измученный, я отдаю долг природе, перегнувшись с большими усилиями через поручни борта, – а вы, может быть, сами знаете, как тяжело мутит новичков? И вдруг слышу за своей спиной суровый окрик, вроде, например, такого:
– Эй! Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты!
Клянусь богом!.. Благодарю вас, господин, если уж вы так любезны, то вместо пива еще один небольшой стакан рому… Клянусь богом, что я ничего не понял из его приказания, но когда боцман меня ударил сзади концом веревки, чуть-чуть выше ног и чуть-чуть ниже спины, то я, как встрепанный, взобрался на ванты и сделал что-то такое, что, вероятно, теперь для меня физически невозможно. Повторяю вам, молодость и находчивость крепко отстаивают свою жизнь. Когда же я спустился вниз, то боцман добродушно сказал мне:
– Надо крепить не бабьим узлом, а морским, – и тут же показал мне, как делается морской узел: сначала в правую сторону, а потом в левую.
Затем он хлестнул меня по плечам этой же самой веревкой с узлом, – удовольствие не из приятных, – и сказал:
– Из тебя может быть толк, мальчишка, – и вдруг почему-то перевел по-английски: – little scout.
Это обращение на английском языке удивило меня еще более, чем отеческое внушение, потому что имя и фамилия боцмана были – Иван Карпяго. Впрочем, надо сказать, что на «Утренней звезде» все мы ругались и богохульствовали на всевозможных языках, хотя всегда и неизменно соблюдали одно правило: не обижать Николая-угодника, чудотворца мирликийского.
Был очень интересным человеком и капитан, преждевременно поседелый, лет сорока, человек железной энергии. (Впоследствии он спас своей находчивостью и несокрушимой волей жизнь и судну, и всем нам, тридцати человекам команды.) На ненаблюдательного человека он, пожалуй, мог произвести впечатление лентяя. В то время, когда наше плавание шло благополучно, он полусидел, полулежал на юте в своем излюбленном плетеном кресле-качалке, пил замороженное белое вино и время от времени бросал своему огромному сенбернару Prego (по-итальянски – «прошу») куски льда, которые пес ловил и глотал с жадностью. Говорил и бранился капитан, кажется, на всех человеческих языках, но так как состав команды был наполовину русским, он предпочитал командовать большею частью по-русски.
В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновый элеватор, этажей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли не в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое, полновесное зерно, вливается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно погружаться в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, причем мы утопали в зерне по самые колени и чихали от пыли.
Наконец, когда барк принял столько груза, сколько он мог вместить, и даже, кажется, немножко более, потому что он осел в воду ниже ватерлинии, мы тронулись в путь. По правде сказать, величественное зрелище представляет из себя пятимачтовый парусник, когда все его паруса выпуклы и напружены. А ты, стоя на рее, с гордостью сознаешь, что тобой любуются с других судов старые специалисты.
Плавание наше до Ливерпуля было совсем благополучно. Правда, в «Бискайке» нас сильно потрепало, хотя мы и шли с уменьшенными парусами. Дело в том, что, несмотря на брезенты, покрывавшие зерно, оно тяжело перекатывалось в трюме с боку на бок и валяло «Утреннюю звезду». Но это продолжалось не более суток, а через два дня мы уже были в Ливерпуле.
Благодарю! За ваше здоровье, сэр! Вы, может быть, знаете, а если не знаете, то, конечно, поверите мне, что самое необузданное существо – это матрос с парусника, добравшийся наконец до берега и спущенный на него с корабля в большом порту! Узенькие улицы… налево и направо бары… женщины всех национальностей и повсюду тайные притоны для игры, любви и драки. Тут-то я и закрутился. Четверо суток совершенно выпали из моей жизни и представляются мне теперь каким-то черным пятном, провалом в неизвестность. Словом, проснувшись на барке, на матросской койке, я с удивлением услышал знакомый плеск моря о деревянные борта судна, беготню и крики команды, а когда вылез на палубу, то с ужасом убедился, что я нахожусь на той же «Утренней звезде». Во мне проснулась гордость свободного человека, и я пошел объясняться к старшему штурману. Тот отослал меня к капитану. Этот хладнокровный человек сунул мне под самый нос контракт, в котором значилось, что я обязался служить на «Утренней звезде» ровно три года и что получил в задаток двадцать фунтов стерлингов. Я отлично знал, что во всех карманах моего платья нет ни одного пенса, но на всякий случай, во имя человеческих прав, попробовал сделать капитану довольно грубое замечание. Однако я не успел его докончить, потому что уже лежал на палубе и выплевывал изо рта верхние передние зубы. Вот посмотрите, господин, где они раньше были.
Когда я поднялся на ноги, капитан, совсем не потерявший своего обычного спокойного вида, сказал мне:
– Болван! Мы уже в расстоянии ста миль от Англии. Тебе не нужно было напиваться, как свинье, до того чтобы забыть о контракте! А если ты еще позволишь себе разговаривать, я просто-напросто прикажу выбросить тебя за борт с твоими фунтами стерлингов. Понял?
Конечно, я понял как нельзя лучше. И даже вспомнил в эту минуту лицо креолки, которая в кабачке поила меня чем-то густым, терпким и сладким, от чего я, должно быть, и впал в беспамятство.
Шли мы опять Средиземным морем и через Суэцкий канал в Индийский океан. Груз у нас теперь был железный: земледельческие машины, веялки, жатвеницы, паровые плуги и так далее. Весь этот груз мы должны были доставить в Австралию, в Мельбурн.
Ах, не беспокойтесь, господин, – у меня есть ром, и мне этого достаточно. Вы спрашиваете, что было дальше? Дальше вышли большие неприятности. В Индийском океане между так приблизительно седьмым и девятым градусом мы попали в штиль. Вы сами понимаете, что при безветрии парусное судно совершенно беззащитно. И мы две недели простояли на одном месте, в полосе, где не было даже течения. Тут пошло несчастье за несчастьем. Живой скот, который мы забрали с собою, весь переоколел от какой-то странной болезни: не то чумы, не то ящура, не то оспы. Капитан приказал всех животных выбросить за борт, на съедение акулам. Потом от страшной тропической жары у нас загнила и испортилась пресная вода. Мы пробовали ее кипятить, но из этого ничего путного не выходило. Вскоре вышел не только хлеб, но и сухари. Тогда на обед нам стали давать какую-то вонючую болтушку из воды и консервов. Мы, русская матросня, называли это кушанье бурдой, а еще бурдымагой. Ах, если бы вы знали, господин, какая это зверская штука стоять среди моря, не видеть берегов, бездействовать, прислушиваться к урчанию в собственном расстроенном желудке и вдобавок так париться под лучами тропического солнца, что даже уж и пот не выступает из тела. Все мы разнервничались до последней степени. Как взбесившиеся от жары собаки, ходили мы друг вокруг друга, рычали, оскаливали зубы, все чаще и чаще слышались между нами злые, оскорбительные слова:
– Goddam thou! (Проклятье!)
– Thou are man of forest! (Ты дикарь!)
– Porca Madonna putana! (Совсем невозможное для перевода итальянское ругательство.)
– Тебе не быть моряком, а играть в цигу!
– Ты не стоишь того, что ты ешь!
Вдобавок надо еще сказать, что вместе с нами шел из Ливерпуля в качестве кока какой-то поляк, который столько же понимал в кулинарном искусстве, сколько бегемот в модных танцах. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что он был раньше политическим преступником, может быть, анархистом. Гордый, высокомерный, молчаливый и, судя по лицу, несомненно интеллигентный человек. Однажды, в порыве бессознательного, стихийного раздражения, которое охватило нас всех, как эпидемия, младший штурман ударил его по лицу. В ту же ночь кем-то было разбито стекло компаса и вырвана бесследно магнитная стрелка. Мы, команда, конечно, знали, кто это сделал, но молчали из особого чувства товарищества, – товарищества, которое можно вполне понять и оценить только на море. А надо сказать, что запасного компаса не оказалось, потому что более запущенного судового хозяйства, чем на барке «Утренняя звезда», не было, кажется, нигде в мире, во всем торговом флоте.
Как раз через день после этого случая паруса затрепетали и надулись. Приятно было вдыхать в себя освежевший ветер, и все мы как-то подобрели и размякли. Однако из всех нас, бывших на судне, вероятно, только капитан Юд и боцман Иван Карпяго понимали кое-что в том, что нам предстояло дальше. После штиля почти всегда начинается циклон, в который мы и попали, – если не в самый центр, то, во всяком случае, очень близко к нему. Сгрудились тучи, подул ураган, и мы понеслись куда-то во мрак и неизвестность, точно нас сзади гнали тысячи дьяволов. Если я вам попробую рассказать об этом шабаше моря, ветра, дождя и громыхания на небе, то вы не поверите. Ну, представьте себе волны вышиною с восьмиэтажный дом или вообразите себе ледяные горы, на которые то поднимаешься, то опускаешься, как на салазках. Волны обхватывают палубу и сбивают людей с ног, точно это не люди-богочеловеки, а мусор и щепки. После шести часов огромных усилий мы остались только с двумя мачтами – средним гротом и бизанью. Остальные три сломало ураганом, и мы с нечеловеческими усилиями едва смогли их обрубить топорами и выбросить за борта, которые они исковеркали своим падением. Кроме того, у нас ударом волны сорвало руль. В трюме оказалась пробоина, под которую с неимоверной трудностью подвели пластырь.
Ах! Клянусь вам богом, даже до сих пор, когда во время бессонницы я вспоминаю эту ужасную ночь, я весь покрываюсь холодным потом от страха…
Вместо того чтобы надеть чистые рубашки и приготовиться к смерти, мы разбили камбуз и вылакали весь ром, находившийся в бочонках. Давнишнее озлобление, испуг, отчаяние, опьянение превратили нас в зверей. Не помню кто – думаю, что тот же поляк, наш повар, – первый подал злостную мысль, и вот мы, почти вся команда, загнали боцмана Карпягу на бак и приказали ему свистать сигнал:
– Все наверх! Капитана за борт кидать!
Сопротивляться велению команды, да еще торгового судна, да еще парусника, вряд ли отважится даже самый непреклонный боцман, и он засвистал в свою боцманскую трубку.
Все мы разъяренной толпой, пьяные, возбужденные, испуганные близостью смерти, с ругательствами почти на всех языках Европы выскочили на палубу. Капитан стоял на своем мостике. Казалось, он совсем не потерял своего обычного хладнокровия, но все мы, увидев у него в руке большой кольтовский револьвер, остановились на две или на три минуты и только лаяли на него, как трусливые псы. Он крикнул на нас сверху вниз:
– Пьяная сволочь! Трусы! Двенадцать человек из вас я убью наверняка, а остальные будут завтра же повешены мною на ноках, – и тут же, почти не целясь, он выстрелил, и наш таинственный кок упал на доски палубы с пробитым насквозь черепом. И почти в тот же момент – точно смерть этого человека была умиротворительной жертвой – кто-то из команды радостно воскликнул:
– Земля, с левого борта!!
Благодарю вас, будьте здоровы. Но только оказалось, что это вовсе не земля, а длинный коралловый бар, на который нас несло с ужасающей скоростью. И через несколько мгновений мы увидели огромные гребни белой пены, перекатывающейся через рифы, и услышали грозный рев морского прибоя. Тут я остро и мучительно почувствовал, как смерть заглянула мне в глаза своими пустыми глазницами. Но тут-то капитан и показал себя человеком громадной власти, знания, находчивости и необычайной красоты. Он вдруг закричал голосом, который заглушил даже рев бурунов:
– Живо пошел все по вантам! Поворот на форде-винд!!!
И почти мгновенно, точно толкнутые чудесной волей этого человека, мы уже рассыпались по двум оставшимся мачтам, готовые сделать этот опаснейший из маневров, какие только бывают в практике мореходства.
И правда, мы его сделали, только слегка черкнув килем по мелководью. Ах! Если бы вы знали, как нас валяли тогда волны и ветер! Поистине, должно быть, Николай-угодник сжалился над нашими грешными телами и грязными душами! Через четверть часа, а может быть, и через полчаса – в эти моменты борьбы со смертью разве можно расчислить время? – мы опять повернулись спиною к ветру и прежним бешеным ходом понеслись бог знает куда. И надо сказать, что гений капитана и его колоссальное счастье помогли нам. Мы с бешеной скоростью попали на громадную волну, перескочили через сравнительно глубокое место и очутились в тихом, почти спокойном водном пространстве достаточной глубины. И почти тотчас же засияли нам навстречу огни какого-то селения. Потом оказалось, что это был остров Гальмагера (Джимоло)…Мы спокойно спустили якорь и стали покорно зализывать раны, нанесенные морем «Утренней звезде». У всех нас, вероятно, было то же ощущение, как у меня: стыд перед капитаном и вечная благодарность ему. Все это случилось как раз в ночь под рождество, а мы чувствовали себя как висельники.
Утром капитан поручил начальство над судном старшему помощнику и съехал на берег. Должно быть, он не был уверен в том, насколько глубока бухта. Но мы думали совсем иное, и не один из нас в часы долгого мучительного ожидания облюбовал себе нок, на котором ему скоро придется болтаться. Тут же мы узнали от штурмана, что капитан сам в продолжение нашего бедствия под тропиками питался той же бурдымагой, как и мы, и пил такую же гнилую воду. Повторяю, что хорошего мы для себя ничего не ожидали. И вот представьте себе наше удивление. Вдали показывается шлюпка. Все мы следим за нею и за ее ходом с громадным напряжением. Морские глаза зоркие. Издали замечаем, что капитана на ней нет. Очевидно, он остался в городе. Но шлюпка подходит все ближе и ближе. И вдруг мы раскрываем рты от изумления: со шлюпки доносится какой-то странный визг, всхлипывание и рычание. Короче сказать, вскоре мы убедились в том, что это взвизгивают две огромных свиньи, у которых связаны передние и задние ноги. Что руководило великодушным сердцем капитана, я до сих пор понять не могу. Кроме свиней, в шлюпке оказалось пуда три прекрасного кукурузного хлеба, два пуда баранины, пять битых гусей, бочонок свежей прохладной воды, два бочонка прекрасного английского пива и неведомо откуда добытый пломпудинг.
Когда наверх по трапу взобрался Иван Карпяго, не то веселый, не то строгий, но, кажется, чего-то уже хвативший спиртного в городе, мы кинулись к нему с расспросами:
– Что капитан? Как капитан? Что говорил? Он ответил нам, самодовольно разглаживая бороду, которую он носил под англичанина:
– Капитан поздравляет вас с рождеством, посылает вам провизию, а также пива и рому, чтобы вы опохмелились после вчерашнего.
Мы не могли поднять глаз друг на друга. Уж, право, лучше было бы болтаться на ноке, чем быть подавленным величием души этого человека.
Замечательно, что во все время, пока мы чинились, а потом сдавали наши земледельческие машины в Мельбурне и пока шли обратно в Ливерпуль, приняв громадный груз живых баранов, он никому не вспомнил прежней ссоры. Но зато вряд ли на каком-нибудь судне когда-нибудь испытывали люди такое беспредельное обожание, как мы к нашему капитану. Не было, мне кажется, ни одного из матросов, который по первому его жесту без всякого колебания не прыгнул бы за борт. И вот, появись он теперь между нами и прикажи мне сделать геройский поступок или преступление, – я не задумаюсь ни на одну секунду исполнить его волю.
А он все время, как будто ни в чем не бывало, лежал на своем кресле-качалке, пил белое вино и кидал куски льда своему сенбернару Prego.