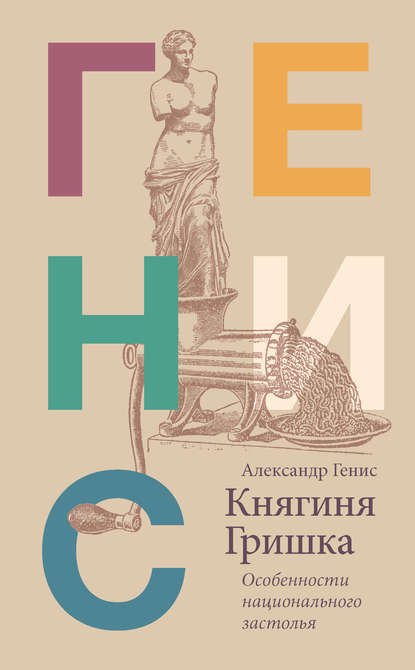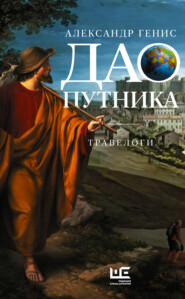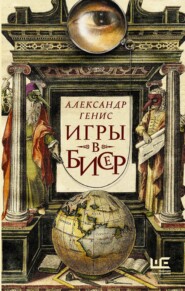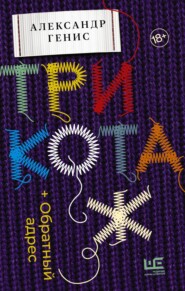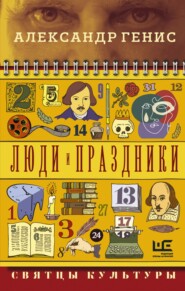По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Княгиня Гришка. Особенности национального застолья
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Происхождение пайка. Корни пайка уходят в эпоху Просвещения, выдвинувшую механистические представления об обществе и человеке. Во французской Энциклопедии вопросы “научного питания” увязаны с исполняемой человеком работой. Целью такого анализа было создание идеальной диеты для представителя каждой профессии.
В еще более вульгаризированной трактовке эта идея стала определяющей для построения социалистической теории питания. Ее лапидарное изложение можно найти в программной агитационной брошюре 1923 года “Долой частную кухню!”
Человек – живая машина, пища – топливо для нее. На основании этой параллели устанавливается универсальный прейскурант пайков – количество калорий, положенных рабочим разных специальностей. (Международная норма – 3000–4500 килокалорий, метаболический минимум – 1920 ккал.)
Конторщик 2400 ккал
Учитель 2600
Швея 2700
Писец (машинистка) 2800
Литографщик 2900
Портной 3000
Прачка 3600
Кузнец 4100
Дровосек 6000
Переносчик кирпича 8900
Так как цифры в этом списке получены простым умножением (отсюда фантастический рацион почти в 9000 килокалорий), многие профессии в перечень не попали. О них сказано: “Поскольку расход энергии людьми умственного труда (лекторы, журналисты, поэты и т. п.) трудно поддается измерению, то не будем здесь о них специально говорить”. Это представление о ценности труда, а значит и выполняющего его человека, стало краеугольным камнем социализма.
Эволюция пайка. На протяжении советской истории шла постоянная борьба за изменение, расширение и пересмотр системы пайков, но – не за ее отмену. Так, требуя своей доли для актеров, Всеволод Мейерхольд заявлял: “Мы добьемся, чтобы правительство дало труппе мясные бифштексы. Нужен темперамент, нужен голос, нужны бифштексы”.
Концепция нормативного, “правильного” распределения пищевого рациона стала своеобразной манией, в которую вовлекались целые научные коллективы. Один из ведущих авторов монументальной “Книги о вкусной и здоровой пище” писал о предельной важности “установления нормы питания для рабочих ведущих отраслей промышленности”.
За всей этой бурной, но бесполезной деятельностью стояла мечта о создании “периодической системы общества”, единицей которой являлась бы калория. Эта была мечта о предельном упрощении жизни за счет создания из взаимозаменяемых работников – знаменитые сталинские винтики – совершенной социальной машины. В этой метафоре обнажался фундаментальный принцип советского общества: машины не едят, их кормят.
Карточки. Ближе всего к воплощению этого идеала советская цивилизация подошла во время войны, когда экстремальная ситуация позволила внедрить пайковую систему в грандиозных масштабах.
Система хлебных карточек была введена всего через 4 недели после начала войны и охватила 62 млн человек. Пищевой рацион теоретически должен был состоять из продуктов пяти категорий: хлеб, мясо или рыба, жир, сахар, мука. На деле ни по прейскуранту, ни по количеству он не выдерживался.
Карточки давали возможность осуществить массовую акцию перераспределения населения по степени полезности. Разные нормы были установлены уже не по профессиям, а по отраслям индустрии. Если норма текстильщиков была принята за 100 %, то бумажники должны были получать 124 %, строители – 127 %, а танкостроители – 150 %. (Впрочем, реальный обед в заводских столовых был одинаковым: жидкий суп с ботвой, каша, изредка селедка; хлеб надо было приносить с собой.)
Такая же иерархическая роспись питания существовала и в других сферах. Василий Гроссман пишет, что в войну в столовой московского Института физики было шесть меню – для докторов наук, начальников отделов, их заместителей, старших лаборантов, техников и обслуживающего персонала. Разница между первой и второй категорией была в десерте – одним давали компот из сухофруктов, другим кисель из концентрата.
Из пайков была построена иерархическая пирамида, уникальная по сложности табель о рангах, полная тончайших социальных нюансов. Однако вся эта конструкция была всего лишь бюрократической утопией. Американский историк Уильям Москофф, досконально изучивший вопрос, утверждает, что советское государство так и не смогло прокормить штатское население, которое спасалось собственными ресурсами и пережило войну на подножном корму.
Логика привилегий. Во время войны окончательно установились четыре элитные группы, которые пользовались привилегированным пищевым рационом. Это – партийно-правительственная верхушка, генералитет, часть интеллигенции и иностранцы. К первой категории, по подсчетам современных историков, относилось 1–2 %, а вместе с обслугой – 5–7 % от общего населения.
В сущности, пища вождей была тем же пайком, увязанным с профессией. Поскольку она считалась крайне важной, редкой и трудоемкой, в рационе акцентировался “специальный” характер продуктов. Светлана Аллилуева рассказывает, что к столу Сталина “везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива”.
Кремлевский паек, которым пользовались партийная элита и старые большевики, официально назывался дополнительным лечебным питанием. Такой рацион еще в 1980-е годы ежемесячно выдавали в особой кремлевской столовой и Доме правительства по ценам 1929 года. Медицинский, диетический характер рациона отличал типичный номенклатурный обед: кумыс, морская капуста с кукурузным маслом (противосклерозное средство), морковный суп-пюре с гренками, паровая телятина с рисом, чернослив со сметаной и сахаром, кисель из черной смородины со сливками.
Борьба с кухней
Артельное питание. Начавшаяся с революции политика истребления семейной кухни объяснялась причинами как прагматическими, так и идеологическими. За идеей массового питания стоял элементарный, но неточный расчет: “обед сразу на 1000 человек требует в 5 раз меньше расходов, чем приготовление той же еды в домашней кухне”. Возможно, за образец бралась артельная кухня, которую в старой России заводили сезонные работники, например ватаги бурлаков. Однако в этой ситуации речь всегда шла о временном и небольшом коллективе, где за добросовестностью поваров легко было проследить.
В государственных масштабах общественное питание сразу же стало рассадником поголовного воровства. Борьба с ним, отчаянная и безрезультативная, не прекращалась ни на один день. Даже в военное время хищения в системе общественного питания достигли таких размеров, что в 1943 году к столовым было приставлено 600 000 общественных контролеров.
Бессемейственность. Луначарский писал, что цель революции – братство, поэтому рабочие должны жить вместе, в устроенных по-научному домах-коммунах. За проектом обобществленного, причем именно по-братски, домашнего обихода стоит недоверие коммунизма к семье. Свойственная многим социальным утопиям мизогиния выражается в неприятии быта как “женской”, плотской стороны жизни. Кухня – изнанка жизни, ее материально-телесный низ, пережиток старого, не одухотворенного высокой целью биологического существования. Кухня – очаг мелкобуржуазной опасности, религии и суеверий. Чтобы обезопасить кухню, нужно превратить ее в цех, попутно приняв освобожденную женщину в братство товарищей, ибо “кухня уродует тело и душу женщины – ржавеет она на кухне, и только”. Герой хрестоматийного советского романа Павка Корчагин произносит свои знаменитые, заучиваемые поколениями школьников слова – “Жизнь дается человеку один раз” – сразу после того, как он отказался есть вареники в доме своего брата, погрязшего в быте, “как жук в навозе”.
Культуролог Владимир Паперный пишет, что революционная культура не признавала семьи, ибо не интересовалась таинством рождения – ее волновало таинство труда.
Дома-коммуны. Новый бессемейный быт опробовался в рабочих коммунах с общими кухнями, где пища готовилась на всех жильцов. Такие общежития устраивались в “освобожденных от нетрудовых элементов” доходных домах и богатых особняках. Если в 1921 году в Москве домовых коммун было 556, то в 1923-м их уже более 1000 с общим населением около 100 000 человек.
Со временем эти жилищные комбинаты с “научным” бытом постигла судьба всех коммунальных квартир. Произошла стихийная приватизация, и рабочее “братство”, вновь разделившись на семьи, вернулось к частному быту, изуродованному теснотой. Общая кухня, разделенная невидимыми и потому постоянно нарушаемыми границами, превратилась в арену постоянных конфликтов, вроде тех, которые с таким азартом описывал Зощенко: “А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать – троих кроешь. И, конечное дело, на всё натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду – с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности”.
Фабрики-кухни. Другую атаку на кухню предприняло образованное в 1923 году паевое товарищество “Народное питание”. Своей первой задачей Нарпит считал вытеснение нэпманов из этой сферы. Рабочие столовые старались отмежеваться от старых трактиров. Для этого прежние заведения получали культурно-просветительскую нагрузку. Так, редактируемый Бухариным журнал “Прожектор” торжественно сообщает об открытии в Харькове опытно-показательной чайной, где рабочим дают юридическую консультацию.
Главное и любимое детище Нарпита – фабрики-кухни, поражающие размерами. Об одной из них с удивлением писали посетившие Ростов американцы: “Одновременно тут варили 100 галлонов щей на 3000 человек”. В Москве в первый же год деятельности Нарпита было открыто 10 подобных заведений, рассчитанных на 12 000 человек.
Пролетарская литургия. В нарпитовских столовых коллективный обед превращался в квазирелигиозный обряд. Об этом говорит и само слово “столовая” – до революции аналогичные заведения назывались чайными. В патриархальном обиходе стол был центром дома, сакральным местом, “Божьей ладонью”: “У наших крестьян еда – святое и очень важное дело. Стол – это престол Божий, поэтому к столу они относятся как к святой вещи”.
В огромных рабочих столовых накрывались длинные общие столы – в тульской паровозной мастерской, например, они были рассчитаны на 2000 человек. Примерно такие же необычно длинные столы для совместной трапезы до сих пор используют многие сектанты – в том числе американские меннониты и амиши. Возможно, этот обычай восходит к раннехристианскому обряду агапе – общая трапеза в литургической форме, которая устраивалась для выражения и культивирования связывающей всех членов общины любви.
Пролетарская литургия нарпитовских обедов должна была порождать новую, независимую от семьи, сугубо классовую связь и поруку. Поэтому Нарпит стремился полностью вытеснить семейное питание, обещая обеспечить “приготовленной на научной основе” пищей не только рабочих, но и их семьи. Заводские столовые становились важным звеном в системе промышленного патернализма. Центр жизни смещался к месту работы: завод, игравший роль большой семьи, привязывал к себе, превращался в суррогатный дом.
О том, насколько остро ощущалась исключительность социалистического общепита, говорит абсурдный тезис, которым открывается советский кулинарный учебник: “В странах капитала общественное питание отсутствует”.
Утопическое меню
В предреволюционные десятилетия в России издавалось множество как западных, так и русских фантастических романов, изображающих картины светлого будущего. В большинстве своем в них развивались социалистические идеи. После революции утопии стали еще популярнее, что позволяет проследить за кулинарным сюжетом и в этой сфере.
Пища марсиан. В целом советская утопия безразлична к кулинарным аспектам будущего. Это связано с тем, что социализм строился по городским утопиям Мора и Кампанеллы, игнорируя сельский идеал Руссо. Фантастические романы в полной мере отразили присущее классикам марксизма недоверие к деревне, к “идиотизму сельской жизни”. Побочное следствие – бедность гастрономических мотивов.
В марсианском романе видного большевика Александра Богданова “Красная звезда” крестьян нет вообще, есть только заводы, в том числе и аграрные. Пища упоминается лишь однажды. В идеальном марсианском обществе “отдельный человек может есть то или иное кушанье в двойном, в тройном размере против обычного количества”.
Скудно, но крайне интересно описание еды в “Аэлите” Алексея Толстого. Автор, известный, кстати, гурман и знаток вин, подходит к марсианскому меню с классовых позиций. Обед богатых – “множество тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами, хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба… блюда деликатнейшей пищи”. Собственно марсианская тут лишь величина порций. (Возможно, за гастрономическую модель Толстой взял сходное описание японского угощения в путевых очерках Гончарова “Фрегат «Паллада»”.) Пища бедных марсиан куда экзотичнее: “Гусев вскрыл коробки – в одной было сильное пахучее желе, в другой студенистые кусочки”. Во фляге земляне нашли марсианское вино – “жидкость была густая, сладковатая с сильным запахом цветов”. Исходя из отвращения, которое испытывают герои, в этом меню можно признать худший вариант советского застолья – одеколон со студнем. Удивительно похожее меню упоминается в поэме Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”: херес и вымя.
Крестьянский идеал. Единственное исключение из урбанистических фантазий раннего социализма – крестьянская утопия экономиста и прозаика Александра Чаянова. Действие этой книги, написанной в 1920 году, перенесено в Россию 1984 (!) года.
Победившая Крестьянская партия разрушила города и устроила из страны большую деревню. Вместо фабрик хлеба и мяса повсюду образцовые семейные фермы. Об успехе преобразований свидетельствуют обильные кулинарные детали: “расстегаи, кулебяки, запеченные караси и караси в сметане и прочая снедь, приготовленная по рецептам «Русской поварни» Лёвшина 1816 года” (Василий Алексеевич Лёвшин (1746–1826) – тульский помещик, автор первых российских кулинарных книг). Обед из далекого (для автора) будущего целиком состоит из блюд традиционной русской кухни, которая сама стала предметом литературных фантазий, что придает опусу Чаянова характер ретроспективной утопии.
Этот же прием использован и в последней утопии советского времени “Гравилёт «Цесаревич»” Вячеслава Рыбакова. Герой книги живет в правильной, а не заблудившейся в истории России, в чем читателя убеждает московский супермаркет с “полесским картофелем, полтавской грудинкой, астраханским балыком, муромскими пикулями, валдайскими солеными груздями, камчатскими крабами и таджикским виноградом”.
Кулинарный футуризм. Футуризм, который Бенедетто Кроче называл “мистицизмом в действии”, горячо интересовался преобразованием кухни. Гастрономической революции отводилось важное место в планах радикального преображения жизни вообще и быта в частности. Футуризм был единственным художественным течением, издавшим собственную кулинарную книгу. Сборник, выпущенный в 1932 году вождем итальянских футуристов Филиппо Маринетти, давал подробный отчет об их многообразной гастрономической деятельности. Этот кулинарный манифест требовал гармонического стола и оригинальных блюд, приготовленных с помощью ультрафиолетовых ламп, электролиза, автоклавов и вакуумных насосов. Чтобы связать еду с тактильными ощущениями, следовало отменить столовые приборы, для усиления аромата кушанья предлагалось подавать вместе с вентиляторами. В отделе рецептов можно найти скульптурное мясо, аэропищу с запахом и звуком, который производила подававшаяся к ней наждачная бумага, вертикальные сосиски, съедобные пейзажи и скульптуры. Одна из них называлась “Экватор и Северный полюс”. Это блюдо готовилось из яичного желтка, плавающего среди взбитых белков и трюфелей, изображавших аэропланы полярников. 15 ноября 1930 года в миланском ресторане состоялся футуристический банкет, где подавались “бульон из роз и солнечного света, агнец в львином соусе, божьи слезы, лунное мороженое, фрукты из сада Евы”.
У русских авангардистов, в отличие от итальянских, никогда не было возможности осуществлять свои кулинарные проекты, поэтому все они остались на бумаге. Самый грандиозный принадлежит Хлебникову. Он предлагал сварить уху для рабочих, вскипятив озеро вместе с рыбой. Интересные гастрономические идеи, вроде предложения пить шампанское из лилии, встречаются у Северянина. Предлагая свой необычный рецепт – “мороженое из сирени”, он писал: “Поешь деликатного, площадь, – пора популярить изыски”.
В утопической поэме “Торжество земледелия” Заболоцкого описывается “химическая” кухня с кислородными лепешками, щами из ста молекул и пирог из элементов.
Уникальное меню ресторана “Отвращение”, своеобразная кулинарная “пощечина общественному вкусу”, встречается в романе Александра Грина “Дорога никуда”: “Консоме «Дрянь», бульон «Ужас», камбала «Горе», морской окунь с туберкулезом, котлеты из вчерашних остатков, пирожное «Уберите!», тартинки с гвоздями”.
В еще более вульгаризированной трактовке эта идея стала определяющей для построения социалистической теории питания. Ее лапидарное изложение можно найти в программной агитационной брошюре 1923 года “Долой частную кухню!”
Человек – живая машина, пища – топливо для нее. На основании этой параллели устанавливается универсальный прейскурант пайков – количество калорий, положенных рабочим разных специальностей. (Международная норма – 3000–4500 килокалорий, метаболический минимум – 1920 ккал.)
Конторщик 2400 ккал
Учитель 2600
Швея 2700
Писец (машинистка) 2800
Литографщик 2900
Портной 3000
Прачка 3600
Кузнец 4100
Дровосек 6000
Переносчик кирпича 8900
Так как цифры в этом списке получены простым умножением (отсюда фантастический рацион почти в 9000 килокалорий), многие профессии в перечень не попали. О них сказано: “Поскольку расход энергии людьми умственного труда (лекторы, журналисты, поэты и т. п.) трудно поддается измерению, то не будем здесь о них специально говорить”. Это представление о ценности труда, а значит и выполняющего его человека, стало краеугольным камнем социализма.
Эволюция пайка. На протяжении советской истории шла постоянная борьба за изменение, расширение и пересмотр системы пайков, но – не за ее отмену. Так, требуя своей доли для актеров, Всеволод Мейерхольд заявлял: “Мы добьемся, чтобы правительство дало труппе мясные бифштексы. Нужен темперамент, нужен голос, нужны бифштексы”.
Концепция нормативного, “правильного” распределения пищевого рациона стала своеобразной манией, в которую вовлекались целые научные коллективы. Один из ведущих авторов монументальной “Книги о вкусной и здоровой пище” писал о предельной важности “установления нормы питания для рабочих ведущих отраслей промышленности”.
За всей этой бурной, но бесполезной деятельностью стояла мечта о создании “периодической системы общества”, единицей которой являлась бы калория. Эта была мечта о предельном упрощении жизни за счет создания из взаимозаменяемых работников – знаменитые сталинские винтики – совершенной социальной машины. В этой метафоре обнажался фундаментальный принцип советского общества: машины не едят, их кормят.
Карточки. Ближе всего к воплощению этого идеала советская цивилизация подошла во время войны, когда экстремальная ситуация позволила внедрить пайковую систему в грандиозных масштабах.
Система хлебных карточек была введена всего через 4 недели после начала войны и охватила 62 млн человек. Пищевой рацион теоретически должен был состоять из продуктов пяти категорий: хлеб, мясо или рыба, жир, сахар, мука. На деле ни по прейскуранту, ни по количеству он не выдерживался.
Карточки давали возможность осуществить массовую акцию перераспределения населения по степени полезности. Разные нормы были установлены уже не по профессиям, а по отраслям индустрии. Если норма текстильщиков была принята за 100 %, то бумажники должны были получать 124 %, строители – 127 %, а танкостроители – 150 %. (Впрочем, реальный обед в заводских столовых был одинаковым: жидкий суп с ботвой, каша, изредка селедка; хлеб надо было приносить с собой.)
Такая же иерархическая роспись питания существовала и в других сферах. Василий Гроссман пишет, что в войну в столовой московского Института физики было шесть меню – для докторов наук, начальников отделов, их заместителей, старших лаборантов, техников и обслуживающего персонала. Разница между первой и второй категорией была в десерте – одним давали компот из сухофруктов, другим кисель из концентрата.
Из пайков была построена иерархическая пирамида, уникальная по сложности табель о рангах, полная тончайших социальных нюансов. Однако вся эта конструкция была всего лишь бюрократической утопией. Американский историк Уильям Москофф, досконально изучивший вопрос, утверждает, что советское государство так и не смогло прокормить штатское население, которое спасалось собственными ресурсами и пережило войну на подножном корму.
Логика привилегий. Во время войны окончательно установились четыре элитные группы, которые пользовались привилегированным пищевым рационом. Это – партийно-правительственная верхушка, генералитет, часть интеллигенции и иностранцы. К первой категории, по подсчетам современных историков, относилось 1–2 %, а вместе с обслугой – 5–7 % от общего населения.
В сущности, пища вождей была тем же пайком, увязанным с профессией. Поскольку она считалась крайне важной, редкой и трудоемкой, в рационе акцентировался “специальный” характер продуктов. Светлана Аллилуева рассказывает, что к столу Сталина “везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива”.
Кремлевский паек, которым пользовались партийная элита и старые большевики, официально назывался дополнительным лечебным питанием. Такой рацион еще в 1980-е годы ежемесячно выдавали в особой кремлевской столовой и Доме правительства по ценам 1929 года. Медицинский, диетический характер рациона отличал типичный номенклатурный обед: кумыс, морская капуста с кукурузным маслом (противосклерозное средство), морковный суп-пюре с гренками, паровая телятина с рисом, чернослив со сметаной и сахаром, кисель из черной смородины со сливками.
Борьба с кухней
Артельное питание. Начавшаяся с революции политика истребления семейной кухни объяснялась причинами как прагматическими, так и идеологическими. За идеей массового питания стоял элементарный, но неточный расчет: “обед сразу на 1000 человек требует в 5 раз меньше расходов, чем приготовление той же еды в домашней кухне”. Возможно, за образец бралась артельная кухня, которую в старой России заводили сезонные работники, например ватаги бурлаков. Однако в этой ситуации речь всегда шла о временном и небольшом коллективе, где за добросовестностью поваров легко было проследить.
В государственных масштабах общественное питание сразу же стало рассадником поголовного воровства. Борьба с ним, отчаянная и безрезультативная, не прекращалась ни на один день. Даже в военное время хищения в системе общественного питания достигли таких размеров, что в 1943 году к столовым было приставлено 600 000 общественных контролеров.
Бессемейственность. Луначарский писал, что цель революции – братство, поэтому рабочие должны жить вместе, в устроенных по-научному домах-коммунах. За проектом обобществленного, причем именно по-братски, домашнего обихода стоит недоверие коммунизма к семье. Свойственная многим социальным утопиям мизогиния выражается в неприятии быта как “женской”, плотской стороны жизни. Кухня – изнанка жизни, ее материально-телесный низ, пережиток старого, не одухотворенного высокой целью биологического существования. Кухня – очаг мелкобуржуазной опасности, религии и суеверий. Чтобы обезопасить кухню, нужно превратить ее в цех, попутно приняв освобожденную женщину в братство товарищей, ибо “кухня уродует тело и душу женщины – ржавеет она на кухне, и только”. Герой хрестоматийного советского романа Павка Корчагин произносит свои знаменитые, заучиваемые поколениями школьников слова – “Жизнь дается человеку один раз” – сразу после того, как он отказался есть вареники в доме своего брата, погрязшего в быте, “как жук в навозе”.
Культуролог Владимир Паперный пишет, что революционная культура не признавала семьи, ибо не интересовалась таинством рождения – ее волновало таинство труда.
Дома-коммуны. Новый бессемейный быт опробовался в рабочих коммунах с общими кухнями, где пища готовилась на всех жильцов. Такие общежития устраивались в “освобожденных от нетрудовых элементов” доходных домах и богатых особняках. Если в 1921 году в Москве домовых коммун было 556, то в 1923-м их уже более 1000 с общим населением около 100 000 человек.
Со временем эти жилищные комбинаты с “научным” бытом постигла судьба всех коммунальных квартир. Произошла стихийная приватизация, и рабочее “братство”, вновь разделившись на семьи, вернулось к частному быту, изуродованному теснотой. Общая кухня, разделенная невидимыми и потому постоянно нарушаемыми границами, превратилась в арену постоянных конфликтов, вроде тех, которые с таким азартом описывал Зощенко: “А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать – троих кроешь. И, конечное дело, на всё натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду – с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности”.
Фабрики-кухни. Другую атаку на кухню предприняло образованное в 1923 году паевое товарищество “Народное питание”. Своей первой задачей Нарпит считал вытеснение нэпманов из этой сферы. Рабочие столовые старались отмежеваться от старых трактиров. Для этого прежние заведения получали культурно-просветительскую нагрузку. Так, редактируемый Бухариным журнал “Прожектор” торжественно сообщает об открытии в Харькове опытно-показательной чайной, где рабочим дают юридическую консультацию.
Главное и любимое детище Нарпита – фабрики-кухни, поражающие размерами. Об одной из них с удивлением писали посетившие Ростов американцы: “Одновременно тут варили 100 галлонов щей на 3000 человек”. В Москве в первый же год деятельности Нарпита было открыто 10 подобных заведений, рассчитанных на 12 000 человек.
Пролетарская литургия. В нарпитовских столовых коллективный обед превращался в квазирелигиозный обряд. Об этом говорит и само слово “столовая” – до революции аналогичные заведения назывались чайными. В патриархальном обиходе стол был центром дома, сакральным местом, “Божьей ладонью”: “У наших крестьян еда – святое и очень важное дело. Стол – это престол Божий, поэтому к столу они относятся как к святой вещи”.
В огромных рабочих столовых накрывались длинные общие столы – в тульской паровозной мастерской, например, они были рассчитаны на 2000 человек. Примерно такие же необычно длинные столы для совместной трапезы до сих пор используют многие сектанты – в том числе американские меннониты и амиши. Возможно, этот обычай восходит к раннехристианскому обряду агапе – общая трапеза в литургической форме, которая устраивалась для выражения и культивирования связывающей всех членов общины любви.
Пролетарская литургия нарпитовских обедов должна была порождать новую, независимую от семьи, сугубо классовую связь и поруку. Поэтому Нарпит стремился полностью вытеснить семейное питание, обещая обеспечить “приготовленной на научной основе” пищей не только рабочих, но и их семьи. Заводские столовые становились важным звеном в системе промышленного патернализма. Центр жизни смещался к месту работы: завод, игравший роль большой семьи, привязывал к себе, превращался в суррогатный дом.
О том, насколько остро ощущалась исключительность социалистического общепита, говорит абсурдный тезис, которым открывается советский кулинарный учебник: “В странах капитала общественное питание отсутствует”.
Утопическое меню
В предреволюционные десятилетия в России издавалось множество как западных, так и русских фантастических романов, изображающих картины светлого будущего. В большинстве своем в них развивались социалистические идеи. После революции утопии стали еще популярнее, что позволяет проследить за кулинарным сюжетом и в этой сфере.
Пища марсиан. В целом советская утопия безразлична к кулинарным аспектам будущего. Это связано с тем, что социализм строился по городским утопиям Мора и Кампанеллы, игнорируя сельский идеал Руссо. Фантастические романы в полной мере отразили присущее классикам марксизма недоверие к деревне, к “идиотизму сельской жизни”. Побочное следствие – бедность гастрономических мотивов.
В марсианском романе видного большевика Александра Богданова “Красная звезда” крестьян нет вообще, есть только заводы, в том числе и аграрные. Пища упоминается лишь однажды. В идеальном марсианском обществе “отдельный человек может есть то или иное кушанье в двойном, в тройном размере против обычного количества”.
Скудно, но крайне интересно описание еды в “Аэлите” Алексея Толстого. Автор, известный, кстати, гурман и знаток вин, подходит к марсианскому меню с классовых позиций. Обед богатых – “множество тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами, хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба… блюда деликатнейшей пищи”. Собственно марсианская тут лишь величина порций. (Возможно, за гастрономическую модель Толстой взял сходное описание японского угощения в путевых очерках Гончарова “Фрегат «Паллада»”.) Пища бедных марсиан куда экзотичнее: “Гусев вскрыл коробки – в одной было сильное пахучее желе, в другой студенистые кусочки”. Во фляге земляне нашли марсианское вино – “жидкость была густая, сладковатая с сильным запахом цветов”. Исходя из отвращения, которое испытывают герои, в этом меню можно признать худший вариант советского застолья – одеколон со студнем. Удивительно похожее меню упоминается в поэме Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”: херес и вымя.
Крестьянский идеал. Единственное исключение из урбанистических фантазий раннего социализма – крестьянская утопия экономиста и прозаика Александра Чаянова. Действие этой книги, написанной в 1920 году, перенесено в Россию 1984 (!) года.
Победившая Крестьянская партия разрушила города и устроила из страны большую деревню. Вместо фабрик хлеба и мяса повсюду образцовые семейные фермы. Об успехе преобразований свидетельствуют обильные кулинарные детали: “расстегаи, кулебяки, запеченные караси и караси в сметане и прочая снедь, приготовленная по рецептам «Русской поварни» Лёвшина 1816 года” (Василий Алексеевич Лёвшин (1746–1826) – тульский помещик, автор первых российских кулинарных книг). Обед из далекого (для автора) будущего целиком состоит из блюд традиционной русской кухни, которая сама стала предметом литературных фантазий, что придает опусу Чаянова характер ретроспективной утопии.
Этот же прием использован и в последней утопии советского времени “Гравилёт «Цесаревич»” Вячеслава Рыбакова. Герой книги живет в правильной, а не заблудившейся в истории России, в чем читателя убеждает московский супермаркет с “полесским картофелем, полтавской грудинкой, астраханским балыком, муромскими пикулями, валдайскими солеными груздями, камчатскими крабами и таджикским виноградом”.
Кулинарный футуризм. Футуризм, который Бенедетто Кроче называл “мистицизмом в действии”, горячо интересовался преобразованием кухни. Гастрономической революции отводилось важное место в планах радикального преображения жизни вообще и быта в частности. Футуризм был единственным художественным течением, издавшим собственную кулинарную книгу. Сборник, выпущенный в 1932 году вождем итальянских футуристов Филиппо Маринетти, давал подробный отчет об их многообразной гастрономической деятельности. Этот кулинарный манифест требовал гармонического стола и оригинальных блюд, приготовленных с помощью ультрафиолетовых ламп, электролиза, автоклавов и вакуумных насосов. Чтобы связать еду с тактильными ощущениями, следовало отменить столовые приборы, для усиления аромата кушанья предлагалось подавать вместе с вентиляторами. В отделе рецептов можно найти скульптурное мясо, аэропищу с запахом и звуком, который производила подававшаяся к ней наждачная бумага, вертикальные сосиски, съедобные пейзажи и скульптуры. Одна из них называлась “Экватор и Северный полюс”. Это блюдо готовилось из яичного желтка, плавающего среди взбитых белков и трюфелей, изображавших аэропланы полярников. 15 ноября 1930 года в миланском ресторане состоялся футуристический банкет, где подавались “бульон из роз и солнечного света, агнец в львином соусе, божьи слезы, лунное мороженое, фрукты из сада Евы”.
У русских авангардистов, в отличие от итальянских, никогда не было возможности осуществлять свои кулинарные проекты, поэтому все они остались на бумаге. Самый грандиозный принадлежит Хлебникову. Он предлагал сварить уху для рабочих, вскипятив озеро вместе с рыбой. Интересные гастрономические идеи, вроде предложения пить шампанское из лилии, встречаются у Северянина. Предлагая свой необычный рецепт – “мороженое из сирени”, он писал: “Поешь деликатного, площадь, – пора популярить изыски”.
В утопической поэме “Торжество земледелия” Заболоцкого описывается “химическая” кухня с кислородными лепешками, щами из ста молекул и пирог из элементов.
Уникальное меню ресторана “Отвращение”, своеобразная кулинарная “пощечина общественному вкусу”, встречается в романе Александра Грина “Дорога никуда”: “Консоме «Дрянь», бульон «Ужас», камбала «Горе», морской окунь с туберкулезом, котлеты из вчерашних остатков, пирожное «Уберите!», тартинки с гвоздями”.