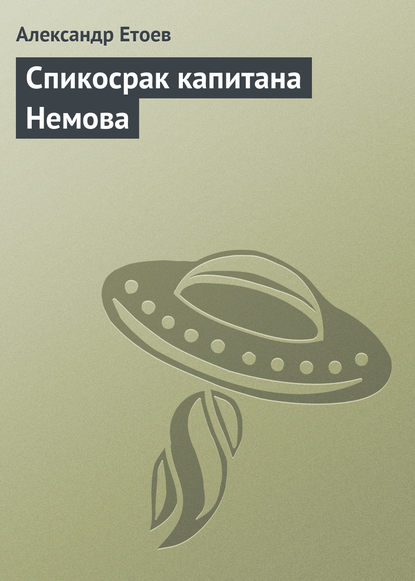По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Спикосрак капитана Немова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты иди, я – сейчас, – сказал я тогда Щелчкову и стремительно припустил на набережную.
– Погоди, ты что, ты куда? Твоей маме-то что сказать?
Но я Щелчкова уже не слышал, я уже пробегал Климов, держа курс под тополь на набережной. Во мне еще оставалась надежда, что коробок где-нибудь там, вывалился из кармана случайно, когда мы разбирались со Шкипидаровым.
Я сидел, угрюмый, возле окна и думал о событиях дня. Ничему-то я был не рад – ни маминому воскресному пирогу, который был не с капустой, а с творогом, ни общественному коту Василию, который, по случаю воскресенья, скрывался в нашей комнате от соседки. Ни даже своей коллекции этикеток, которая вдруг поблекла и поскучнела без пропавшего коробка с ракетой. Почему-то я нисколько не думал, как он у меня появился. Мои мысли были про то, как коробок исчез. Я подозревал всех по очереди – Щелчкова, Шкипидарова, рыболова. Особенно рыболова с его слепящей, будто прожектор, лысиной.
Родители ушли в гости. На кухне хозяйничала Сопелкина. Это значило, что никому из соседей на кухню прохода не было. Там властвовал едкий чад, стреляли со сковородки шкварки, а опасные чугунные утюги высматривали себе подходящую жертву. С Сопелкиной предпочитали не связываться, во всех коммунальных ссорах она правила колесницей победы, а поверженные в прах противники с ужасом уносили ноги от ее ядовитых стрел.
В комнату заглянул Щелчков, увидел меня насупленного и задумался – входить или не входить. Я кивнул, он вошел, робея. Щелчкову я уже все рассказал. Но, кажется, он мне не очень поверил. Ухмылка, во всяком случае, с которой он меня выслушал, говорила скорее против, нежели за.
– На, я тебе книжку принес. – Он протянул мне сильно трепанного «Человека-амфибию».
Я взял книгу, бросил на подоконник и уставился на чешуйчатого Ихтиандра, нарисованного на зеленой обложке.
– Не понравился мне тот рыболов. И лысина мне его не понравилась, и то, что он все время молчал, – повторил я в который раз, отколупывая от Ихтиандра чешуйки.
– Глухонемой, вот и молчал, – ответил мне на это Щелчков и с хрустом пожал плечами. – У тебя что-нибудь про шпионов есть? «Тарантул» там или этот, как его, «Майор Пронин»? А то все фантастика да фантастика, у меня от твоей фантастики не голова уже, а планета бурь.
– Если глухонемой, то почему же тогда он вздрогнул? – взглянул я на Щелчкова с сомнением.
На кухне загрохотало. Щелчков подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Кот Василий подошел тоже, но выглядывать на всякий случай не стал. Кто знает эту Сопелкину, вдруг она нарочно устроила в кухне грохот, а теперь стоит за дверью и ждет с утюгом в руке, когда высунется первая жертва. Кот был существо осторожное и зря на рожон не лез.
Я увидел, как спина у Щелчкова сначала заволновалась мелко, но, похоже, не от страха – от смеха. Потом по полотняной рубашке запрыгала волна покрупней, и дрожь передалась на затылок. Василий посмотрел на Щелчкова и, убедившись, что у того не припадок, высунул полголовы в коридор. Потом всхлипнул как-то по-человечьи и, когтями царапая половицы, затрясся в кошачьем смехе. Хвост его, как барабанная палочка, отстукивал на полу румбу.
Я тоже подбежал к двери. Еще не зная причину смеха, я уже заранее похохатывал. Но когда я выглянул в коридор и увидел в коридоре Сопелкину, то, наверно, впервые понял, что такое смеяться по-настоящему.
С виду, вроде, Сопелкина была как Сопелкина. Те же тапки на босу ногу с вылезающими во все стороны пальцами, тот же выцветший халат в лебедях. Только там, где у людей голова, у соседки была пыльная банка с тусклой надписью «Огурцы маринованные» на налепленной на стекло наклейке. Сопелкина занималась тем, что, вцепившись руками в банку, то ли свинчивала ее с себя, то ли, наоборот, навинчивала. Мелкие подводные звуки вяло вылетали из-под стекла и тут же, на лету, умирали, съеденные коридорными стенами.
– Планета бурь! – Щелчков смеялся как сумасшедший. – Человек-амфибия… – Он бил себя по впалой груди и пальцем показывал на соседку. – Вот она где, фантастика. И в космос лететь не надо.
Рядом смеялся кот. Я не отставал тоже.
Когда первые волны смеха одна за одной угасли, мы задумались, что же все-таки с Сопелкиной происходит. Как это ее угораздило всунуть голову в стеклотару из-под огурцов.
– Вера Павловна, вы чего? – Осторожно, прижимаясь к стене, я отправился выяснять ситуацию. Пару метров не доходя до соседки, я внимательно вгляделся в стекло, стараясь по шевелению губ разобрать ее невнятные речи. Но с шевелением ничего не вышло, мешала огуречная этикетка, наклеенная как раз на то место, за которым прятался ее рот.
– Вера Павловна, поверните банку! – Сложив из ладоней рупор, проорал я что было сил.
Что-то она мне ответила, но звуки застревали в стекле, а через узенькую щелочку возле шеи проходило совсем немного. Кроме тихого слова «сволочь» и какого-то болотного кваканья, я толком ничего не услышал.
Тогда на языке жестов я показал ей, как повернуть банку.
Сопелкина повела себя странно. Пальцы правой руки она собрала в кулак и костяшками забарабанила по стеклу, там, примерно, где у нее было темечко; указательным пальцем левой она при этом показывала на меня.
– Все понятно, – сказал Щелчков. – Раз стучит, значит, хочет, чтобы с ней говорили стуком. Ты азбуку Морзе знаешь?
– Так, не очень. Может быть, пару слов.
– Вот и стучи, что знаешь. Главное, когда будешь к ней подходить, смотри, чтобы по ноге не ударила, она может. Видишь, тапок как ходуном ходит. Иди, стучи, только не сильно, чтобы банку не кокнуть.
Медленно, не выпуская тапка из виду, я стал подходить к Сопелкиной. Она ждала, уперев руки в бока. Из-за стекла поверх надписи «Огурцы маринованные» смотрели два ее круглых глаза. Я уже потянулся к банке, но в этот самый момент Сопелкина выбросила руки вперед, схватила меня за плечи и резко притянула к себе. Затем откинула назад голову, помедлила, наверно, с секунду и опустила свою голову на мою.
Послышался звон стекла, в глазах моих стало пасмурно, а в уши вонзился крик:
– Ну, ироды, ну, погодите, вам это так, задешево, не пройдет!
Глава седьмая. Водятся ли в Африке комары?
– Видел я вашего старичка, по приметам – тот, – насупившись, рассказывал Шкипидаров.
Дело было в среду после уроков, вечером. Мы сидели в древнем кузове пятитонки. Вокруг спали грузовики. Собака Вовка мирно подремывала у будки, охраняя автобазу от расхитителей. Лёшка, ученик сторожа, терся возле нашей компании и посасывал заноженный палец.
Автобаза была маленькая, игрушечная, примерно, на десяток машин да на новенький мотоцикл «Ява», поставленный на вечерний прикол известным мотоциклетным асом Костей-Американцем-старшим. Располагалась она здесь же на нашей улице, по соседству, между домами тринадцатым и одиннадцатым.
Сторож базы, Ёжиков дядя Коля, по нечётным числам по вечерам проводил свое рабочее время в бане на Усачёва, передав ученику Лёшке законные державу и скипетр, то есть медный свисток с цепочкой и древнее нестреляющее ружье. Сегодня было как раз нечётное.
Дядя Коля был наш старый знакомый; прошлой осенью, когда улицу перекопали по случаю прорыва канализации, мы вытащили дядю Колю из рва, куда его закатило ветром. Поэтому территория автобазы, где дядя Коля был царь и бог, стала для нас родной. Здесь, в кузове пятитонки, отъездившей своё еще во времена татаро-монгольского ига, мы обычно собирались по вечерам. Кузов был нашим штабом, здесь мы строили планы, здесь мы играли в ножички; на базу, кроме меня и Щелчкова да нескольких наших верных приятелей, посторонних никого не пускали.
Шкипидаров устроился на обрезке шины, я и Щелчков сидели на деревянной лавочке, тянущейся вдоль борта списанного инвалида-грузовика. Лёшка стоял снаружи, опираясь на вверенное ему ружье. На груди его поверх пиджака, будто крупный геройский орден, мирно висел свисток.
– …Не понимаю только, зачем вам этот старичок сдался. Дед как дед, торгует раками рядом со скобяной лавкой. Всего стоящего у него – это борода и очки. – Шкипидаров поднял глаза и смотрел теперь на плоскую стену, по которой кривой походкой гуляла ярко-красная надпись: «Водитель, помни! Каждая капля сэкономленного бензина приближает наше светлое будущее!»
– Какие раки?! Не было никаких раков! И бороды никакой не было! – остановил я Шкипидарова нервно. – Были эти… лампочки для ручной штопки, курочка-ряба была… спички… – Я запнулся; про коробок говорить не стоило.
– Нет, борода была, – уверенно произнес Щелчков. – Раков не было, а борода была.
– Как же не было раков, когда я сам этих раков трогал. – Шкипидаров замотал головой и заёрзал на резиновой шине. – По пятачку штука, красные такие, усатые. Смотрят из ведра и пищат.
Лёшка, ученик сторожа, до этого равнодушно прислушивавшийся, заинтересованно заглянул к нам в кузов.
– Я не понял, – сказал он, скалясь, – как это «красные и пищат»?
– Красные, потому что вареные, а пищат, потому что больно, – ответил на вопрос Шкипидаров.
– А-а! – Лёшка кивнул и, задумавшись, отошел от машины.
– Шкипидаров, ты перепутал. Это был не тот старичок. У нашего – бороды не было, – настойчиво повторил я.
– Была, – возразил Щелчков. – Очков не было, это точно, а борода была. И палка была, и кепка.
– Но я же помню, я его как живого перед собой вижу. Желтые такие усы, прокуренные… Нос. – Я показал, какой был у старичка нос. – Голова лысая, кепки не было, точно, не было никакой кепки. Палка… палки не помню, кажется, тоже не было.
– Я не понял, при чем тут я? Вам этот старик нужен, вы его и ищите. А то один говорит, что лысый, другой говорит, что в кепке. Один говорит, с усами, другой говорит, что с носом. Нет, ребята, ходите на рынок сами. – Шкипидаров привстал над кузовом и сделал вид, что собирается уходить.
– Послушайте. – В кузов снова заглянул Лёшка. – Красные, ну это понятно. Вареные, потому и красные. Но раз вареные, почему им больно?
Тут неслышно из-за левого борта показалась дяди Колина голова.