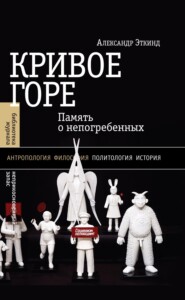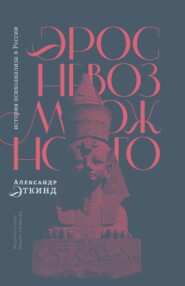По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хлыст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Утопии свободны от историзма, но не всегда претендуют на универсальность; важный их класс – утопии национальные. Рай конструируется не для всех, а для особого народа, который имеет уникальную способность к райской жизни. Этот народ так близок к природе, что живет почти совсем как в Эдеме. Однако и этот народ оказывается поделен на два пола; а в этом виде ему не войти в рай. Поэтому всякий утопический дискурс граничит с эротикой с одной стороны, с мистикой с другой. Преобразование жизни обязательно должно захватить пол, и утопический народ имеет для этого некую молчаливую предрасположенность. В противоположность этому антиутопии романтичны, историчны и интертекстуальны; они утверждают непобедимость пола, личности, истории и литературы.
Мистицизм, в рамках религии или вне таковых, есть борьба с жизненным циклом человека как биологического существа: визиты в царство мертвых или призывания гостей оттуда; попытки воздействия на старение и умирание плоти; отрицание реальности и необратимости смерти. На этом пути мистицизм непременно сталкивается с другими компонентами жизненного цикла – полом, сексом, любовью, деторождением. Путь к бессмертию, или по крайней мере ко всеобщему счастью, лежит через искупление первородного греха, преодоление пола. В этих реальных или воображаемых историях пол оказывается причиной всех страданий человека, вплоть до самой смерти.
Мировые религии не отрицают реальности смерти, но предлагают верующему надежду на продолжение существования в иной форме, а также ритуалы, которыми отмечается каждое событие жизненного цикла. Христианство обуславливает спасение души тем, сумел ли верующий в своей жизни искупить, следуя за Христом, грех Адама. Христианские ереси понимали эту задачу разнообразно и иногда очень буквальным способом. В крайних их вариантах, искупление греха и достижение бессмертия связывается с жизнью тела, а не души; тогда в дело идут разного рода телесные техники спасения, с которыми нам предстоит на русских примерах познакомиться. Буквализация христианского дискурса шла против более распространенных в Новое время тенденций. Реформация придала идее спасения абстрактный, рациональный и вполне метафорический характер. Отрицание доктрины первородного греха было важной предпосылкой Просвещения[213 - См.: Isaiah Berlin. The Counter-Enlightenment – in his: Against the Current. Essays in the History of Ideas. London: Hogarth, 1979, 20.]. Отцы церкви верили, что потомки Адама злы, порочны, греховны; отцы Просвещения учили, что человек по природе своей чист и, во всяком случае, способен к радикальному совершенствованию. Ему следует заботиться не о преодолении своей природы ради спасения души, а об устройстве лучшей жизни в соответствии с природой. Цивилизационный процесс формирует более спокойное отношение к жизненному циклу, который не освобождается от смерти, но до некоторой степени очищается от страдания, непредсказуемости и страха[214 - Norbert Elias. The Civilizing Process. New York: Urizen, 1978; см. также: Mennell Stephen. Norbert Elias. Civilization and the Human Self-Image. New York: Basil Blackwell, 1989; The Body. Social Processes and Cultural Theory. Ed. by Mike Featherstone, Mike Hepworth, and Bryan S.Turner. London: Sage, 1991.]. Зато человек остается один на один со своим жизненным циклом: без обязательного ритуала, без сопереживающего коллектива и без все объясняющего мифа.
Пытаясь заместить религиозные культы, утопические системы по-прежнему обещали человеку преобразовать его отношения с властью и собственностью с одной стороны, с полом и телом с другой стороны. Разоблачая эту связь, анти-утопии всякий раз сталкивают социальный проект с реальностью жизненного цикла. Невозможность изменить биологическую сущность человека очевиднее, чем невозможность изменить политэкономические формы его жизни. Демонстрируя неосуществимость проекта, анти-утопия сосредоточена на любви и смерти. В этом пункте борьба идей с легкостью приобретает литературные формы. В классическом романе, начиная с Кандида и Дон-Кихота, любовная интрига тоже оказывается сильнее социальной власти и идей, выдуманных культурой. Поэтому антиутопия принимает формы романа. Невозможность утопии демонстрируется любовной фабулой, которая помещается в утопическую среду и, по природе вещей, входит с ней в конфликт. Русский философский роман – Мы, Чевенгур, Доктор Живаго – показывал все то же: власть может сильно переделать жизнь, но отношения между мужчиной и женщиной не поддаются перестройке[215 - О русских анти-утопиях см.: Gary Saul Morson. The Boundaries of Genre. Dostoyevsky’s Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981; Krishan Kumar. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. New York: Basil Blackwell, 1987, ch.4; И. Смирнов. Антиутопия и теодицея в «Докторе Живаго» – Wiener Slawistischer Almanach, 1994, 34.]. Tаков и опыт реального социализма, который знал, как решать все проблемы, кроме любви и смерти, и пытался отрицать существование того, чего не мог регулировать.
Сексуальность и собственность оказываются нерасторжимо связаны и вместе ведут к невозможности коммунизма. Семья и имущество, любовь и корысть – две стороны одной луны; но, как водится, луна эта всегда повернута к наблюдателю одной из своих сторон. Пол чаще оказывался на обратной, невидимой стороне, а к энтузиасту обращена та, что связана с собственностью и ее перераспределением. Но обратная сторона луны существует, и заглянуть по ту сторону всегда казалось увлекательным и рискованным приключением. Если столпы социализма скорее гнушались им, то фанатики и поэты не уставали напоминать о том, что программа социализма выходит, и всегда выходила, за пределы экономики. «У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит», – говорил герой Чевенгура[216 - А. Платонов. Чевенгур. Москва: Советский писатель, 1989, 56.]. Автор Левого марша писал то же самое, но с противоположной интонацией: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! […] Левой!» Действительно, если «клячу истории» удастся загнать, то только так. Преодоление первородного греха есть ключ к подлинно левой политике; а тот, кто не признает этого, по-прежнему шагает правой, – утверждал Маяковский.
В свое время Карл Мангейм разграничивал идеологию, которой господствующие классы оправдывают свое господство, и утопию, в рамках которой эксплуатируемые классы формулируют свою жажду перемен[217 - Karl Mannheim. Ideology and Utopia. London: Routledge, 1991.]. В этих терминах, верования народных сект утопичны едва ли не по определению. Их желание перемен, однако, отличается от того, что выражено в более привычных утопиях литературного или философского жанра. Для сект характерен максимализм этого желания, его непосредственно-телесное выражение, немедленный переход идеи в действие, экстремальный характер порожденных всем этим практик. Отрицание частной собственности развивается параллельно с разрушением семьи и с концентрацией власти в руках духовного лидера. Когда проект становится реальностью, утопия превращается в идеологию. Самые чистые намерения, оборачиваясь экономической и сексуальной эксплуатацией, нуждаются в идеях, объясняющих состояние дел, и в ритуалах, благодаря которым эти идеи осваиваются общиной.
Сексуальное
Поиски нового социального порядка всегда связаны с поисками нового сексуального порядка. Начиная с аскетизма Капитона и заповедей Данилы Филипповича, русский раскол экспериментировал с семьей, полом и сексом. Опыты простирались от добровольной кастрации скопцов до ритуального промискуитета некоторых хлыстовских общин. Внутри этого диапазона разворачивались и более умеренные проекты, но стратегий поиска могло быть только две: либо ограничение сексуальности, мыслимым пределом которого является кастрация; либо же, наоборот, размыкание сексуальности до широких границ общины, мыслимым пределом чего является групповой секс. В мифологических терминах, однако, оба эти противоположные пути мыслились как искупление первородного греха.
Одной из причин для изменения брачного порядка было непризнание многими общинами православного священства: если нет священника, то некому ритуально оформлять браки, и индивидуальные желания напрямую сталкиваются с властью общины или ее лидера. Регуляция сексуальной жизни при недостатке религиозных институтов была одной из ключевых проблем, и к ней все вновь возвращалась мысль раскола. Именно в отношении семейного права более всего различались между собой разные ветви раскола. Борьба двух крупных старообрядческих общин – федосеевцев, не признающих брака, и поморцев, его признающих, – продолжалась веками, но стороны так и не смогли убедить друг друга. Один из основателей федосеевского согласия Илья Ковылин учил:
Без греха нет покаяния, без покаяния нет спасения. В раю много будет грешников, только там не будет ни одного еретика. Ныне брака нет и брачующиеся в никонианских храмах – прелюбодеи, еретики. Живя как бы по закону, они не чувствуют угрызений совести за свой грех и не каются[218 - И. Нильский. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке. Санкт-Петербург, 1869, 1, 212–213.].
Отсюда пошли две знаменитые фразы, приписываемые раскольникам: «Брак хуже блуда» и «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься».
Обвинения в сексуальном разврате сопровождали русские секты с момента их открытия высокой культурой. По сведениям Димитрия Ростовского, раскольники соблазняли и губили «жен, дев и отрочат»: завлекали их «на пустые места», «оскверняху их блудом» и так «сугубою смертию погубляху прельщенных, душу и тело убивающе: душу грехом, тело же огнем»[219 - Димитрий Ростовский. Розыск о раскольничьей бранской вере… Москва, 1847, 301.]. Иными словами, лжеучителя раскола совмещали самосожжения с блудом. Согласно ‘извету’, то есть доносу, 1672 года, еретики-капитоны собирались по 10, а то и по 40 человек обоего пола, служили в избе обедню. «А по вечерам, как огонь погасят, творят блуд. А про тот блуд разговаривают: хто де блуд и сотворит и в том греха нет»[220 - Румяцева. Народное антицерковное движение, 204.]. Так ‘капитонов’ стали называть ‘купидонами’.
История знает, как часто подобные обвинения формулировались против религиозных меньшинств. Как правило, их оказывается трудно подтвердить или опровергнуть, так как обвиняющая сторона не стеснялась в средствах, чтобы получить сведения, подтверждающие ее версию событий. Но и обычное отрицание самими сектантами того, что они использовали какие-либо сексуальные практики в своем культе, трудно принимать на веру. Вряд ли историография знает другие пригодные в таких случаях методы, кроме критики источников и опоры на здравый смысл. Как подчеркивал Норман Кон[221 - Norman Cohn. The Pursuit of the Millennium, passim.], приоритет в анализе сексуальных привычек еретиков имеют такие свидетельства, которые давались ими самими в пропагандистских или других целях, и во всяком случае без угроз и применения силы. Как раз таких свидетельств всегда оказывается мало. В основном мы имеем дело с материалами судебных расследований.
Самое известное из таких дел относится к Василию Радаеву, осужденному в 1853 году за хлыстовство и разврат. Он проповедовал свое «учение о таинственной смерти и таинственном воскрешении» в нескольких селах Арзамасского уезда. Радаев назвал следствию многих своих последовательниц, с которыми он был в связи, и объяснил: «соитие с ними имел я не по своей воле, а по воле Духа Святого, во мне во всем действующего». 17-летнюю девушку он «соблазнил на прелюбодейство, говоря, что это должно сделать по воле Божьей, а не его, ибо он своей воли не имеет, за что обещал ей огненные крылья, чему поверив, она впала с ним в предложенный грех с лишением ее девства». Другой девушке он во время собрания приказал раздеться и вместе с товарищем бил прутьями «по непристойным частям». Третья, когда Радаева взяли под арест, «бесстыдно обнажила себя и в таком положении днем ходила по улицам». При этом «во всем око-лодке он слыл праведником», сообщали о Радаеве[222 - Айвазов. Христовщина, 1, 114; Д. Коновалов. Религиозные движения в России. 2. В. Рада-ев – Ежемесячный журнал, 1914, 3, 103.]. В нашем арзамасском пророке особенно заметно сходство с братьями Свободного духа, исчезнувшими несколько столетий назад в ренессансной Европе; и о них, впрочем, мы знаем в основном по допросам.
Но вряд ли подлежит сомнению то, что беспоповские и хлыстовские общины отрицали брак и санкционировали альтернативные структуры сожительства: ‘духовный брак’, ‘посестрие’, ‘сухая любовь’ и пр. На эти самодеятельные институты возлагались, как правило, одни только несексуальные функции брака. «Хлысты допускают […] и даже поощряют сожительство мужчины и женщины, но оно должно быть […] без плотского греха», – писал Дмитрий Коновалов, обобщая множество сведений[223 - Д. Коновалов. Религиозные движения в России. 1. Секта хлыстов – Ежемесячный журнал, 1914, 1, 121.].
На деле, конечно, пара разнополых людей, жившая одним хозяйством и нередко воспитывавшая детей, практиковала и некие телесные отношения. Экспериментам способствовала узкая концепция сексуальности, характерная для традиционной культуры. ‘Блудом’ и, соответственно, ‘грехом’ признавалось одно лишь ‘соитие’, – иначе говоря, только генитально-генитальные отношения; другие же формы проявления сексуальности вовсе ничем не регулировались. На радениях закавказских прыгунов «на каждого брата и сестру приходится каждый раз minimum до сотни поцелуев», – писал светский наблюдатель, подозревавший за обрядом лобызания его сексуальную основу[224 - Дингельштедт. Закавказские сектанты, 10.]; но сами лобызавшиеся не считали это грехом. Тамбовские хлысты считали, что совершение плотского греха разрушает способность к переживанию «чудных состояний»[225 - Колоритные высказывания тамбовцев приведены в: Коновалов. Религиозный экстаз…, 115–116.]. Женщины-хлыстовки, по много лет жившие со своими ‘духовными мужьями’, сохраняли свою девственность, что было подтверждено экспертизой. Филипп Копылов, сын основателя общины хлыстов-копыловцев, жил 18 лет вместе со своей духовницей, богородицей Анисьей; при медицинском освидетельствовании она оказалась девственницей. На следствии она показывала: с духовным мужем своим она «спала вместе, обнимал он ее и целовал, но соития с нею никогда не имел»[226 - Коновалов. Религиозные движения в России. 1. Секта хлыстов, 121.]. Пожилая крестьянка, которая оставалась девственницей и, вероятно, приходила в мистический ужас от возможности «соития», вовсе не считала грехом то, что мужчина с ней «спал», «обнимал» ее и «целовал»: то, что она называла этими словами, неизвестно и оставляет желающему простор для фантазий. 19-летняя Прасковья рассказывала о своих отношениях с ‘духовником’ примерно то же: «мы с ним спим вместе, лежа друг у друга на руке, целуемся и друг в друга вдуваем дух […] но греха мы с ним не имеем»[227 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 46.]. Такая связь формировала чувствительность к необычным телесным феноменам, в определенной степени заменявшим секс: «мы с ним (духовником) сошлись по духу год тому назад, потому что и у него и у меня дух трепещется в животе; […] это я знаю потому, что у себя я чувствую, а у него вижу, как он трепещется», – выразительно объясняла Прасковья. Другой член того же корабля рассказывал так: «мне самому случалось испытывать: лежа с своею женою (которая одного со мной союза), когда она спит, перекрестишь ее с любовью, приложишь руку к сердцу и чувствуешь, что внутри ее трепет; значит, Дух радуется слову Божию и любови»[228 - Там же.].
Есть немало свидетельств и более ординарного характера. В 1864 году лидер закавказской общины прыгунов женился при живой жене. По словам доброжелательного свидетеля, на женитьбе лидера настояли молодые члены общины, которые «нашли удобным, чтобы он первый завел себе две жены, а затем уже они»[229 - Духовный христианин, 1910, 10, 75–76.]. В 1882 году в Тверской губернии было описано ‘любушкино согласие’. Его сторонники оставляли супругов ради новых партнеров, объясняя так: «плотские отношения между братом и сестрой почитаются великим грехом потому, что они родные друг другу. А жена и муж разве не родные?»[230 - Пругавин. Раскол-сектантство, 443.] Таким рассуждением любушкино согласие снимало ограничения на половые связи, взамен распространяя запрет инцеста на супругов. В 1892 году состоялось два судебных процесса, на которых присяжные заседатели согласились с обвинением хлыстов в свальном грехе. В Екатеринославе судом присяжных было признано, «что во время молитвенных собраний сектантов для возбуждения половой страсти пред ними скачет и бегает обнаженная женщина, именуемая богородицей; что они изобличаются в свальном грехе во время их собраний и в развратном образе жизни». В Симбирске присяжные установили, что «в обряд ереси входил свальный грех, именуемый христовой любовью, т. е. половые совокупления без различия родства и возраста». Оба приговора были утверждены Правительствующим Сенатом. Сразу вслед за этим миссионеров, которые на таких процессах всегда стояли за прокурорами, постигла неудача. В 1893 году в Тарусе была выявлена большая хлыстовская секта, в которой следствие насчитало до 200 человек. Суду было предано 20 из них. Дело приобрело известность: по кассации, его рассматривала Московская Судебная палата, а потом Сенат. В конце концов императорский Указ отменил судебный приговор тарусским хлыстам, так как в данном случае отсутствовали вещественные доказательства совершения хлыстами «изуверных или противонравственных действий», а имелись лишь свидетельства религиозной пропаганды, суду не подлежавшей. Как разъяснил этот Указ 1893 года, секта может преследоваться судом как «изуверная», только если будут обнаружены такие действия, «как умерщвление блудно прижитых младенцев и причащение их кровью, свальный грех на радениях, половой разврат как замена брака и т. п.»[231 - Айвазов. Христовщина, 1, 384.]. Отмена приговора по кассации означала, что высшая инстанция нашла доказательства «полового разврата» недостаточными.
Но мы снова и снова встречаемся с подобными свидетельствами, причем даже в дружественных источниках. В 1900 году дело ‘супоневских хлыстов’ не выявило свального греха, но обнаружило «половую распущенность»: лидер секты практиковал половые акты в присутствии других женщин или даже мужа своей партнерши. Обвинение, стремясь рассматривать эти явления как культовые, поставило перед психиатром вопрос: являлась ли «половая распущенность […] обрядовой стороной радений или заключительным, почти неизбежным, актом экстаза». Эксперт дал заключение, что подобное поведение было «несомненно патологическим явлением»[232 - Там же, 572.]. В 1901 году свидетель, посетивший собрание прыгунов под Киевом, рассказывал о женщине, которая «у всех на виду начала выделывать сладострастнейшие действия, двигая руками к грудям и от грудей, как бы кого обнимая и похотливо привлекая […] Раздалось пение псалмов […] Женщина вдруг воскликнула: “отец позволяет плясать” и пустилась кружиться вокруг вожака»[233 - Сопоцько. На собрании у штундовых прыгунов в с. Дешек Киевской губ. – Миссионерское обозрение, 1901, 1, 661.]. В описании радения закавказских прыгунов, риторикой своей напоминающем старинные ведьмовские процессы, «женский пол, как бы насилуемый духом бездны, кривляется телом, выдавая оное то вперед, то назад наподобие действий блудниц»[234 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 77.]. Оренбургский хлыст Кожевников в экстазе радения прохаживался по моленной с тремя девицами, «целуясь с ними в губы и лаская их»; миссионерские сообщения полны подобными эпизодами, в которых усматривались, по выражению местного священника, «видимые признаки любострастия»[235 - Там же, 78.]. Важнее других здесь точка зрения Алексея Пругавина, обычно защищавшего хлыстов от обвинений в сексуальных излишествах. Он цитировал своего информатора, участвовавшего в радениях:
у хлыстов на их собраниях открыто допускаются ласки со всеми ‘сестрами’. Поэтому у них нет лжи, нет фальши […] Тут и объятия жаркие, братские лобзания, поцелуи горячие […] Любовный восторг, духовный экстаз […] Некоторые, не помня себя, хватают женщин на руки, качают их, любуются ими: «Красота Божия»[236 - А. С. Пругавин. Бунт против природы (о хлыстах и хлыстовщине). Москва: Задруга, 1917, 1, 74.].
В 1897 году в Самарском суде разбиралось дело местных ‘мормонов’, которые «радели совершенно по-хлыстовски» и верили в схождение Святого духа, в перерождение и в говорение на разных языках. В материалах фигурирует показание 12-летней девочки о свальном грехе, происходившем после радений этой секты[237 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 95.]. В 1908 году в Смоленске судебный следователь прекратил дело против хлыстов деревни Угрицы на том основании, что «ни посягательства на жизнь, ни оскоплений, ни явно безнравственных действий в секте […] не обнаружено». Согласно судебным документам, община именовала себя ‘Новый Израиль’, проповедовала «человекообожание и перевоплощение» и считала лидера «живым Богом» и 21-м Иисусом Христом. Женщины на радениях тряслись и махали руками; «после пения стихов, бабы садились на колена к мужчинам, не к своим мужьям, мужчины обнимали их, трогали за груди и угощали баб сластями»[238 - Айвазов. Христовщина, 3, 237.]. В 1910 году община духовных христиан в крымском селе Астраханка разделилась надвое: одни братья – «преимущественно в среде богатых» – ввели в обычай многоженство; другие же осудили их, назвав ‘мормонами’[239 - Духовный христианин, 1910, 11, 10–11.].
Хлысты-белоризцы, описанные в 1911–1912 и придерживавшиеся «первоначальной формы русской хлыстовщины», избегали секса в браке, но иногда практиковали свальный грех. «В редких случаях радения белоризцев сопровождаются половым развратом, имеющим, по учению некоторых вожаков секты, спасительное значение», – рассказывал этнограф[240 - Бондарь. Секты хлыстов, 7–13.]. В хлыстовской среде ходили рассказы и об опытах еще более глубокой коллективизации частной жизни.
В прежнее время все были братья и сестры. Однажды в экстазе любви решили жить общей семьей. Это было очень давно. Свезли всех детей в одно большое помещение. В помещении этом дети пробыли недолго. Плач по матерям, крик сделали из этого помещения скорей подобие ада, чем Царствия небесного. Наконец материнское чувство очень скоро одержало верх над порывами энтузиазма и матери разобрали детей. Также и […] братья и сестры опять разошлись по семьям[241 - В. А. Данилов. О хлыстах – Духовный христианин, 1910, 2, 45; о Данилове см. ниже, часть 8.].
У народника Виктора Данилова, хорошо знавшего русское сектантство, не было сомнений в том, что сексуальные отношения в хлыстовских и других общинах часто оказывались дезорганизованными. Он называл это «больным вопросом части русского сектантства» и без успеха агитировал хлыстов за единобрачие. «Духовные влечения перепутались с плотскою страстью» – так объяснял он природу хлыстовских заблуждений[242 - В. А. Данилов. О духовных женах – Духовный христианин, 1913, 5, 23.]. При этом Данилов опровергал «всеобще распространенное мнение о существовании у Израиля на беседах свального греха»[243 - Данилов. О хлыстах, 43.]. Но по его же словам, в крупной общине хлыстов-‘богомолов’ в 1880-х годах
половая разнузданность в некоторых кругах дошла до крайних пределов. Прежде духовниц меняли, соблюдая трехдневное воздержание от пищи. Это было оставлено. Были круги (не желаю назвать их), где были духовницы «на час», под влиянием минутной страсти. […] Даже попадались отдельные лица, жившие с дочерьми. «Я посадил древо, я первый и пользуюсь плодами», – оправдывали они животную похоть свою[244 - РНБ, ф.238, ед. хр.19. Фонд Данилова собран И. С. Книжником-Ветровым и в 1936 подарен «Дому Плеханова», отделу Публичной библиотеки в Ленинграде.].
Как этнограф-любитель, Данилов был чувствителен к экзотике материала; в бытность свою в сибирской ссылке он выучил якутский язык и женился на якутке. Но его очевидная симпатия к хлыстам вряд ли позволила бы ему преувеличивать крайности их сексуальных обычаев. Его симпатии всякий раз на стороне женщин, страдающих от «животной» страсти мужских членов общины.
Я часто присутствовал на этих радениях. Часто томящиеся души, особенно женщины, бросались мне в объятия, желая найти утешение в черной скорби своей. Эта черная скорбь была следствием сознания своего падения, когда она, приходя за словом духовного назидания […] к более влиятельному брату по духу, становилась жертвой его животно полового возбуждения.
По словам Данилова, примирения между женами и подругами сектантских лидеров происходят прямо на радениях. Такие «факты не единичные, не исключения», – утверждал Данилов.
Духовница падает к ногам жены, как бы сознавая свое преступление, просит прощение и в теплых братских объятиях получают они взаимное утешение […] А в это время виновник ихних мучений безучастно смотрит на эту сцену примирения, обнаруживая этим безучастием всю грубость животности своей[245 - РНБ, ф. 238, ед. хр. 126.].
И Данилов, романтик старой школы, напрямую сравнивал хлыстовство с современной ему литературой, отдавая безусловное предпочтение первому:
Вопрос отношения полов – роковой вопрос религиозной мысли. Одни хотят вычеркнуть его из жизни. Другие устраивают различные опыты, решения. […] В литературе это направление известно под названиями модернизма или символизма, как вырождение чувства в слова; в народной жизни это – «хлысты», то есть то крайнее проявление, где духовность гибнет в переживании налетевшего ощущения[246 - РНБ, ф.238, ед. хр.181, л.40; текст не датирован, но вероятно, написан около 1910.].
Корпоральное
Московский хлыст 18 века говорил, а писарь записывал: «вертясь на сборищах, чувствовал […] сошествие на себя Духа святого, потому что у него в то же время трепеталось сердце аки голубь»[247 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 5.]. Эти слова, сказанные на дыбе, – продукт встречи двух телесных техник, в равной мере экстремальных – физической пытки и ритуального кружения. Следователь, пытавший сектанта, верил в то, что дыба и кнут исторгают правду; сектант, кружившийся на радении, верил в то, что призывал Духа святого; и оба верили, что манипуляции с телом суть способ приобщения к высшим силам. Tекст был порожден последовательной работой культуры над телом – сначала на радении, потом на пытке.
Многое из того, что в высокой письменной культуре было религиозной проповедью и литературной метафорой, в культуре народных сект бытовало устно и осуществлялось буквально. Дискурсивное описание «буквальности», однако, представляет высшую трудность; само это слово противоречит собственному значению и оставляет нас внутри письма. Основатель хлыстовства, легендарный Данила Филиппович, выбросил книги в Волгу. Книга – тело письменной культуры – в культуре неграмотных заменялось телом как таковым. Tак русский раскол, в основе которого была разная интерпретация сложных богословских и политических символов, стал символизироваться телесным жестом, двуперстием. Создавая риторику раскола, Аввакум пользовался телесными метафорами как одним из главных своих орудий. В «челобитной» царю он рассказывает о своих видениях, в которых тяжкие грехи Алексея Михайловича описываются как гнойные язвы у него на животе, а спина царя виделась «сгнивше паче брюха». Самого себя Аввакум ощущает мистическим телом мира: «и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен […] распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь»[248 - Житие Аввакума и другие сочинения. Москва: Советская Россия, 1991, 96–97.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: