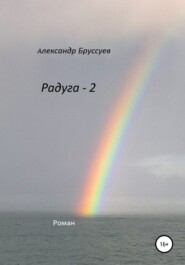По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кайкки лоппи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но ждать долго было невмоготу, поэтому Ромуальд, как наиболее пострадавший, отправился на «тумбочку», где дневальный контролировал весь порядок в расположении.
– Чего надо? – не очень вежливо спросил тот, что не так давно выступал с пламенной речью, черноволосый и опрятный.
– Понимаете, тут произошла какая-то ошибка, – начал Ромуальд, скрестив для храбрости руки за спиной.
– Самая большая ошибка – это если ты сейчас не испаришься отсюда, – проговорил курсант и скрестил руки на груди.
Ромуальд чуть было не стал перекрещивать свои ноги, но вовремя сообразил, что потеряет равновесие и упадет.
– Вы послушайте: у нас из комнаты пропали деньги, кое-какие личные вещи, – сказал он.
– Не из комнаты, карась, а из кубрика, – уточнил парень и внезапно сузил в бешенстве глаза. – Мне твои пропажи по барабану. Пошел отсюда!
И неожиданно, без всякого предупреждения, ударил носком своего курсантского ботинка Ромуальда прямо между ног. Это было больно. Да что там – это было очень больно! Других ударов он уже не ощутил, хотя потом, по образовавшимся на теле синякам определил, что они тоже имели место.
Пока он валялся на полу, перекатываясь в согнутом положении с бока на бок, зажмурив глаза и пытаясь не голосить, вокруг появились еще люди.
– Чего, Бэн, вальтует? – поинтересовался один.
– Совсем обнаглели караси – первый день в системе, а им уже личные деньги подавай! – ответил тот, что свалил несчастного Ромуальда. – Сейчас я его вообще урою!
Боль медленно отступала, уже можно было раскрыть глаза и выдохнуть весь воздух, что скопился в легких, пока хозяином тела был паралич страдания. Вместе с этим пришло осознание того, что все их пропажи были совсем неслучайны. И тут же откуда-то из глубины души, доселе никак и никогда себя не проявлявшая, поднялась багровая ярость. Конечно, тогда Ромуальд еще не мог дать этому своему чувству такое определение, название пришло позднее, когда довелось прочитать один из рассказов Джека Лондона.
Он медленно встал на ноги, все еще не в силах полностью разогнуться, и мрачно проговорил, глядя в глаза своему обидчику:
– Ты сам мне принесешь мои деньги, сука. Не пройдет и нескольких месяцев.
– Ты слыхал, Бэн, он еще и угрожает! – сказал кто-то. – В натуре, вальтуют караси.
Но Ромуальд уже повернулся к ним спиной и, ступая маленькими шагами, пошел в свой кубрик. Ударить в спину почему-то никто не решился.
3
Привыкнуть к новому распорядку дня оказалось сложнее всего. Никакого свободного времени попросту не существовало. С другой стороны, это было и не так уж и плохо. Некогда было тосковать по дому. Учеба была проста, к тому же на фоне собравшихся в его группе крепких троечников. Педагоги тоже были разные – и веселые, и равнодушные, и доброжелательные, и откровенные сволочи. Ромуальд не забыл своего обещания, хладнокровно вынашивая планы мести. Иногда он встречался с Бэном, местным столичным жителем, как оказалось, но никогда не отводил взгляд, смотрев тому прямо в глаза. В миру Бэн звался Сашей, имел какой-то бойцовский разряд, и был авторитетом среди своего курса. Учился он на механика.
Вообще, в стенах училища существовала некая традиция, возникшая неизвестно когда: будущие механики враждовали с будущими штурманами. Были, конечно, еще ребята, получающие совмещенное образование, но к ним относились с некоторой долей жалости. Эти полумеханики-полуштурмана о нормальном флоте, визированном, заграничном, не мечтали. Их готовили для обширного внутреннего пользования, в основном на могучих сибирских реках. Им по учебе и распорядку прощалось многое. Они по желанию могли занимать любую конфликтующую сторону, но в основном плевали на всех и вся и жили по своему разумению.
Ромуальд, как первокурсник-навигатор, в споре с второкурсником из другого лагеря был в явно проигрышной позиции. Помощи спросить было не у кого, да он и не пытался особо. Оставалось только смириться с потерей и жить дальше, но он как-то придерживался другой точки зрения.
К середине октября, когда в многочисленных подшефных совхозах закончили с уборкой картофеля, турнепса и прочей свеклы, и юных курсантов перестали возить после занятий на оказание добровольной помощи хозяйствам, вечером появились в распорядке дня некоторые окна, именуемые «самоподготовкой». В один из таких дождливых и сумрачных вечеров, когда народ сосредоточился по курилкам, кроватям и телевизорам, Ромуальд пробрался на не самый охраняемый в училище объект – в актовый зал. Там, укрытый пыльными гардинами стоял немного поцарапанный рояль, на котором, в принципе, при желании можно было не только мух убивать, но и сбацать что-нибудь революционное. «Тайную вечерю», например, как у позаимствованного у Баха «Procol Harum”. Однако Ромуальд был нацелен использовать рояль по-деловому, без всяких эстетических услад. Он скрутил самую тонкую струну, пообещав потом, конечно, вернуть ее обратно.
Однажды во время сомнительного предмета, где уважаемый некоторыми курсантами Анатолий Викторович Белов деликатно и доходчиво объяснял потенциальным капитанам, что на любых пароходах есть механизмы, которые работают отнюдь не из-за волшебных палочек, золотых рыбок и прочей сказочной атрибутики, а вследствие воздействия на них любых членов экипажа, Ромуальд наконец понял, что он созрел для решительных действий. «Вот оно это слово – воздействие!» – решил он, и камень, лежащий на сердце, скатился куда-то. Наверно, в кишечник.
Белов еще долго рассказывал, что только аккуратное и грамотное управление машинами позволит проработать судну, а, стало быть, и любому члену экипажа, без проблем, потерь средств и ненужных затрат.
– Когда-нибудь вы поймете, товарищи судоводители, что лучший друг на судне – это не капитан с его заскоками, не бутылка водки и не контрабанда сигарет, а коллега механик, с которым вы стоите одну вахту, – говорил Белов. – Если у вас к третьему курсу сложится такое мировоззрение – вы не пропащие для общества индивиды.
– Почему к третьему? – спросил кто-то с места.
– Для вас, козлов, не знакомых с правилом задания вопроса преподавателю, повторюсь. На третьем курсе – не позже, каждый из вас сделает осознанный вывод: тому ли я учусь? Вы меня поняли, курсант Козлов?
Те, что уловили иронию, рассмеялись. Белов, порадовавшись, что был понят, снизошел до детального объяснения.
– После второго курса все вы пойдете на полугодовую плавательскую практику. И уже на третьем сможете оценить все прелести работы: стоит ли так корячиться, или нет?
В тот же вечер Ромуальд сходил в мастерскую училища и, потрепавшись за жизнь с вольнонаемными пьяными слесарями, нашел что хотел – старую велосипедную спицу. Испросив разрешение попользоваться напильниками, плоскогубцами и сверлильным станком, он подготовил себе необходимый инструмент. Теперь осталось только выждать удобный момент.
Тем временем по училищу прошел слух, что первокурсникам после торжественного марша перед правительственными трибунами разрешат съездить по домам. Три дня благословенного отдыха вдали от казарменного уюта – это был просто праздник, даже лучше, чем День Великой Октябрьской Социалистической революции. Поэтому Ромуальд принял решение: 6 ноября, когда все курсанты в преддверии парада будут обязаны ночевать в системе, он претворит в жизнь свои слова. Иначе сам себя уважать не будет. А с этим разве можно как-то жить?
Ему повезло: он не попал в наряд, Бэн тоже наличествовал.
– Мне нужно передать тебе кое-что, – сказал ему Ромуальд во время ужина. – Приходи в Ленинскую комнату, если, конечно, не боишься.
И пошел обратно, не обращая внимания на вскочивших в показном гневе из-за стола сокурсников Бэна, не слушая их гневных проповедей: «как разговариваешь, чушок!», и «да мы тебя сейчас здесь уроем!», и тому подобные литературные откровения.
Теперь можно было не сомневаться, хоть точный час и не назначен, но буйные второкурсники сами прибегут за Ромуальдом, когда соберутся в Ленинской комнате.
Так и произошло. Резко открылась дверь кубрика, будто ее пнули, и вошли двое с кровожадными улыбками: один – круглоголовый, знакомый уже по первому казарменному дню, второй – рослый парень со всегда полузакрытыми глазами.
– Ты! – ткнул пальцем круглый. – Быстро пошел!
Ромуальд пожал плечами: «как хотите», и вышел из кубрика. Сокурсники проводили его испуганными и сочувствующими взглядами, рослый парень дал подзатыльник.
Перед Ленинской комнатой, расположенной в самом углу коридора было сумрачно – горел лишь один светильник. Зато внутри была полная иллюминация.
– Ну? – очень нехорошим тоном спросил Бэн. Он стоял как раз перед учительским столом, кроме вошедших было еще два человека, сидевших за разными местами. Они тоже глядели очень осуждающе, готовые хоть прямо сейчас броситься и топтать ногами одинокого «салабона». Конвоиры остались стоять у дверей, на всякий случай против попыток побега.
– Вот, – сказал Ромуальд и выложил перед Бэном однокопеечный конверт, в каких раньше солдаты отсылали письма на волю. – Тоби пакет.
Второкурсники недоуменно переглянулись.
– Что это? – у Бэна получилось произнести каждую букву по отдельности в этих двух словах.
В это время Ромуальд деловито вытащил из одного кармана старую брезентовую, измазанную краской и несмываемой грязью рабочую рукавицу, а из другого – что-то тонкое и круглое, сверкнувшее под светом ламп.
Ловким отрепетированным движением он накинул на шею Бэна сделанную из рояльной струны удавку и зажал ее левой рукой, уже облаченной в рукавицу. Роль плавающего узла исполняли несколько плотных витков стальной проволоки, на одном конце струны висела гирька, за другой держался сам Ромуальд.
Никто из парней не успел по два раза изумленно мигнуть глазами, а Бэн уже захрипел, пытаясь пальцами зацепить сдавившую горло проволоку. Чем больше он дергался, тем сильнее стягивалась петля. Кожа на шее в некоторых местах полопалась, появилась кровь.
– Так! – заорал Ромуальд. – Всем тихо, сволочи! Кто сунется – задушу эту мразь!
Бэн обмяк и ухватился разведенными руками за крышку стола, чтоб не упасть. Глаза у него странно выпучились, весь он покраснел до синевы, с косо открытого рта тянулась на подбородок струйка слюны, гюйс в некоторых местах стал пропитываться кровью. На таких парней девчонки обычно стараются не глядеть.
– Ты убьешь его! – тонким голосом закричал круглый.
– Если не будете дергаться – вряд ли, – спокойно ответил Ромуальд. – Всем оставаться на своих местах. Тебя, толстый, как зовут?
– Федя, – ответил тот, потом поправился. – Федор.
Другие электронные книги автора Александр Михайлович Бруссуев
Другие аудиокниги автора Александр Михайлович Бруссуев
Полярник




 0
0