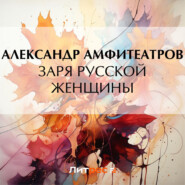По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Падре Агостино
Год написания книги
1888
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Валентинович Амфитеатров
«Я жил уже около месяца во Флоренции, «все видел-высмотрелъ» и в одно прекрасное утро встал с сознанием, что мне смертельно прискучила Firenze la bella с её Cascine, с её ушедшими под облака Fiesole и Certosa d'Ema, с её живописными мостами на Арно, этой реке-хамелеоне раза по три в день меняющей цвет своих быстрых вод Loggia d'Orcagna перестала изумлять меня своим Персеем, Palazzo Uffizi – Медицейской Венерой, Palazzo Piti – рафаелевскими «Видением Иезекииля» и «Мадонной della seggiola». В виду этого я вытащил из-под кровати чемодан и принялся укладывать вещи, намереваясь вечером уехать в Сьенну…»
Александр Амфитеатров
Падре Агостино
Я жил уже около месяца во Флоренции, «все видел-высмотрелъ» и в одно прекрасное утро встал с сознанием, что мне смертельно прискучила Firenze la bella с её Cascine, с её ушедшими под облака Fiesole и Certosa d'Ema, с её живописными мостами на Арно, этой реке-хамелеоне раза по три в день меняющей цвет своих быстрых вод Loggia d'Orcagna перестала изумлять меня своим Персеем, Palazzo Uffizi – Медицейской Венерой, Palazzo Piti – рафаелевскими «Видением Иезекииля» и «Мадонной della seggiola». В виду этого я вытащил из-под кровати чемодан и принялся укладывать вещи, намереваясь вечером уехать в Сьенну. Так и объявил своему хозяину – синьору Alfredo Sbolgi – превосходнейшему малому на свой, флорентинский манер. Он правда не мог совершенно расстаться с привычкой видеть в иностранце вола с семью удобосдираемыми шкурами, но лично довольствовался всего одною великодушно оставляя форестьеру остальные шесть для прокормления будущих его padroni.
– Господи! так ли я слышал? Да разве это возможно – уехать сегодня? – воскликнула Альфредо с жестом, достойным Томазо Сальвини в «Гладиаторе».
– Почему же невозможно? – поинтересовался я.
– А потому, что безумно уезжать из Флоренции, когда в нее только что прибыл великий Монтефельтро.
Известие это произвело на меня очень малое впечатление. Имя Монтефельтро было мне неизвестно, а s-r Sbolgi был великим театралом и играл не последнюю роль в клаке флорентинских театров Он знал по именам всех оперных певцов и каждое утро сообщал мне с таинственно-восторженным видом: сегодня прибыл в город и celebre Manfredi, сегодня дебютирует в Pergola – il distinissimo Sylla Carobbi, сегодня – в Pagliano бенефис (serata d'onore della bellissima Bulycioff – нашей соотечественницы, удивлявшей тогда Флоренцию столько же своим голосом сколько и наружностью: grande grossa, blonda – большая, толстая блондинка три самые драгоценные требования флорентинского вкуса? г-жа Булычева удовлетворяла всем трем, и добрые флорентинцы, не стесняясь вопияли, слушая ее в «Лоэнгрине»: – Это больше чем женщина! Статуя, Венера Медицейская!
– Нет уж s-r Альфредо! – отвечал я баста! – не удивите вы меня никаким Монтефельтро… Хоть сам Котоньи приезжай не останусь: надоела мне ваша Pergolla.
– Но, синьор! – возразил Альфредо – вы заблуждаетесь, Монтефельтро – не артист он – монах, проповедник…
– И вы, s-r Sbolgi, не нашли для меня приманки лучше монашеской проповеди? А еще либерал! Еще над постелью повесил портрет Гарибальди!.
– S-r! Падре Агостино – необыкновенный монах. Вы знаете: у меня быль брат в «тысяче», и его расстреляла папская сволочь… но пред падре Агостино я преклоняюсь: он патриот, и когда он говорить… вы понимаете… я не фанатик – мое убеждение: религия – вещь прекрасная, но нам, беднякам, она слишком дорого обходится. Однако, когда падре Агостино говорить, я плачу.
Из-за такой диковинки, как патер-патриот, заставляющий плакать легкомысленных флорентинцев, во время оно спаливших на своей Piazza della Signoria – Джероламо Савонароллу, а потом построивших на месте ужасного костра нецензурный фонтан Нептуна – ужас чопорных англичанок-пуристокь, – стоило остаться На другой день я слушал Монтефельтро в Cattedrale, и, должен признаться, никогда не выносил более сильного впечатления от живой речи. Cattedrale (Santa Maria del Fiore) – одно из громаднейших зданий Италии – совместная работа Флоренции, Каррары и Сьенны – здание, в обыкновенное время пустынное. Обычное число богомольцев-хотя и довольно почтенное: Флоренция город все-таки более религиозный, чем, например, Милан или Турин, теряется в величественном просторе этого храма Медичей. Теперь же в нем, что называется, яблоку некуда упасть По протекции одного из членов русской колонии, г. Б – это странный совсем об итальянившийся господин, полукатолик, полусведенборгианец, лицо очень уважаемое во Флоренции – я получил место у самой кафедры. Послушали вытье плохих певчих и рокот органа, величественно разносившийся под грандиозным куполом Брунеллески Равного этому куполу по смелости свода нет в целом мире, пред ним преклонялся, как пред чудом, даже не знавший пределов своей фантазии, Микель Анджело Буонаротти Наконец, на кафедр появился монах, то был сам падре Агостино.
Он из тех людей, к кому сразу тянет. Представьте себе человека в сутане, среднего роста худощавого, с бледным длинным лицом, очень тонко и изящно очерченным, с большими темными глазами, окруженными синими венчиками. Взгляд не вдохновенный, но глубокий и вдумчивый. Монтефельтро проникновенно смотрит не на толпу а куда-то дальше её и там черпает материал для своей речи
Он заговорил очень тихим, но внятным голосом, и не по-латыни, а по-итальянски Я не расслышал текста, но мне потом сказали, что Монтефельтро говорил на тему стиха пророка Иеремии: кажется ленивому, что лев среди улицы – выйду и пожрет он меня. Начал он намеком на благотворительную цель, с которой приехал во Флоренцию: его пригласил проповедывать комитет реставрации знаменитой Facciata del Duomo и башни Джотто. Эта кропотливая реставрация продолжалась чуть не полвека и кончена только в 87 году. Она стоила миллион франков, и для завершения её колоссальных работ комитет выдумывал самые разнообразные средства. Помимо щедрой всенародной подписки, – Мазини Котоньи пели в пользу Facciata в Pergola? Ториджани один из воротил комитета, предлагал даже устроить первый на итальянской почве бой быков с Мазантини – prima spada d'Espagna {Первый тореадор в Испании.} – во главе. Вышло в свет несколько литературных сборников в которые даже атеисты Стеккети и Кардуччи вложили свою лепту на восстановление художественного памятника великой старины. И, наконец, – падре Агостино был приглашен проповедывать и вызвать своими речами народ на щедрую милостыню. Сборщики с кружками то и дело шмыгали в толпе. Падре Агостино коснулся истории фасада – имена Джиотто, Брунеллески, Донателло приятно пощекотали национальное самолюбие публики – и истории собора Монтефельтро отличный рассказчик? у него есть талант двумя словами набрасывать яркую картину. Когда он напомнил о покушении на жизнь братьев Медичи в стенах этого самого священного здания и протянул белую узкую руку к резной двери капеллы, куда прятался Пьэтро Медичи от убийц, – воображение, подстрекаемое вековыми декорациями места действия, невольно переносило меня в этот ужасный век крови и железа, так и захотелось услыхать стук оружия и «Медичей воинственный набат».
Из мечтаний, навеянных красивой декламацией падре Агостино, было почти неприятно перейти к неприглядной картине современного флорентинского строя, на который Агостино не пожалел темных красок… Тихий голос его крепчал-крепчал и вдруг загремел такими могучими и страстными нотами, что всю толпу всколыхнуло у слушателей мороз прошел по коже. Только у Поссарта в «Лире» слыхал я такие изумительные голосовые переходы! Наши русские ораторы и декламаторы всю свою жизнь вертятся на двух-трех нотах, – оттого-то и пасуют они перед своими западными собратьями, воспитывающими свою речь по Легуве и Лаблашу.
Оратор беспощадно бичевал флорентийскую распущенность: бесстыдство нобилей, роняющих древние честные имена торговлей герцогскими и графскими гербами, под маскою фиктивных браков с первой встречной богатою форестьеркой, будь она раньше хоть проституткой? леность мещанства? безучастное отношение флорентинца к судьбам отечества: – лучшие люди не оценены во Флоренции и встречают в ней дурной прием.
– Я слышал, – говорил он – что флорентинцы много молятся и горды своей религиозностью Но религия не мешает, однако, Беппо, осенив себя крестным знамением, подстеречь и зарезать из-за угла беспечного форестьера, а Альфонзо – guardio di publica sicurezza (городовой) – тем временем бьет поклоны перед Мадонной вместо того, чтобы задержать улепетывающего Беппо По статистическим данным, во Флоренции больше преступлений, чем где-либо на полуострове. Нигде не встретишь такой ненаказуемости порока такого равнодушие к благу и жизни ближнего
И падре с неподражаемым юмором рассказал несколько известных всей Флоренции фактов той зимы: – как например на Piaza della Signoria в глазах городовых, зарезали человека, а стражи, чем бы ловить убийцу и помочь раненому принялись рукоплескать bravo! bravo ragazzo! ha dato una bella coltellata! {Браво, молодец! Вот так хватил.}? как обворованный иностранец не мог в течение целых трех месяцев добиться правосудия и чуть сам не угодил в тюрьму по подозрению, что украл свои же собственные вещи…
Толпа с изумлением слушала, как с церковной кафедры, с которой она привыкла слышать проклятия еретическому северу, раздались похвалы порядкам безбожной Ломбардии. Агостино ни разу не упомянул имени папы и весьма политично обходил в речи савойскую династью, но с языка его не сходили слова «Italia unita», «no tra bella cara patria» – и сколько разнообразных оттенков вливал он в эти простые слова!.. Глаза его заблистали, бледное лицо вспыхнуло румянцем, когда он произносил последнюю фразу своей проповеди: «Почтение и молитвы – церкви, всю жизнь – за отечество. Так-то!» – И, ударив рукою по пюпитру, он отрывисто сказал обычное заключительное: «amen»…
Б. был недоволен проповедью: ему хотелось чего-нибудь высокого, отвлеченного, мистического, а Агостино взял да и вывел его на шумный практически рынок т. в роде того где с давних лет сидит и льет воду из клыкатой пасти гений-покровитель Флоренции, медный кабан, с мордой, отполированной поцелуями уличных мальчишек
– Это – не проповедь, а простая «светская речь», – говорил он – он не вставил в свои слова ни одного текста, а цитировал Стеккети и Джусти упоминал о Ломброзо… Что же это за проповедь? Но сознаюсь, что после Гамбетты я не слыхал такого увлекательного оратора. Этот скромный приступ, этот величавый эпический тон, – и вдруг, как из жерла Везувия, громовый взрыв пламеннейшего лиризма, ракеты жгучих сарказмов… чисто гамбеттовский прием. При том, – что за дивный голос!
Зато, вернувшись домой, я застал синьора Альфредо с красными глазами.
Рядом с портретом Гарибальди добряк повесил уже портрет Монтефельтро
– Ну, что? – спросил я его, – как?
– Morir per quest'uomo!!! {Можно умереть за этого человека.} – получил я короткий ответ.
Но через минуту Сбольджи, что называется, прорвало начались возгласы изумления, восхищения и в заключение, даже слезы.
– Однако, он вас не похвалил! – возразил я Альфредо.
– Не стоим того – вот и не похвалил, возразил, в свою очередь, Альфредо, очень серьезным тоном. Он имеет право судить о пороках? он святой человек Вы знаете отчего он пошел в монахи? У него умерли в два дня жена и трое детей… милые бедные малютки!. Он заперся в монастыре, но скоро увидал, что наши монахи – дармоеды, и не захотел сидеть на народной шее сталь служить стране словом и делом. Вы слышали, какие загвоздки подпускал он нашим клерикалам? И он хоть бранится а любить нас. Как он восставал сегодня на наши порядки, – а первый подписался на петиции о помиловании Изидоро Стаджи и сам повез ее королю.
Изидоро быль отличный, только чересчур уже вспыльчивый малый, водовоз имевший несчастье спьяну подраться в таверне из-за какой-то девченки и зарезать своего товарища.
– Теперь в квартире у padre не пройти от простого народа – все к нему кто за советом, кто за помощью. И он со всеми беседует, никому нет отказа… Он мог бы разбогатеть от своих проповедей – ему платят, как тенору, а у него никогда ни гроша нет? зато ни один бедняк не уйдет от него без подаяния.
На другой день я, выезжая из Флоренции, встретил Padre Agostino на людной Via Calzaiuol с одним из Tortogna – членом важнейшей флорентийской фамилии нобилей… Какой-то носильщик вежливо поклонился патеру и остался с непокрытой головой, т. е. сделал знак что желает говорить.
Монтефельтро остановился, и между ними завязался живой и фамильярный разговор Тортонья терпеливо дожидался. Фаэтон мой повернул на Palazzo Vecchio, и интересная группа исчезла из моих глаз. Так Агостино и остался в моей памяти – между аристократом и оборванцем как истый представитель религии Того. Чье учение пыталось сблизить между собою во имя любви и грядущего классы, разъединенные правом и историей прошлого.
1888