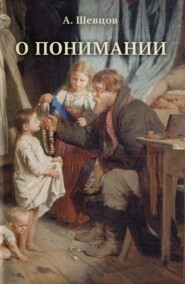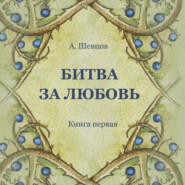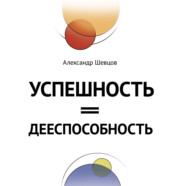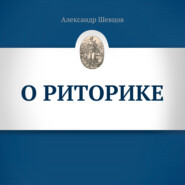По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пойди туда, не знаю куда. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То, что, попав в петлю судьбы, ты остаешься жив, не значит, что ты выжил после встречи с судьбой. Чаще мы выживаем до нее, так и не пройдя туда, где могла продолжиться твоя жизнь, которая была предназначена тебе судьбой. Если, столкнувшись с судьбой, ты не принял ее, если предназначенная судьбой, возможная жизнь так и не началась, потому что ты не смог в нее пройти, ты выжил?
Судьба ловит нас в свои ловушки, и охотник попался в ее петлю, когда прошел в будущее сквозь избушку. А мог и не пройти, не справиться, остаться в прежней жизни. А теперь он хотел невозможного – по той же петле вернуться вспять. Пройти сюда было вовсе не просто, но как войти в тот же ток судьбы еще раз?
Охотник поднялся и подошел к открытой двери избушки. Вчера он вошел в нее по серебристой дорожке ночного свечения и вышел с ружьем. Выходной след был, а входного не было. Как если у избушки был еще один точно такой же вход с другой стороны…
Он терпеливо стоял без движений, пока Бледный всадник на белом коне не проехал мимо него, и из-за дальнего леса не потекли потоки сумрака, в котором плыл черный конь Черного всадника. В этот миг разлома снова заискрились петли, и охотник твердым голосом потребовал:
– Избушка, избушка, встань по-старому, как Мать поставила!
И избушка вдруг заохала, заскрипела по-старушечьи и принялась поворачиваться. При этом ничто не менялось, не сдвинулось ни одно бревно, не упала ни одна доска, только пыль и сухой мох посыпались и закачались на волнах сумрака, сохраняя остатки тепла и света. Но словно сам мир повернулся вокруг избушки, и ее черный зев стал другим.
Вот теперь охотник знал, что ему можно войти. Он пригнулся и ступил за порог: остов белел все на том же месте, но потолок не был провалившимся, и пол из толстых плах был целым, словно Федот отмотал несколько десятков лет. Он знал, что должен попросить разрешения переночевать, протопить печь и поесть здешней еды…
Дрова лежали рядом с печкой, растопка хранилась в печурке. Стрелок развел огонь, поставил горшок с водой греться и хотел сварить остатки тетерки, но что-то остановило его, словно он оказался на краю обрыва.
Он замер, затем попятился и отошел на то место, где появилась мысль варить тетерку, а затем отступил по своему следу еще на шаг. Мысль про тетерку исчезла, и снова вернулась мысль, что надо приготовить какую-нибудь еду. Он поискал по полкам возле печи и действительно нашел немного крупы. Соли не нашел, и потому не стал добавлять в похлебку свою соль.
Сварив, он взял хозяйскую ложку и принялся есть горячую кашу. Ел вкусно, дуя на ложку и нахваливая. А когда поел, то не стал доедать дочиста, а соскреб остатки в одну кучку и вывалил их в подпечку со словами:
– Благодарю, хозяин, а вот и ты покушай со мной кашки!
Хозяину нельзя говорить спасибо, ему надо желать блага.
Ответа не было, но пришло безмолвное дозволение. Охотник залез на прогревшуюся печку, положил шапку под голову и едва смежил веки, как у входа раздалась возня, и кто-то начал ломать дверь.
Сонная оторопь взяла охотника, он лежал и не мог пошевелить ни одним членом, и ужас обволакивал его со всех сторон, ища лазейку в сокровенное нутро. А дверь неумолимо распахнулась, и кто-то большой и лохматый полез в нее, громко пыхтя и взрыкивая.
Стрелок изо всех сил пытался отогнать от себя ужас и освободиться от оторопи, но никак не мог совладать с телом. Ужас стал его давить, и подумалось, что это его смерть пришла.
Но тут из-под печи вылез навстречу темному другой, похожий, и они сцепились.
– Пусти! – рычал первый. – Я его задавлю!
– Не пущу! – отвечал ему второй. – Он все как полагается делает: ночевать попросился, еду мою ел! Не дам!
Они выкатились за порог и скрылись в темноте, треща кустами.
Движение вернулось к охотнику, он вдруг резко успокоился, как будто ничего и не было, и понял, что пришла пора идти. Слез с печки и подошел к остову колдуна попрощаться. Остов вдруг рассыпался со звоном косточек, словно пропел какое-то звучное слово.
И охотник внезапно вспомнил, что успел не только смежить веки, но и видел сон. А в том сне колдун подошел и наклонился над ним, словно он и не на печке лежал. Наклонился и долго глядел в лицо, словно ожидая, когда Федот наберет достаточно силы, чтобы услышать. А потом сказал всего одно слово: «Стром!»
И пропал…
– Стром! – вот что прозвенел остов, рассыпавшись, понял охотник. – Что за стром?
Он взял ружье, поблагодарил за ночевку и вышел за порог.
Темнота смыла с земли его сегодняшний входной след, зато серебряно светился на ее поверхности след вчерашний и вел через прогалину на моховое болото…
Стром
Луна кружится вокруг Земли и не падает… И Солнце кружится вокруг Земли, и тоже не падает… А вот звезду можно сбить метким выстрелом, и она упадет на ладонь. Это не может быть случайностью. Либо там, высоко над Землей, есть твердь, по которой светила путешествуют, либо тверди нет, но есть среда, позволяющая существовать напряжениям, которые и удерживают светила от падения…
Если есть такая среда, в ней кто-то обязательно живет, кто-то приспособился и считает ее своим миром. Среда эта невидима, стало быть, такова ее природа. Природа тех, кто в ней живет, должна ей соответствовать. Поэтому мы не видим тех, кто живет в невидимой среде. Если кого-то не видно, мы вправе выбирать, считать ли их существующими…
Впрочем, про невидимую среду и ее обитателей все ясно. Их либо нет, либо они есть, но мы можем их не замечать. Хуже, когда невидимое буквально лезет нам в глаза, а мы их отводим. Не видеть невидимое легко, не видеть видимое – искусство и, быть может, дар. Зачем этот дар человеку?
Охотник тропил свой след в пяту. После ночи в избушке и ужаса от бессилия перед приближающейся опасностью его нутро раскалилось, и он легко видел, как след плыл почти над землей в некой колышущейся среде, подобной теплому воздуху.
Жар норовил выплеснуться из него, булькая, точно во вскипевшем медном чайнике, и охотнику стоило труда перехватывать эти всплески, одновременно удерживая осознавание среды, в которой хранился след. Каждый раз, когда он ловил выплеск и заправлял его обратно, в свое нутро, его видение на мгновение блекло, а затем разгоралось еще сильнее, и он начинал видеть то ли струны, то ли морщины, ползущие от его следа куда-то за пределы свечения.
На какой-то миг они так заинтересовали его, что он упустил крошечную капельку внутреннего огня, и она упала почти на след, мгновенно пролившись по одной из морщин за пределы видимого. И там полыхнуло видением воспоминание, как волки загнали его зимней ночью на дерево, и один, подпрыгнув, ухватил за подметку сапога, прокусив кожу на ступне…
Эти морщины уходили то ли в его память, то ли в прошлое и были его переживаниями. Вглядевшись в ту боль, которая жила в прокушенной ступне, он нашел след, который пришелся на лежащий на тропе сучок. Сучок выступом вонзился в рану и вызвал боль. Охотник вспомнил, как поморщился от боли, когда наступал, и как перехватил какое-то метание сознания, возникшее при этом. Сейчас он видел, что это и была вспышка переживания. Тогда он ее не осознал, тогда все было слишком быстрым.
И он подумал, что видит сейчас не колебания воздуха вокруг следа, а само время…
Эту мысль он погнал прочь, поскольку не смог сообразить, что с нею делать. Она обиделась и улетела, оставляя за собой тонкие завихрения среды, словно следы крыльев, которые быстро таяли в воздухе. И охотник вдруг понял, что все пространство вокруг его следа заполнено не только морщинами, но и такими невидимыми завихрениями, которые почему-то не растаяли со временем.
Он остановился и стал вглядываться в одно из них, которое показалось ему мрачным. Усилием удерживая осознавание, он не позволял себе отвлечься, и завихрения отчетливо превратились в след, тянущийся куда-то прочь, в сумрак, словно уходили вглубь воды. Он протянул к нему руку, рука двигалась медленно, словно во сне, а его палец все не мог дотронуться до буруна, который оставило неведомое крыло…
А когда палец все же преодолел бесконечное это расстояние и коснулся крошечного вихря, поверхность пальца словно распахнулась, и они слились – след крыла и оболочка, бывшая его телом. И это было плохо, потому что внутрь тела рванулась волна ужаса, который испытывал охотник, когда шел прошлой ночью к избушке и слышал за спиной сопение.
А в следующее мгновение он шел по ночной тропинке, а за спиной приближалось сопение, и ужас вливался в его сокровенное тело!
– Это же только мое воспоминание! – воскликнул мысленно охотник. – Эти морщины и завихрения – это все следы моих переживаний! Они в прошлом! Они не могут быть страшными!
Но это было не воспоминание. Все повторялось, и он снова шел той же дорогой, повторяя все, что уже проделал. Как в дурном сне, который никак не кончается. И очень не захотелось охотнику повторять весь пройденный путь еще раз. Но при этом появилось искушение попробовать и посмотреть, что же получится, если пережить уже произошедшее заново. И он бы, пожалуй, пошел на это, но тут новая мысль завладела им: «А как я сюда попал?»
Он повернулся, оглядываясь: прямо за ним стоял огромный, мохнатый, больше медведя и страшней, и тянул к нему когтистую лапу! Охотник готов был испугаться, и даже увидел, как вспышка всполоха зарождается в его груди, как копящийся разряд молнии, чтобы отогнать этот ужас, но тут в пространстве справа от себя он заметил след из завихрений, которые отличались от всех остальных.
Это были какие-то живые завихрения. Непонятно было, чем они отличаются, но они отличались. Он потянулся к ним, и мохнатый начал блекнуть, словно таял.
– Я просто не хочу его видеть, – смутно подумалось у охотника, но живой след все больше овладевал его вниманием, и он не придал значения своей мысли. А когда он коснулся завихрения, тело снова взорвалось, впуская его в себя, и он перенесся обратно, туда, где все еще тянулся к следу своего переживания. Это был след его собственного перемещения в переживание!
– Учили меня старые охотники не оставлять следов… – подумал охотник, вспоминая, как убирал мусор на каждой стоянке и затаптывал костер. – А я ведь их совсем не понимал…
Он опустил руку и пошел по следу, недовольно хмыкая, когда видел, сколько же мыслей наплодил, пока шел той ночью к избушке. Почему-то ему хотелось почистить эти следы, словно прибраться на стоянке, чтобы в лесу все было чисто. Мысль эта была странной, потому что он не понимал, нужно ли это и возможно ли. Но то, что надо научиться не оставлять после себя следов, он понял точно: «Если я могу их видеть, сколько же людей может меня выследить? И прочитать меня!» – вдруг добавилось словно само.
Но вслед за этим пришло удивление от того, что ему так важно быть невидимым, и пока он его разглядывал, появилась поляна, на которой день назад шишки водили хоровод.
Поляна была пуста, если не считать огромного дерева, которое стояло посредине. Этого дерева определенно не было здесь раньше, но как может появиться дерево?! – усомнился в себе охотник, подозревая, что что-то путает. Однако сомнение осталось и усилилось, когда он подошел ближе: след уходил под дерево!
– Началось! – понял он и, не приближаясь, обошел дерево кругом. След шел под него и не выходил…Поляна была пуста и тиха, словно никакой живности не осталось в округе. Охотник снял ружье и обвел всю поляну, глядя через мушку, но и ружье не шевельнулось ни разу, и даже словно зевнуло со скуки.
Однако, когда он, продолжая круговое движение, подвел его к дереву, ружье вдруг ожило и словно заметалось. Оно чуяло что-то, но что и где, разглядеть не могло: то приближало ствол, то искало в кроне, то пыталось заглянуть под комель и ничего не находило.
– Эге! – подумал охотник. – Да ты не простое деревцо!