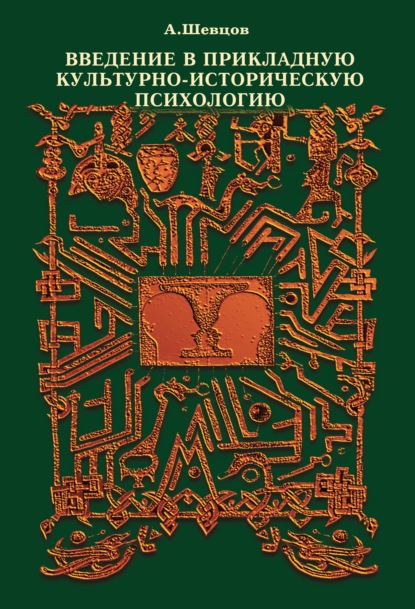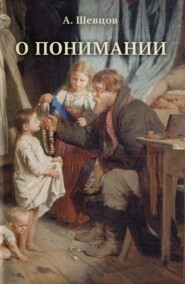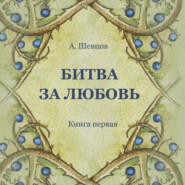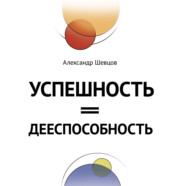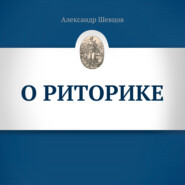По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в прикладную культурно-историческую психологию
Год написания книги
2000
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В изначальном смысле слова – некая субстанция (вода, воздух, огонь или земля в античной философии) или закон (дао в древнекитайской философии), которые лежат в основе мироздания и из которых можно объяснять все существующее.
Первым подобное представление о принципе (назвав его “архэ”) ввел Анаксимандр, увидевший подобное начало в “беспредельном, безграничном, бесконечном” апейроне. Для Аристотеля принцип – это первопричина, для Декарта – самоочевидная основа всякого мышления и познания (“мыслю, следовательно, существую”), для Канта – конститутивные и регулятивные правила “чистого разума”, для Д.Мура (“Принципы этики”) – методология этических исследований».
Не буду повторяться, что Суворов просто не смог выдержать строгое рассуждение – возможно, было слишком мало места, чтобы говорить точно. Но скорей, это признак не его, а общей для философов слабинки: они играют во внутренние игры сообщества. Эта болезнь началась с попытки Аристотеля создать под именем логики науку не о том, что есть, а о том, как надо правильно думать, чтобы в замкнутом мирке и ограниченных условиях суметь строить строгие, почти математические рассуждения.
Вот с тех пор философы и строят способы рассуждать, присваивая обычным словам свои значения, чтобы однажды создать строгий язык рассуждений. В итоге же это повело к тому, что мы и видим: к распущенности в отношении значений тех слов, что используются, в произвольном навязывании словам обычного языка собственных значений и потере строгости и точности рассуждения.
Если уж Анаксимандр говорил об архэ, так он говорил об архэ, а не о принципе. И это лишь последующие философы «так поняли» Анаксимандра, а заодно и Дао, что там речь идет о принципах. А значит, должны были постоянно добавлять: как мы сейчас понимаем, архэ Анаксимандра можно перевести словом «принцип». Перевести-то можно, вот только на какой язык?
И если этот вопрос появится, то станет ясно, что переводят философы на некий философский эсперанто – урезанный и усредненный язык европейского философского сообщества, который не передает действительных смыслов исходных языков, зато позволяет философам хоть как-то общаться между собой…Философам, не нам!
Тем не менее, статейка Суворова очень показательна. По ней видно, как в том сообществе, что правило умами европейцев последние четыре века, развивалось понятие о принципе: от древних греков, особенно Аристотеля, к Декарту, от него к немцам, а потом американцам. Вот кто правил умами в разные эпохи. К сожалению, пропущен Джон Локк, то есть англичане. Он немало внес в развитие этого понятия.
Чтобы опуститься в то время, когда философское сообщество вырабатывало свои понятия о принципах, приведу определение Радлова из его словаря вековой давности. Он звучит уже не так, как современные философы, хотя многое будет узнаваемо и узнаваемо именно в археологическом смысле.
«Принцип (princi pium, архэ – начало, или н а ч а л о – обозначает основание какого-либо реального или мыслительного процесса (princi pia essendi и princi pia cognoscendi). В первом значении принцип есть первопричина, во втором – первооснова. Так для мистика Бог есть принцип бытия, для материалиста – материя или атомы, для идеалиста – идеи или монады.
В познавательном отношении принципом называется первая посылка, из которой проистекают выводы, и основание, на котором они покоятся. Так законы логики суть формальные принципы рассуждения, а законы бытия – материальные принципы.
Законы этические суть практические принципы, в отличие от теоретических. Уже в греческой философии понятие принципа (архэ) имело это двойное значение, ибо им пользовались в значении первоначала во времени (откуда все произошло) и начала бытия (из чего все произошло)».
Как видите, у культуры философского произвола существует длительная традиция: принято считать архэ принципом, и что об этом распинаться! Архэ же начало начал, потому что те, кто использовал это слово, были философами. А вот то, что первобытная культура вся исходила из понятия Первоначал или Первообразов, этого философы знать не хотят, потому что тогда придется признать, что тот же Анаксимандр не придумал ничего философического, а просто использовал народное понятие…
Ну, да бог с ней, с узостью мышления сообщества. Сообщества – парни простые, они пекутся только о своем выживании и потому грубы и прямолинейны. Им проще, как детям, присваивать то, что понравилось, и бить тех, кто этому сопротивляется.
Тем не менее, в статье Радлова еще ярче проступила история понятия: в ней видно не только картезианство, но появляется и Лейбниц с его монадами. Видно и все то же наивное хамство дитяти, который закрывает глаза ладошкой и говорит: если я тебя не вижу, значит, тебя нет! Каким образом первая посылка, из которой проистекают выводы, стала не способом рассуждать, а способом познания?
Только одним: так считал Декарт и все его последователи. Им казалось, что они вершина прогресса, и то, как они рассуждают о чем-то, что им казалось действительностью, и есть познание действительности. Это льстило самолюбию и льстит ему во всех последующих коленах философского семейства. Отсюда и психологи относят к познанию множество действий, вроде мышления и памяти.
Но разве способность рассуждать является познавательной? Разве ребенок, который в раннем детстве обладает наивысшей способностью к познанию и действительно познает мир так, как и не снилось нашим мудрецам, рассуждает?
Рассуждение обретается философом как знак качества и преодоления именно детства. Иными словами, обретение способности философского рассуждения – это знак того, что человек разучился познавать…
Но в сторону! Пока важно лишь то, как мы обретали наше понятие о принципах.
Глава 3
Принципы Декарта
Выражения «мои принципы», «принципиальность» и им подобные, как и выражение «идеал», значительно ослабло в последние десятилетия. Им меньше пользуются, быть принципиальным стало не модно. Новое поколение русских людей вообще не признает идеалов и не слишком зависит от принципов. Это ответ на излишнюю идеологизацию общества в советскую эпоху, когда идеалы и принципы правили нашим поведением.
Однако ослабление каких-то разговорных выражений, потеря ими силы и действенности вовсе не значит, что ушли и понятия, скрывающиеся под этими именами. Мы просто их не умеем видеть. Даже проведя понятийное исследование, я так и не смог еще определенно показать, что же имелось в виду под словом «идеал». Точно так же психологические, языковедческие и философские определения слова «принцип» не раскрывают скрывающегося за ним понятия и устройства сознания, которое обеспечивает его работу.
Чтобы действительно понять, что это и как оно действует, надо бы от простонаучного «принципа» идти к латинскому «princi pium», от него к греческому «архэ», а от архэ – к первобытному мифу о Вечном возвращении. Но это если я хочу понять себя. А я пока хочу понять, что же скрывается под именем «принцип» в той культуре, которая захватила Россию с середины девятнадцатого века. Иными словами, о чем кричит Кавелин, когда пишет, что революционно-демократическая свора использует слово «принципы» неверно.
Поэтому я вынужден ограничить себя рамками той эпохи, которая создала это имя для древнего понятия. А эпоху эту можно назвать Новым временем, а можно Научной революцией. И начинается она с той поры, когда Рене Декарт пишет основания для нового способа рассуждать, которые и становятся принципами нового европейского мышления. Пишет он их, отнюдь не продолжая Аристотелевский способ говорить об архэ, а как раз наоборот, воюя с профессорами-аристотеликами.
В сущности, это была та самая война детей против отцов, что описал Тургенев. Декарта отдавали учиться в иезуитский колледж, и он, как Володя Ульянов, обиделся и решил идти другим путем. В итоге он перевернул мир. Значит, ему удалось найти очень действенную точку опоры.
С нравственной стороны суть его метода заключалась в том, что он не хотел говорить так, как предписывали отцы-иезуиты и вся прежняя профессура, сжигавшая, пытавшая и унижавшая любое свободомыслие. Декарт сбежал в Амстердам, который, благодаря протестантской реформации, был только рад любым нападкам на католичество, и оттуда предложил новую моду говорить о мире. Декарт еще верил в бога, но очень скоро его способ привел к «отказу от этой гипотезы», как и от «гипотезы души», и свержению власти Церкви. Завершается он Великой французской революцией 1789 года и Великой Октябрьской революцией 1917 года.
Вторая важнейшая – нравственная – составляющая метода Декарта заключалась в его безнравственности. Объявив задачей Науки чистый поиск истины, молодые приверженцы Науки тем самым заявляют: нас не интересует нравственная сторона собственных поступков, мы – объективны! Что значит, если вдуматься: мы не субъективны, то есть мы целиком воплощенный метод, у которого нет души и который не более чем рассуждающий автомат, и поэтому нам нечем чувствовать и стыдиться. И не смейте предъявлять к нам человеческие требования, как было во времена господства души.
Так рождаются «горние стрелки» – егерские части Науки, отстреливающие то, что летает выше, чем могут наши тела, в первую очередь, – души.
Вот это и было воплощено в Декартовом методе и, следовательно, и было главным в его понимании принципов. По крайней мере, его сочинения повели к этому, и значит, подобный итог был заложен в исходных посылках. Поэтому я и предупреждаю о том, что его надо помнить, когда читаешь такие невинные на вид строки Декарта о том, как надо искать истину…
Итак, Декарт написал два главных сочинения, в которых излагает и свой метод и рассуждает о принципах. Это «Правила для руководства ума» и «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». «Рассуждение о методе» было издано Декартом в 1637 году. «Правила для руководства ума» он так и не издал при жизни, хотя писать начал, возможно, еще раньше «Рассуждения о методе».
Именно в «Правилах» Декарт и излагает свое понятие о принципе, которое будет так или иначе заимствовано и переосмыслено последующими европейскими философами. Чтобы понять это «понятие», нужно посмотреть, зачем Декарт его дает. Это становится ясно из Первого правила, которое гласит:
«Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются» (Декарт, Правила… с.78).
Вот предыстория определения принципа. У этой предыстории ощущается своя предыстория, звучит она примерно так: я больше не хочу ничему верить! Старый способ жить по вере больше не пригоден, его нужно заменить на новый. В новом править будет наука, а ценностью будет истина, добытая моим умом, значит, моим рассуждением. Для этого придется обучить ум выносить суждения таким образом, чтобы они не вызывали сомнения за счет очевидности, а способ их вынесения был бы весь доступен проверке разума.
Последнее вытекает из Первого правила и будет сказано Декартом чуть позже. К примеру, в «Правиле втором» он делает движение к очевидности как главному мерилу научной истины:
«Нужно заниматься только теми предметами, о которых наши умы очевидно способны достичь достоверного и несомнительного знания» (Там же, с.79).
Последующие философы много говорили о несомненности и достоверности научного знания, почему-то упуская, что такое очевидность. Не могу говорить совершенно уверенно, но в рамках моего образования я не в силах вспомнить исследования, посвященного очевидности. Хуже того, я помню слишком много борьбы философов с психологизмом, которая отсекает саму возможность исследовать очевидность, поскольку этот способ проверки достоверности исключительно психологический.
Между тем, в самой ткани рассуждений Декарта постоянно сквозит зависимость от того, что неистинность надо «видеть очами»:
«А всякий раз, когда суждения двух людей об одной и той же вещи оказываются противоположными, ясно, что по крайней мере один из них заблуждается или даже не один из них…» (Там же, с.80).
Это «ясно» – всего лишь условность, из которой Декарт и последующие логики будут исходить, создавая свои способы «непротиворечивого» рассуждения. В нем сквозит механичность, которая в действительности является приверженностью все к тем же математике и логике Платона и Аристотеля. Как испокон веку кажется философам, математика – единственная точная наука, а в логике можно достичь условий, в которых хоть что-то будет точным и определенным, когда мы говорим…
В итоге оба спорщика оказываются для Декарта ошибающимися, а для психолога оказались бы оба правыми…Психолог смотрит на то, в чем образы говорящего соответствуют действительности, а в чем нет, поскольку наши знания о мире никогда не полны, но постоянно уточняются. А для Декарта и философов, живущих в черно-белом мире математических и логических абстракций: если высказывание нельзя приравнять к математической формуле, вроде дважды два четыре, то оно и неверно. А поскольку почти во всех высказываниях людей есть доля неточности, то для Декарта скорее все ошибаются, чем кто-то прав…
Вся эта научная революция описана Гете в одном знаменитом высказывании: поверить алгеброй гармонию… Все научные Фаустусы до сих пор пытаются вскрыть природу, как консервную банку, не замечая, что вокруг того места, в которое они уперлись, раскрыто бесконечное число приглашающих нас дверей…
Но, как бы там ни было, Декарт болеет оттого, что люди заблуждаются. Ему надо найти способ, каким можно будет собирать верные суждения. И он уже в объяснениях Второго правила приходит к важности того, что будет названо дальше принципом – к важности основания, из которого разворачивается рассуждение:
«Действительно, любое заблуждение, в которое могут впасть люди (я говорю о них, а не о животных), никогда не проистекает из неверного вывода, но только из того, что они полагаются на некоторые малопонятные данные опыта или выносят суждения опрометчиво и безосновательно.
Из этого очевидным образом выводится, почему арифметика и геометрия пребывают гораздо более достоверными, чем другие дисциплины, а именно поскольку лишь они одни занимаются предметом столь чистым и простым, что не предполагают совершенно ничего из того, что опыт привнес бы недостоверного, но целиком состоит в разумно выводимых заключениях» (Там же, с. 81–82).
Что называется, приплыли!
Чтобы навязать всему человечеству зависимость от математического языка, Декарт идет на явную подтасовку, утверждая, что заблуждения наши никогда не могут происходить от неверных выводов. В бытовом смысле мы бесконечно часто делаем неверные выводы, и даже животные их делают. К примеру, если хозяин начинает странно плясать перед своей собакой, она лает на него, делая вывод, что это кто-то чужой, поскольку хозяин так себя вести не может… При этом глаза собачьи видят хозяина, данные опыта верны…
Но Декарт говорит не о том, что есть в жизни и действительности. Он уже внутри своей математичности, а там вывод делается так, как предписано правилами, и значит, в выводе там ошибиться невозможно. Не в том смысле, что вывод не может быть неверным, а в том, что нельзя неверно производить само выводящее действие – в шутку сказать, нельзя ошибиться, произнося слова: из этого следует вывод!
Из этого рассуждения Декарта были два пути: можно было изучить, как люди ошибаются и в рассуждениях и в выводах, а можно было уйти в логичность и навязать: чтобы не ошибаться, всегда будем действовать так, как договоримся. Для чего и создадим всеобщий договор ученых по имени Научный метод.
Последнее оказалось проще и заманчивей, чем изучение действительности. И это звучит в Правиле третьем:
«Касательно обсуждаемых предметов следует отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмотреть или достоверным образом вывести, ибо знание не приобретается иначе» (Там же, с.82).
Первым подобное представление о принципе (назвав его “архэ”) ввел Анаксимандр, увидевший подобное начало в “беспредельном, безграничном, бесконечном” апейроне. Для Аристотеля принцип – это первопричина, для Декарта – самоочевидная основа всякого мышления и познания (“мыслю, следовательно, существую”), для Канта – конститутивные и регулятивные правила “чистого разума”, для Д.Мура (“Принципы этики”) – методология этических исследований».
Не буду повторяться, что Суворов просто не смог выдержать строгое рассуждение – возможно, было слишком мало места, чтобы говорить точно. Но скорей, это признак не его, а общей для философов слабинки: они играют во внутренние игры сообщества. Эта болезнь началась с попытки Аристотеля создать под именем логики науку не о том, что есть, а о том, как надо правильно думать, чтобы в замкнутом мирке и ограниченных условиях суметь строить строгие, почти математические рассуждения.
Вот с тех пор философы и строят способы рассуждать, присваивая обычным словам свои значения, чтобы однажды создать строгий язык рассуждений. В итоге же это повело к тому, что мы и видим: к распущенности в отношении значений тех слов, что используются, в произвольном навязывании словам обычного языка собственных значений и потере строгости и точности рассуждения.
Если уж Анаксимандр говорил об архэ, так он говорил об архэ, а не о принципе. И это лишь последующие философы «так поняли» Анаксимандра, а заодно и Дао, что там речь идет о принципах. А значит, должны были постоянно добавлять: как мы сейчас понимаем, архэ Анаксимандра можно перевести словом «принцип». Перевести-то можно, вот только на какой язык?
И если этот вопрос появится, то станет ясно, что переводят философы на некий философский эсперанто – урезанный и усредненный язык европейского философского сообщества, который не передает действительных смыслов исходных языков, зато позволяет философам хоть как-то общаться между собой…Философам, не нам!
Тем не менее, статейка Суворова очень показательна. По ней видно, как в том сообществе, что правило умами европейцев последние четыре века, развивалось понятие о принципе: от древних греков, особенно Аристотеля, к Декарту, от него к немцам, а потом американцам. Вот кто правил умами в разные эпохи. К сожалению, пропущен Джон Локк, то есть англичане. Он немало внес в развитие этого понятия.
Чтобы опуститься в то время, когда философское сообщество вырабатывало свои понятия о принципах, приведу определение Радлова из его словаря вековой давности. Он звучит уже не так, как современные философы, хотя многое будет узнаваемо и узнаваемо именно в археологическом смысле.
«Принцип (princi pium, архэ – начало, или н а ч а л о – обозначает основание какого-либо реального или мыслительного процесса (princi pia essendi и princi pia cognoscendi). В первом значении принцип есть первопричина, во втором – первооснова. Так для мистика Бог есть принцип бытия, для материалиста – материя или атомы, для идеалиста – идеи или монады.
В познавательном отношении принципом называется первая посылка, из которой проистекают выводы, и основание, на котором они покоятся. Так законы логики суть формальные принципы рассуждения, а законы бытия – материальные принципы.
Законы этические суть практические принципы, в отличие от теоретических. Уже в греческой философии понятие принципа (архэ) имело это двойное значение, ибо им пользовались в значении первоначала во времени (откуда все произошло) и начала бытия (из чего все произошло)».
Как видите, у культуры философского произвола существует длительная традиция: принято считать архэ принципом, и что об этом распинаться! Архэ же начало начал, потому что те, кто использовал это слово, были философами. А вот то, что первобытная культура вся исходила из понятия Первоначал или Первообразов, этого философы знать не хотят, потому что тогда придется признать, что тот же Анаксимандр не придумал ничего философического, а просто использовал народное понятие…
Ну, да бог с ней, с узостью мышления сообщества. Сообщества – парни простые, они пекутся только о своем выживании и потому грубы и прямолинейны. Им проще, как детям, присваивать то, что понравилось, и бить тех, кто этому сопротивляется.
Тем не менее, в статье Радлова еще ярче проступила история понятия: в ней видно не только картезианство, но появляется и Лейбниц с его монадами. Видно и все то же наивное хамство дитяти, который закрывает глаза ладошкой и говорит: если я тебя не вижу, значит, тебя нет! Каким образом первая посылка, из которой проистекают выводы, стала не способом рассуждать, а способом познания?
Только одним: так считал Декарт и все его последователи. Им казалось, что они вершина прогресса, и то, как они рассуждают о чем-то, что им казалось действительностью, и есть познание действительности. Это льстило самолюбию и льстит ему во всех последующих коленах философского семейства. Отсюда и психологи относят к познанию множество действий, вроде мышления и памяти.
Но разве способность рассуждать является познавательной? Разве ребенок, который в раннем детстве обладает наивысшей способностью к познанию и действительно познает мир так, как и не снилось нашим мудрецам, рассуждает?
Рассуждение обретается философом как знак качества и преодоления именно детства. Иными словами, обретение способности философского рассуждения – это знак того, что человек разучился познавать…
Но в сторону! Пока важно лишь то, как мы обретали наше понятие о принципах.
Глава 3
Принципы Декарта
Выражения «мои принципы», «принципиальность» и им подобные, как и выражение «идеал», значительно ослабло в последние десятилетия. Им меньше пользуются, быть принципиальным стало не модно. Новое поколение русских людей вообще не признает идеалов и не слишком зависит от принципов. Это ответ на излишнюю идеологизацию общества в советскую эпоху, когда идеалы и принципы правили нашим поведением.
Однако ослабление каких-то разговорных выражений, потеря ими силы и действенности вовсе не значит, что ушли и понятия, скрывающиеся под этими именами. Мы просто их не умеем видеть. Даже проведя понятийное исследование, я так и не смог еще определенно показать, что же имелось в виду под словом «идеал». Точно так же психологические, языковедческие и философские определения слова «принцип» не раскрывают скрывающегося за ним понятия и устройства сознания, которое обеспечивает его работу.
Чтобы действительно понять, что это и как оно действует, надо бы от простонаучного «принципа» идти к латинскому «princi pium», от него к греческому «архэ», а от архэ – к первобытному мифу о Вечном возвращении. Но это если я хочу понять себя. А я пока хочу понять, что же скрывается под именем «принцип» в той культуре, которая захватила Россию с середины девятнадцатого века. Иными словами, о чем кричит Кавелин, когда пишет, что революционно-демократическая свора использует слово «принципы» неверно.
Поэтому я вынужден ограничить себя рамками той эпохи, которая создала это имя для древнего понятия. А эпоху эту можно назвать Новым временем, а можно Научной революцией. И начинается она с той поры, когда Рене Декарт пишет основания для нового способа рассуждать, которые и становятся принципами нового европейского мышления. Пишет он их, отнюдь не продолжая Аристотелевский способ говорить об архэ, а как раз наоборот, воюя с профессорами-аристотеликами.
В сущности, это была та самая война детей против отцов, что описал Тургенев. Декарта отдавали учиться в иезуитский колледж, и он, как Володя Ульянов, обиделся и решил идти другим путем. В итоге он перевернул мир. Значит, ему удалось найти очень действенную точку опоры.
С нравственной стороны суть его метода заключалась в том, что он не хотел говорить так, как предписывали отцы-иезуиты и вся прежняя профессура, сжигавшая, пытавшая и унижавшая любое свободомыслие. Декарт сбежал в Амстердам, который, благодаря протестантской реформации, был только рад любым нападкам на католичество, и оттуда предложил новую моду говорить о мире. Декарт еще верил в бога, но очень скоро его способ привел к «отказу от этой гипотезы», как и от «гипотезы души», и свержению власти Церкви. Завершается он Великой французской революцией 1789 года и Великой Октябрьской революцией 1917 года.
Вторая важнейшая – нравственная – составляющая метода Декарта заключалась в его безнравственности. Объявив задачей Науки чистый поиск истины, молодые приверженцы Науки тем самым заявляют: нас не интересует нравственная сторона собственных поступков, мы – объективны! Что значит, если вдуматься: мы не субъективны, то есть мы целиком воплощенный метод, у которого нет души и который не более чем рассуждающий автомат, и поэтому нам нечем чувствовать и стыдиться. И не смейте предъявлять к нам человеческие требования, как было во времена господства души.
Так рождаются «горние стрелки» – егерские части Науки, отстреливающие то, что летает выше, чем могут наши тела, в первую очередь, – души.
Вот это и было воплощено в Декартовом методе и, следовательно, и было главным в его понимании принципов. По крайней мере, его сочинения повели к этому, и значит, подобный итог был заложен в исходных посылках. Поэтому я и предупреждаю о том, что его надо помнить, когда читаешь такие невинные на вид строки Декарта о том, как надо искать истину…
Итак, Декарт написал два главных сочинения, в которых излагает и свой метод и рассуждает о принципах. Это «Правила для руководства ума» и «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». «Рассуждение о методе» было издано Декартом в 1637 году. «Правила для руководства ума» он так и не издал при жизни, хотя писать начал, возможно, еще раньше «Рассуждения о методе».
Именно в «Правилах» Декарт и излагает свое понятие о принципе, которое будет так или иначе заимствовано и переосмыслено последующими европейскими философами. Чтобы понять это «понятие», нужно посмотреть, зачем Декарт его дает. Это становится ясно из Первого правила, которое гласит:
«Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются» (Декарт, Правила… с.78).
Вот предыстория определения принципа. У этой предыстории ощущается своя предыстория, звучит она примерно так: я больше не хочу ничему верить! Старый способ жить по вере больше не пригоден, его нужно заменить на новый. В новом править будет наука, а ценностью будет истина, добытая моим умом, значит, моим рассуждением. Для этого придется обучить ум выносить суждения таким образом, чтобы они не вызывали сомнения за счет очевидности, а способ их вынесения был бы весь доступен проверке разума.
Последнее вытекает из Первого правила и будет сказано Декартом чуть позже. К примеру, в «Правиле втором» он делает движение к очевидности как главному мерилу научной истины:
«Нужно заниматься только теми предметами, о которых наши умы очевидно способны достичь достоверного и несомнительного знания» (Там же, с.79).
Последующие философы много говорили о несомненности и достоверности научного знания, почему-то упуская, что такое очевидность. Не могу говорить совершенно уверенно, но в рамках моего образования я не в силах вспомнить исследования, посвященного очевидности. Хуже того, я помню слишком много борьбы философов с психологизмом, которая отсекает саму возможность исследовать очевидность, поскольку этот способ проверки достоверности исключительно психологический.
Между тем, в самой ткани рассуждений Декарта постоянно сквозит зависимость от того, что неистинность надо «видеть очами»:
«А всякий раз, когда суждения двух людей об одной и той же вещи оказываются противоположными, ясно, что по крайней мере один из них заблуждается или даже не один из них…» (Там же, с.80).
Это «ясно» – всего лишь условность, из которой Декарт и последующие логики будут исходить, создавая свои способы «непротиворечивого» рассуждения. В нем сквозит механичность, которая в действительности является приверженностью все к тем же математике и логике Платона и Аристотеля. Как испокон веку кажется философам, математика – единственная точная наука, а в логике можно достичь условий, в которых хоть что-то будет точным и определенным, когда мы говорим…
В итоге оба спорщика оказываются для Декарта ошибающимися, а для психолога оказались бы оба правыми…Психолог смотрит на то, в чем образы говорящего соответствуют действительности, а в чем нет, поскольку наши знания о мире никогда не полны, но постоянно уточняются. А для Декарта и философов, живущих в черно-белом мире математических и логических абстракций: если высказывание нельзя приравнять к математической формуле, вроде дважды два четыре, то оно и неверно. А поскольку почти во всех высказываниях людей есть доля неточности, то для Декарта скорее все ошибаются, чем кто-то прав…
Вся эта научная революция описана Гете в одном знаменитом высказывании: поверить алгеброй гармонию… Все научные Фаустусы до сих пор пытаются вскрыть природу, как консервную банку, не замечая, что вокруг того места, в которое они уперлись, раскрыто бесконечное число приглашающих нас дверей…
Но, как бы там ни было, Декарт болеет оттого, что люди заблуждаются. Ему надо найти способ, каким можно будет собирать верные суждения. И он уже в объяснениях Второго правила приходит к важности того, что будет названо дальше принципом – к важности основания, из которого разворачивается рассуждение:
«Действительно, любое заблуждение, в которое могут впасть люди (я говорю о них, а не о животных), никогда не проистекает из неверного вывода, но только из того, что они полагаются на некоторые малопонятные данные опыта или выносят суждения опрометчиво и безосновательно.
Из этого очевидным образом выводится, почему арифметика и геометрия пребывают гораздо более достоверными, чем другие дисциплины, а именно поскольку лишь они одни занимаются предметом столь чистым и простым, что не предполагают совершенно ничего из того, что опыт привнес бы недостоверного, но целиком состоит в разумно выводимых заключениях» (Там же, с. 81–82).
Что называется, приплыли!
Чтобы навязать всему человечеству зависимость от математического языка, Декарт идет на явную подтасовку, утверждая, что заблуждения наши никогда не могут происходить от неверных выводов. В бытовом смысле мы бесконечно часто делаем неверные выводы, и даже животные их делают. К примеру, если хозяин начинает странно плясать перед своей собакой, она лает на него, делая вывод, что это кто-то чужой, поскольку хозяин так себя вести не может… При этом глаза собачьи видят хозяина, данные опыта верны…
Но Декарт говорит не о том, что есть в жизни и действительности. Он уже внутри своей математичности, а там вывод делается так, как предписано правилами, и значит, в выводе там ошибиться невозможно. Не в том смысле, что вывод не может быть неверным, а в том, что нельзя неверно производить само выводящее действие – в шутку сказать, нельзя ошибиться, произнося слова: из этого следует вывод!
Из этого рассуждения Декарта были два пути: можно было изучить, как люди ошибаются и в рассуждениях и в выводах, а можно было уйти в логичность и навязать: чтобы не ошибаться, всегда будем действовать так, как договоримся. Для чего и создадим всеобщий договор ученых по имени Научный метод.
Последнее оказалось проще и заманчивей, чем изучение действительности. И это звучит в Правиле третьем:
«Касательно обсуждаемых предметов следует отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмотреть или достоверным образом вывести, ибо знание не приобретается иначе» (Там же, с.82).