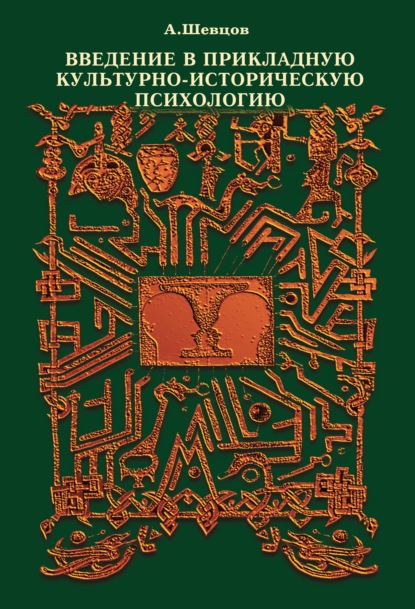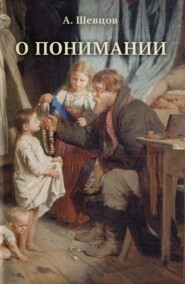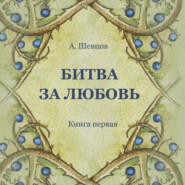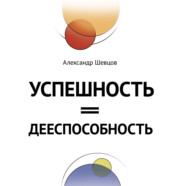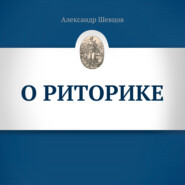По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в прикладную культурно-историческую психологию
Год написания книги
2000
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это первое упоминание Кантом идеала. Я его привожу, хотя понимаю, что понять что-то из этого определения невозможно. Но все остальное вытекает из него:
«Человечество, взятое в своем совершенстве, содержит в себе не только расширение всех присущих такой природе и входящих в наше понятие о нем существенных свойств вплоть до полного совпадения их с их целями, что было бы нашей идеей совершенного человечества, но и заключает в себе все, что кроме этого понятия необходимо для полного определения идеи; в самом деле, из всех противоположных предикатов только один подходит к идее наиболее совершенного человека.
То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении» (Там же).
Мудреное изложение Канта, однако, можно слегка упростить, если разделить на понятийные слои. Первый из них – это слой культуры, содержащий все проявления или черты того, что мы называем идеалом человека. Существует некий платонический идеал или нет, но путей его познания только два: либо мы его помним врожденно, либо собираем из черт, наблюдая за тем, что есть в жизни. А в жизни есть все, что мы знаем и что нам необходимо, чтобы создать понятие об идеале. В жизни или в культуре.
При этом, как прикладник, я могу задать себе вопрос, с которого начиналась главная битва европейской философии: помню ли я что-то из предшествовавшей воплощению жизни души? Иначе: помню ли я что-то до опыта? И ответ будет очень Локковский: осознанно я ничего не помню. Так ощущает себя обычный человек.
Я выходил из тела, поэтому я знаю: такие воспоминания есть, даже если мы не можем их осознавать. Этому надо учиться. Но это мое знание ничего не значит для тех, кто знает себя только телом. Поэтому они должны будут либо поверить мне на слово, либо исследовать себя, исходя из данных своего опыта. И даже если они знали, что такое идеал, еще до воплощения, в этой жизни они создавали себе это понятие, наполняя его чертами, взятыми из наблюдений. И убеждены, что именно так и рождалось их понятие идеала.
При этом, осознаем мы это или нет, но душа наша стремится к идеалу, заставляя нас совершать определенные поступки, которые и воплощаются в те самые проявления, что мы наблюдаем в жизни. Иначе говоря, верю я в доопытное знание или нет, но то, что я собираю свое понятие об идеале по наблюдениям, вовсе не доказывает, что так это понятие и рождается. Так оно лишь проявляется, наполняясь образами из жизни. И поэтому кажется подобным тем понятиям, что мы познаем впервые.
Вот эту разницу надо понять: душе дано что-то познавать только на земле, а что-то она знает из доземного существования. И значит это то, что у нас есть понятия двух видов: одни – рожденные здесь, созданные душой по мере обретения опыта, а вторые – древние, принесенные из мира душ, лишь заполненные земным содержанием, как плотью.
При этом мы осознаем их сначала лишь по самым грубым их проявлениям, – так проще! И поэтому мы видим вначале лишь, условно говоря, «плоть» таких понятий, то есть то, что набрали в земной жизни как их черты. И очень плохо осознаем присутствие за этой «плотью» тех тончайших образов, которые, после Платона, называют идеями или эйдосами. Для того чтобы их видеть, нужна немалая работа, обучающая наш ум этому тонкому видению. Весь подвиг Канта как раз в том и состоит, что он работал над своей способностью видеть сквозь плоть земных образов.
И вот когда он задумывается о том, почему же мы не видим то, что принесла душа как воспоминание о Том мире, он вынужден отсекать слой за слоем земные образы, заполняющие тонкие тела идей, и обнаруживает, что их неимоверно много. Почти все, что мы могли бы посчитать божественным или небесным, на деле оказывается лишь людскими представлениями о божественном и небесном…Почти все, из чего мы состоим, душа обрела уже здесь…
Поэтому Кант задается вопросом: а что она не могла обрести здесь? И приходит к выводу, что это даже не воспоминания, а, скорей, состояния, которые ей присущи, в частности, состояние чистого разума. Вот поэтому появляется при определении идеала упоминание Платоновской «идеи божественного рассудка», Логоса или Нуса:
«То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении».
Разум Божества, который созерцает миры и все вещи мира, тем самым творя их…
Является ли это действительностью, или же это лишь еще одно представление, даже предположение о том, как возможен мир? Кант не случайно ссылается на Платона, оставляя тому отвечать за этот образ. Сам же он говорит о том, что у нас достаточно средств, чтобы судить об этом, не убегая от той действительности, что мы имеем:
«Не забираясь так далеко, мы должны, однако, признать, что человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и идеалы, которые, правда, не имеют в отличие от платоновских творческой силы, но все же обладают практической силой (как регулятивные принципы) и лежат в основе возможности совершенства определенных поступков.
Моральные понятия – это не вполне чистые понятия разума, так как в основе их лежит нечто эмпирическое (удовольствие или неудовольствие)» (Там же).
Не вполне чистые понятия разума означает в данном случае то, что это не чистые воспоминания из того мира, где живут идеи. Моральные понятия всегда связаны с представлениями людей об этом мире, о теле и телесной жизни, о жизни общества. И это очень точное наблюдение, которое невозможно оспорить, в отличие от всей остальной философии Канта. Да, действительность такова: некие наши представления воздействуют на наши поступки и определяют поведение. И зовутся они идеалами.
Поэтому очень важно будет внести уточнение в определение идеала. Идеал, безусловно, как слово, производен от идеи. Идея или эйдос – древнегреческие слова, означавшие всего лишь вид или образ, но в осмыслении Сократа и Платона, обретшие значение Первообразов, образов, в которых Божественный Разум, Нус созерцает мироздание. В силу этого идеи – очень чистые образы, еще не имеющие никаких следов воплощенности.
Идеалы – это идеи, погрузившиеся в плотность нашего мира, это идеи, которые уже отягощены вещественностью или телесностью. Они не могут существовать, не имея черт, заимствованных от тел или вещей, но при этом они не могут существовать и без той части, что идеальна, то есть делает их идеями. Поэтому идеалы – это всегда пути или ворота в тот мир, из которого пришли наши души, пути на Небеса.
И они как раз то, что мы помним, не осознавая… Помним до опыта и без опыта. Именно поэтому они и втягивают нас в себя…
Глава 5
Идеалы Кавелина
Итак, основная мысль «Задач этики» в отношении идеалов была следующей:
«Тот же взгляд проливает яркий свет на происхождение и значение идеальных стремлений людей. Отрицать их нельзя; вычеркнуть их из человеческой природы невозможно…
От идеализма люди никак не могут отделаться, потому что он лежит в их природе. Надо эту способность понять и извлечь из нее для человечества возможную пользу, направляя ее и парализуя приносимый ею вред» (Кавелин, Задачи этики, с.915).
Благодаря ей мы смогли обратиться к Канту и понять, что слово «идеалы», хоть и является иностранным – французским – по происхождению, но несет в себе какое-то вполне доступное нам понятие, которое происходит от греческого, точнее, платонического понятия идеи. И даже если мы не принимаем платонизм, считая его не соответствующим действительности, это никак не отменяет того, что многие его понятия живут и тысячелетиями правят умами и поведением людей. Поэтому мы не можем от них отмахиваться.
Платоническое же понимание идей и эйдосов относится к тому, что мы называем Миром души, а Платон называл Небесами. Существуют ли Небеса, или это всего лишь допущение, что есть Место, Первоисточник всех образов, в которых эти образы находятся в первозданной чистоте и совершенстве, с точки зрения прикладника не важно. Важно лишь то, что люди действуют в соответствии с их понятиями о совершенстве, а понятие это рождается из ощущения, что мы знаем, что такое совершенство, хотя его и нет в жизни.
Это значит, у нас есть некое представление о том, какой ДОЛЖНА быть любая вещь. Мы глядим на нее и видим несовершенства, а это возможно лишь в том случае, если мы сличаем ее с совершенным образом, даже если никогда его и не видели. Для теоретика важно понять, как рождаются подобные наши представления, для прикладника достаточно видеть их и уметь использовать. Я же не в состоянии затевать спор и доказывать, что верно: идеализм или опытная наука. Идеализм живет, и живет он потому, что не опровергнут и является прекрасным языком для разговора о том, что правит нашими душами.
Идеализм говорит, что существует Место, где живут Первообразы, и называет их Идеями. Мир идей – это идеальный мир, что значит, что это мир образов, но одновременно это мир совершенства, поскольку мы можем себе представить совершенные вещи, но не можем их исполнить такими. Поэтому исполненное не из вещества или взаимодействий, а из идей, стало зваться сначала идеальным, а потом Идеалом. Слово это, очевидно, не сразу обрело значение существительного, а было сначала просто прилагательным. Во французском ideale – это идеальный.
Что значит, что Идеал – это нечто идеальное, как я его себе представляю. Но поскольку я представляю что-то вполне определенное – человека, мир, себя – то идеал тоже становится чем-то определенным и обретает самостоятельное существование как понятие, существующее само по себе, а не прилагающееся определением к чему-то иному.
В силу этого, слова Кавелина о том, что идеализм лежит в нашей природе, обретают простой и понятный смысл: мы мечтаем о совершенстве, которое доступно нам лишь в воображении, и это неизбывно. Почему?
Потому что у нас два способа творить вещи, миры, людей или себя: мы можем делать это телами, и, кстати, дети оказываются лучшими творениями наших тел, поскольку, как говорится в анекдоте, мы их не руками делали. Что значит, что их делали, в сущности, не мы… Другой доступный нам способ творчества – в воображении. И это делают определенно не тела, это творчество души. А творит она образы.
Лишить себя душевного творчества значит лишить совершенства и, возможно, самой жизни, поскольку душа без этого не сможет. Вот почему Кавелин говорит, что идеализм – в самой нашей природе. В этом случае под «идеализмом» надо понимать способность нашей души мечтать о чем-то совершенном и творить образы достижения этого, создавая цели и строя задачи. Как вы помните, Кавелин говорит об этом, как о «высшей душевной способности», разделяя душу и «психику», которая стала модной в его время, благодаря трудам физиологов и рефлексологов.
«Источник и причина идеальных стремлений человека есть та же высшая способность, которая, повторяем, участвует не в одних операциях мышления, но и во всех других его психических отправлениях. Эта способность есть источник и причина идеализма уже потому, что имеет дело не с реальными фактами и явлениями непосредственно, а с нашими внутренними психическими состояниями, безразлично, чем бы они ни были произведены – внешними ли впечатлениями, или органическими потребностями человеческой природы» (Кавелин, Задачи этики, с.915).
Кавелин тут между делом объясняет и то, что такое «мотивы» поведения человека. Но я пока это не буду трогать, потому что о «мотивах» надо говорить особо. Мне важнее переход к тому миру, который рождается в нашем сознании, благодаря деятельности души. В сущности, это психологическое объяснение нравственности:
«Ощущения, сделавшись предметами сознания, превращаются в идеальные предметы, непохожие на реальные явления и факты, какими они были до того. Кроме того, благодаря той же высшей способности, эти факты подвергаются переработке по законам мышления: сопоставляются, сравниваются, разлагаются на составные части, которые потом группируются и обобщаются отдельно от самих предметов.
Так предметы преобразуются и становятся совсем непохожими на свой первоначальный вид; образуется идеальный мир, отрешенный от той деятельности, из которой он выработан прирожденною и присущею человеку способностью особого рода. В идеальности его уже заключается условие его совершенства сравнительно с действительностью. Разбросанное в последней – в нем сгруппировано вместе и обобщено; изменчивое, колеблющееся, преходящее в действительности – в нем представляется постоянным, прочным и неизменным.
Идеальный мир выводит таким образом индивидуального человека из тесного круга его личного существования, подымает его до всеобщего, тянет неудержимо к совершенствованию, которое состоит в стремлении к идеалу, в усилиях осуществить его в действительности» (Там же, с. 915–916).
Именно подобные утверждения идеалистов, что только идеальный мир является действительным, прочным и постоянным, вызывали борьбу и сопротивление материалистов всех мастей. Однако этот старый вопрос есть основа для работы любого психолога прикладника просто потому, что он психолог. И он не может исходить из того же, из чего исходит экономист или производственник. У него должен быть свой предмет и свои основания. А основание прикладной психологии прочно: в конце жизни, лежа на смертном одре, ты обязательно почувствуешь, что не можешь унести с собой за ту черту ничего, за чем охотилось твое тело. И лишь то, что извлекла из этой твоей охоты душа, оказывается действительно живым и прочным…
Вот от этой печки, от этой точки опоры и должна начинаться прикладная психологическая работа, поскольку именно благодаря ей возможно перевернуть мир человека. Иными словами, лишь обращенный к этой точке перехода человек в состоянии задуматься о том, что является настоящими ценностями его жизни. И тогда он может поменять себя, свое поведение и саму жизнь.
На этом можно было бы и завершить разговор об идеале как основе прикладной культурно-исторической психологии, однако Кавелин разработал это понятие гораздо глубже. Сделал он это в другой работе, которая вырастала из «Задач психологии» и предшествовала «Задачам этики». Поэтому я намерен извлечь из нее все полезное.
Глава 6
Идеалы и принципы
Работа, в которой Кавелин исследовал самые действенные части нашего душевного мира, называлась «Идеалы и принципы» и вышла через четыре года после «Задач психологии» в 1876 году.
Время это было бурным: после реформы 1861 года, а точнее, после реформ шестидесятых-семидесятых, стало ясно, что отмены крепостного права мало. Нужно перестраивать всю Россию. Особо кровожадным интеллигентам казалось даже, что реформы – вообще не тот путь, которым надо идти. Хотелось крови и революции. Интеллигенция пошла в народ, готовя резню. В России завелись первые в мире террористы и стали убивать людей, оправдывая себя тем, что эти люди при власти, управляют Россией, и если их убить, то в России сразу станет лучше…
Ленин потом даст имя этому русскому развлечению лишать себя профессионалов управления: и кухарки будут управлять страной…
Россия, усилиями своих лучших умов, начала поход за обезглавливание самой себя. Делалось это под страшную и вносящую душевную смуту журнальную шумиху. Все кричали о том, что нужны новые идеалы, поскольку старые опорочили себя…Что такое идеалы, не знал никто, но кричали, потому что это странное слово, как ни странно, было действенным. Жить без идеалов было немодно и как-то уж слишком по-русски, что само по себе стыдно для русского интеллигента.
Вот с этого и начинает свою работу Константин Дмитриевич Кавелин.
«Требование и искание идеалов все более и более выдвигается вперед в нашей литературе. Журнальная и газетная полемика едва успела коснуться этого предмета, как на него отозвались со всех сторон. Нет идеалов, а без них жить нельзя, – вот что слышится отовсюду» (Кавелин, Идеалы, с.887).
Журналисты и литераторы именно в то время стали властителями дум русского народа. Как им удалось захватить такое положение? Наверное, в силу своей поверхностности и недалекости. Чем посредственнее написанное тобою, тем большее число людей в состоянии тебя понять, не напрягая мозгов. И важно лишь одно: писать так, чтобы все понимали: кто не с нами, тот против нас. Иначе говоря, писать надо с угрозой, страшно, тогда никто не обратит внимания на пустоту твоих сочинений, поскольку будут думать лишь о той опасности, которую ты накликиваешь.
«Человечество, взятое в своем совершенстве, содержит в себе не только расширение всех присущих такой природе и входящих в наше понятие о нем существенных свойств вплоть до полного совпадения их с их целями, что было бы нашей идеей совершенного человечества, но и заключает в себе все, что кроме этого понятия необходимо для полного определения идеи; в самом деле, из всех противоположных предикатов только один подходит к идее наиболее совершенного человека.
То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении» (Там же).
Мудреное изложение Канта, однако, можно слегка упростить, если разделить на понятийные слои. Первый из них – это слой культуры, содержащий все проявления или черты того, что мы называем идеалом человека. Существует некий платонический идеал или нет, но путей его познания только два: либо мы его помним врожденно, либо собираем из черт, наблюдая за тем, что есть в жизни. А в жизни есть все, что мы знаем и что нам необходимо, чтобы создать понятие об идеале. В жизни или в культуре.
При этом, как прикладник, я могу задать себе вопрос, с которого начиналась главная битва европейской философии: помню ли я что-то из предшествовавшей воплощению жизни души? Иначе: помню ли я что-то до опыта? И ответ будет очень Локковский: осознанно я ничего не помню. Так ощущает себя обычный человек.
Я выходил из тела, поэтому я знаю: такие воспоминания есть, даже если мы не можем их осознавать. Этому надо учиться. Но это мое знание ничего не значит для тех, кто знает себя только телом. Поэтому они должны будут либо поверить мне на слово, либо исследовать себя, исходя из данных своего опыта. И даже если они знали, что такое идеал, еще до воплощения, в этой жизни они создавали себе это понятие, наполняя его чертами, взятыми из наблюдений. И убеждены, что именно так и рождалось их понятие идеала.
При этом, осознаем мы это или нет, но душа наша стремится к идеалу, заставляя нас совершать определенные поступки, которые и воплощаются в те самые проявления, что мы наблюдаем в жизни. Иначе говоря, верю я в доопытное знание или нет, но то, что я собираю свое понятие об идеале по наблюдениям, вовсе не доказывает, что так это понятие и рождается. Так оно лишь проявляется, наполняясь образами из жизни. И поэтому кажется подобным тем понятиям, что мы познаем впервые.
Вот эту разницу надо понять: душе дано что-то познавать только на земле, а что-то она знает из доземного существования. И значит это то, что у нас есть понятия двух видов: одни – рожденные здесь, созданные душой по мере обретения опыта, а вторые – древние, принесенные из мира душ, лишь заполненные земным содержанием, как плотью.
При этом мы осознаем их сначала лишь по самым грубым их проявлениям, – так проще! И поэтому мы видим вначале лишь, условно говоря, «плоть» таких понятий, то есть то, что набрали в земной жизни как их черты. И очень плохо осознаем присутствие за этой «плотью» тех тончайших образов, которые, после Платона, называют идеями или эйдосами. Для того чтобы их видеть, нужна немалая работа, обучающая наш ум этому тонкому видению. Весь подвиг Канта как раз в том и состоит, что он работал над своей способностью видеть сквозь плоть земных образов.
И вот когда он задумывается о том, почему же мы не видим то, что принесла душа как воспоминание о Том мире, он вынужден отсекать слой за слоем земные образы, заполняющие тонкие тела идей, и обнаруживает, что их неимоверно много. Почти все, что мы могли бы посчитать божественным или небесным, на деле оказывается лишь людскими представлениями о божественном и небесном…Почти все, из чего мы состоим, душа обрела уже здесь…
Поэтому Кант задается вопросом: а что она не могла обрести здесь? И приходит к выводу, что это даже не воспоминания, а, скорей, состояния, которые ей присущи, в частности, состояние чистого разума. Вот поэтому появляется при определении идеала упоминание Платоновской «идеи божественного рассудка», Логоса или Нуса:
«То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении».
Разум Божества, который созерцает миры и все вещи мира, тем самым творя их…
Является ли это действительностью, или же это лишь еще одно представление, даже предположение о том, как возможен мир? Кант не случайно ссылается на Платона, оставляя тому отвечать за этот образ. Сам же он говорит о том, что у нас достаточно средств, чтобы судить об этом, не убегая от той действительности, что мы имеем:
«Не забираясь так далеко, мы должны, однако, признать, что человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и идеалы, которые, правда, не имеют в отличие от платоновских творческой силы, но все же обладают практической силой (как регулятивные принципы) и лежат в основе возможности совершенства определенных поступков.
Моральные понятия – это не вполне чистые понятия разума, так как в основе их лежит нечто эмпирическое (удовольствие или неудовольствие)» (Там же).
Не вполне чистые понятия разума означает в данном случае то, что это не чистые воспоминания из того мира, где живут идеи. Моральные понятия всегда связаны с представлениями людей об этом мире, о теле и телесной жизни, о жизни общества. И это очень точное наблюдение, которое невозможно оспорить, в отличие от всей остальной философии Канта. Да, действительность такова: некие наши представления воздействуют на наши поступки и определяют поведение. И зовутся они идеалами.
Поэтому очень важно будет внести уточнение в определение идеала. Идеал, безусловно, как слово, производен от идеи. Идея или эйдос – древнегреческие слова, означавшие всего лишь вид или образ, но в осмыслении Сократа и Платона, обретшие значение Первообразов, образов, в которых Божественный Разум, Нус созерцает мироздание. В силу этого идеи – очень чистые образы, еще не имеющие никаких следов воплощенности.
Идеалы – это идеи, погрузившиеся в плотность нашего мира, это идеи, которые уже отягощены вещественностью или телесностью. Они не могут существовать, не имея черт, заимствованных от тел или вещей, но при этом они не могут существовать и без той части, что идеальна, то есть делает их идеями. Поэтому идеалы – это всегда пути или ворота в тот мир, из которого пришли наши души, пути на Небеса.
И они как раз то, что мы помним, не осознавая… Помним до опыта и без опыта. Именно поэтому они и втягивают нас в себя…
Глава 5
Идеалы Кавелина
Итак, основная мысль «Задач этики» в отношении идеалов была следующей:
«Тот же взгляд проливает яркий свет на происхождение и значение идеальных стремлений людей. Отрицать их нельзя; вычеркнуть их из человеческой природы невозможно…
От идеализма люди никак не могут отделаться, потому что он лежит в их природе. Надо эту способность понять и извлечь из нее для человечества возможную пользу, направляя ее и парализуя приносимый ею вред» (Кавелин, Задачи этики, с.915).
Благодаря ей мы смогли обратиться к Канту и понять, что слово «идеалы», хоть и является иностранным – французским – по происхождению, но несет в себе какое-то вполне доступное нам понятие, которое происходит от греческого, точнее, платонического понятия идеи. И даже если мы не принимаем платонизм, считая его не соответствующим действительности, это никак не отменяет того, что многие его понятия живут и тысячелетиями правят умами и поведением людей. Поэтому мы не можем от них отмахиваться.
Платоническое же понимание идей и эйдосов относится к тому, что мы называем Миром души, а Платон называл Небесами. Существуют ли Небеса, или это всего лишь допущение, что есть Место, Первоисточник всех образов, в которых эти образы находятся в первозданной чистоте и совершенстве, с точки зрения прикладника не важно. Важно лишь то, что люди действуют в соответствии с их понятиями о совершенстве, а понятие это рождается из ощущения, что мы знаем, что такое совершенство, хотя его и нет в жизни.
Это значит, у нас есть некое представление о том, какой ДОЛЖНА быть любая вещь. Мы глядим на нее и видим несовершенства, а это возможно лишь в том случае, если мы сличаем ее с совершенным образом, даже если никогда его и не видели. Для теоретика важно понять, как рождаются подобные наши представления, для прикладника достаточно видеть их и уметь использовать. Я же не в состоянии затевать спор и доказывать, что верно: идеализм или опытная наука. Идеализм живет, и живет он потому, что не опровергнут и является прекрасным языком для разговора о том, что правит нашими душами.
Идеализм говорит, что существует Место, где живут Первообразы, и называет их Идеями. Мир идей – это идеальный мир, что значит, что это мир образов, но одновременно это мир совершенства, поскольку мы можем себе представить совершенные вещи, но не можем их исполнить такими. Поэтому исполненное не из вещества или взаимодействий, а из идей, стало зваться сначала идеальным, а потом Идеалом. Слово это, очевидно, не сразу обрело значение существительного, а было сначала просто прилагательным. Во французском ideale – это идеальный.
Что значит, что Идеал – это нечто идеальное, как я его себе представляю. Но поскольку я представляю что-то вполне определенное – человека, мир, себя – то идеал тоже становится чем-то определенным и обретает самостоятельное существование как понятие, существующее само по себе, а не прилагающееся определением к чему-то иному.
В силу этого, слова Кавелина о том, что идеализм лежит в нашей природе, обретают простой и понятный смысл: мы мечтаем о совершенстве, которое доступно нам лишь в воображении, и это неизбывно. Почему?
Потому что у нас два способа творить вещи, миры, людей или себя: мы можем делать это телами, и, кстати, дети оказываются лучшими творениями наших тел, поскольку, как говорится в анекдоте, мы их не руками делали. Что значит, что их делали, в сущности, не мы… Другой доступный нам способ творчества – в воображении. И это делают определенно не тела, это творчество души. А творит она образы.
Лишить себя душевного творчества значит лишить совершенства и, возможно, самой жизни, поскольку душа без этого не сможет. Вот почему Кавелин говорит, что идеализм – в самой нашей природе. В этом случае под «идеализмом» надо понимать способность нашей души мечтать о чем-то совершенном и творить образы достижения этого, создавая цели и строя задачи. Как вы помните, Кавелин говорит об этом, как о «высшей душевной способности», разделяя душу и «психику», которая стала модной в его время, благодаря трудам физиологов и рефлексологов.
«Источник и причина идеальных стремлений человека есть та же высшая способность, которая, повторяем, участвует не в одних операциях мышления, но и во всех других его психических отправлениях. Эта способность есть источник и причина идеализма уже потому, что имеет дело не с реальными фактами и явлениями непосредственно, а с нашими внутренними психическими состояниями, безразлично, чем бы они ни были произведены – внешними ли впечатлениями, или органическими потребностями человеческой природы» (Кавелин, Задачи этики, с.915).
Кавелин тут между делом объясняет и то, что такое «мотивы» поведения человека. Но я пока это не буду трогать, потому что о «мотивах» надо говорить особо. Мне важнее переход к тому миру, который рождается в нашем сознании, благодаря деятельности души. В сущности, это психологическое объяснение нравственности:
«Ощущения, сделавшись предметами сознания, превращаются в идеальные предметы, непохожие на реальные явления и факты, какими они были до того. Кроме того, благодаря той же высшей способности, эти факты подвергаются переработке по законам мышления: сопоставляются, сравниваются, разлагаются на составные части, которые потом группируются и обобщаются отдельно от самих предметов.
Так предметы преобразуются и становятся совсем непохожими на свой первоначальный вид; образуется идеальный мир, отрешенный от той деятельности, из которой он выработан прирожденною и присущею человеку способностью особого рода. В идеальности его уже заключается условие его совершенства сравнительно с действительностью. Разбросанное в последней – в нем сгруппировано вместе и обобщено; изменчивое, колеблющееся, преходящее в действительности – в нем представляется постоянным, прочным и неизменным.
Идеальный мир выводит таким образом индивидуального человека из тесного круга его личного существования, подымает его до всеобщего, тянет неудержимо к совершенствованию, которое состоит в стремлении к идеалу, в усилиях осуществить его в действительности» (Там же, с. 915–916).
Именно подобные утверждения идеалистов, что только идеальный мир является действительным, прочным и постоянным, вызывали борьбу и сопротивление материалистов всех мастей. Однако этот старый вопрос есть основа для работы любого психолога прикладника просто потому, что он психолог. И он не может исходить из того же, из чего исходит экономист или производственник. У него должен быть свой предмет и свои основания. А основание прикладной психологии прочно: в конце жизни, лежа на смертном одре, ты обязательно почувствуешь, что не можешь унести с собой за ту черту ничего, за чем охотилось твое тело. И лишь то, что извлекла из этой твоей охоты душа, оказывается действительно живым и прочным…
Вот от этой печки, от этой точки опоры и должна начинаться прикладная психологическая работа, поскольку именно благодаря ей возможно перевернуть мир человека. Иными словами, лишь обращенный к этой точке перехода человек в состоянии задуматься о том, что является настоящими ценностями его жизни. И тогда он может поменять себя, свое поведение и саму жизнь.
На этом можно было бы и завершить разговор об идеале как основе прикладной культурно-исторической психологии, однако Кавелин разработал это понятие гораздо глубже. Сделал он это в другой работе, которая вырастала из «Задач психологии» и предшествовала «Задачам этики». Поэтому я намерен извлечь из нее все полезное.
Глава 6
Идеалы и принципы
Работа, в которой Кавелин исследовал самые действенные части нашего душевного мира, называлась «Идеалы и принципы» и вышла через четыре года после «Задач психологии» в 1876 году.
Время это было бурным: после реформы 1861 года, а точнее, после реформ шестидесятых-семидесятых, стало ясно, что отмены крепостного права мало. Нужно перестраивать всю Россию. Особо кровожадным интеллигентам казалось даже, что реформы – вообще не тот путь, которым надо идти. Хотелось крови и революции. Интеллигенция пошла в народ, готовя резню. В России завелись первые в мире террористы и стали убивать людей, оправдывая себя тем, что эти люди при власти, управляют Россией, и если их убить, то в России сразу станет лучше…
Ленин потом даст имя этому русскому развлечению лишать себя профессионалов управления: и кухарки будут управлять страной…
Россия, усилиями своих лучших умов, начала поход за обезглавливание самой себя. Делалось это под страшную и вносящую душевную смуту журнальную шумиху. Все кричали о том, что нужны новые идеалы, поскольку старые опорочили себя…Что такое идеалы, не знал никто, но кричали, потому что это странное слово, как ни странно, было действенным. Жить без идеалов было немодно и как-то уж слишком по-русски, что само по себе стыдно для русского интеллигента.
Вот с этого и начинает свою работу Константин Дмитриевич Кавелин.
«Требование и искание идеалов все более и более выдвигается вперед в нашей литературе. Журнальная и газетная полемика едва успела коснуться этого предмета, как на него отозвались со всех сторон. Нет идеалов, а без них жить нельзя, – вот что слышится отовсюду» (Кавелин, Идеалы, с.887).
Журналисты и литераторы именно в то время стали властителями дум русского народа. Как им удалось захватить такое положение? Наверное, в силу своей поверхностности и недалекости. Чем посредственнее написанное тобою, тем большее число людей в состоянии тебя понять, не напрягая мозгов. И важно лишь одно: писать так, чтобы все понимали: кто не с нами, тот против нас. Иначе говоря, писать надо с угрозой, страшно, тогда никто не обратит внимания на пустоту твоих сочинений, поскольку будут думать лишь о той опасности, которую ты накликиваешь.