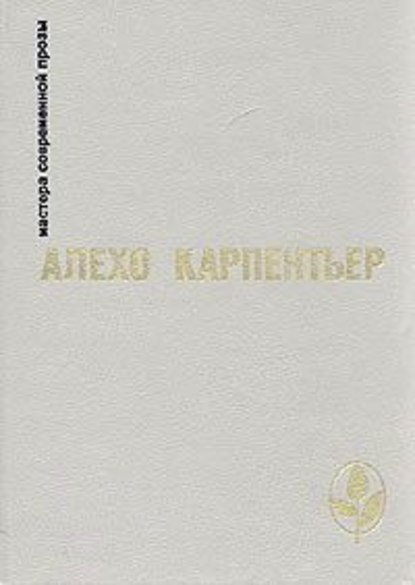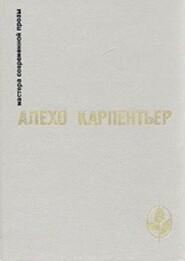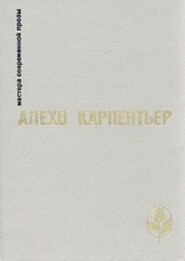По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Век просвещения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А где изволили быть?
– В Мадриде.
– Это ложь, – отрезал один из полицейских. – В шкатулке у вашей кузины мы нашли два письма, отправленных из Парижа, в которых вы, надо признаться, выражаете немалые восторги по поводу революции.
– Возможно, – спокойно сказал Эстебан. – Но затем я переехал в Мадрид.
– Дайте-ка я с ним потолкую, – сказал один из полицейских, подходя к Эстебану. – Уж меня-то он не проведет.
И он стал расспрашивать молодого человека об улицах, рынках, церквах и о различных достопримечательностях города, о которых тот и понятия не имел.
– Вы никогда не были в Мадриде, – объявил полицейский.
– Возможно, – невозмутимо повторил Эстебан. К допросу приступил другой полицейский:
– На какие средства вы жили в Париже? Ведь Испания объявила Франции войну, и вы не могли получать деньги от родных.
– Зарабатывал переводами.
– А что вы переводили?
– Всякое приходилось.
Пробило четыре часа. И снова кто-то сказал, что отсутствие Софии трудно объяснить и надо бы осмотреть корабли…
– Все это просто глупо! – вдруг взорвался Эстебан, грохнув кулаком по столу. – Вы полагаете, что достаточно ворваться в частный дом в Гаване и таким способом будет покончено с идеей свободы во всем мире? Поздно спохватились! Никому не дано остановить ход истории!
Жилы на его шее вздулись, он вновь и вновь громко повторял крамольные фразы, прославляя равенство и братство, так что писец все быстрее и быстрее водил пером по бумаге.
– Весьма занятно. Весьма занятно. Мы, кажется, начинаем понимать друг друга, – оживились те, кто участвовал в допросе.
А один из них, должно быть старший по чину, не давая Эстебану опомниться, обрушил на него град вопросов:
– Вы франкмасон?
– Да.
– Отрицаете Иисуса Христа и нашу святую веру?
– Я признаю только одного бога – бога философов.
– Разделяете ли вы идеи французской революции?
– Полностью разделяю.
– Где отпечатаны прокламации, которые мы обнаружили в доме?
– Я не доносчик.
– Кто перевел их на испанский язык?
– Я.
– И текст американских карманьол тоже?
– Все может быть.
– Когда это было?
В эту минуту появился полицейский, производивший обыск на втором этаже и остававшийся там в надежде обнаружить еще что-нибудь предосудительное.
– Полюбуйтесь-ка на веера хозяйки дома, – сказал он, раскрывая один из вееров, на котором была изображена сцена взятия Бастилии. – Это еще не все: там у нее целая коллекция ларчиков и игольников весьма подозрительных цветов.
Эстебан бросил взгляд на трехцветные безделушки и невольно умилился, подумав о юношеском восторге, который заставил такую сильную натуру, как София, собирать эти милые пустячки, наводнившие за последние годы весь мир.
– Надо во что бы то ни стало поймать эту пташку, – пробурчал старший из полицейских.
И все снова заговорили о том, что следует пойти на пристань…
Тогда Эстебан, не опуская ни единой подробности, принялся рассказывать о своих делах. Он начал с того, как Виктор Юг приехал в Гавану, и всячески старался как можно дольше затянуть свой рассказ, а писец торопливо заносил его показания на бумагу. Молодой человек говорил о встречах с Бриссо и Дальбарадом; о том, как он распространял идеи французской революции в Стране Басков; о своей дружбе с «гнусными изменниками» – Марченой и Мартинесом де Бальестеросом. Потом он поведал о том, как прибыл на Гваделупу: о типографии отца и сына Лёйе; о своем посещении Кайенны, во время которого он не раз виделся с Бийо-Варенном, заклятым врагом королевы Франции.
– Внесите это в протокол допроса, писец, непременно внесите, – сказал старший полицейский, приятно удивленный такими признаниями.
– Сколько «эн» пишется в фамилии Варенн? – осведомился письмоводитель.
– Два, – ответил Эстебан и начал было объяснять правила французской орфографии. – Надо писать два «эн» потому…
– Не станем препираться из-за лишней буквы, – крикнул полицейский, махнув рукой. – Как вам удалось вернуться в Гавану?
– Для франкмасонов нет ничего трудного, – ответил Эстебан.
И он продолжал свою повесть, рисуя себя чуть ли не одним из самых видных заговорщиков. Однако по мере того, как стрелки часов приближались к пяти, его показания принимали все более издевательский характер. Те, кто допрашивал молодого человека, не могли понять, почему он не только не пытается выгородить себя, а признается в крамоле, самым подробным образом перечисляя свои преступные деяния, которые могли навлечь на него смертный приговор – страшную казнь через удушение. Эстебану больше уже не о чем было рассказывать, и он перешел к самым грубым шуткам: говорил о мессалинах из династии Бурбонов, о том, что Князь Мира наставлял рога его величеству, о том, что скоро настанет день, когда петарды начнут рваться прямо в заду у короля Карлоса…
– Да это какой-то фанатик, – сказал кто-то.
– Фанатик или одержимый, – хором подхватили другие, – Америка полна таких вот Робеспьеров. Если мы не будем держать ухо востро, то здесь скоро начнется всеобщая резня.
А Эстебан все говорил и говорил, теперь он уже приписывал себе такие поступки, которых никогда не совершал, хвастался тем, будто сам возил революционную литературу в Венесуэлу и в Новую Гранаду.
– Ничего не опускайте, писец, ничего не опускайте. Все заносите на бумагу, – повторял старший полицейский, ибо задавать вопросы задержанному уже не было необходимости.
Стрелки на часах показывали половину шестого. Эстебан попросил, чтобы кто-нибудь проводил его на плоскую крышу: там в античной вазе, украшавшей балюстраду, якобы спрятана нужная ему вещь. Решив, что неизвестный предмет может послужить дополнительной уликой, несколько полицейских отправились вместе с молодым человеком. В вазе не было ничего, кроме осиного гнезда, и растревоженные насекомые принялись жалить обидчиков. Не слушая посыпавшихся на него оскорблений и угроз, Эстебан устремил взгляд на гавань. Парусник «Эрроу» снялся с якоря: там, где прежде стоял корабль, теперь зияла пустота… Эстебан возвратился в гостиную.
– Занесите мои слова в протокол, господин письмоводитель, – сказал он. – Торжественно заявляю перед богом, в которого верую, что все, сказанное мною прежде, – ложь. Никогда вы не сможете найти ни единого доказательства, которое подтвердило бы, что я совершил все, о чем говорил, за исключением того, что я и в самом деле был в Париже. Не существует ни свидетелей, ни документов, на которые вы могли бы опереться. Все, что я говорил, я говорил, желая помочь одному человеку бежать. Я сделал то, что почитал своим долгом.
– От смерти ты, пожалуй, спасешься, – проворчал старший полицейский. – Но на каторгу в Сеуту непременно угодишь. Людей и за гораздо меньшие проступки посылают в африканские каменоломни.
– Мне теперь все безразлично, – угасшим голосом сказал Эстебан.
– В Мадриде.
– Это ложь, – отрезал один из полицейских. – В шкатулке у вашей кузины мы нашли два письма, отправленных из Парижа, в которых вы, надо признаться, выражаете немалые восторги по поводу революции.
– Возможно, – спокойно сказал Эстебан. – Но затем я переехал в Мадрид.
– Дайте-ка я с ним потолкую, – сказал один из полицейских, подходя к Эстебану. – Уж меня-то он не проведет.
И он стал расспрашивать молодого человека об улицах, рынках, церквах и о различных достопримечательностях города, о которых тот и понятия не имел.
– Вы никогда не были в Мадриде, – объявил полицейский.
– Возможно, – невозмутимо повторил Эстебан. К допросу приступил другой полицейский:
– На какие средства вы жили в Париже? Ведь Испания объявила Франции войну, и вы не могли получать деньги от родных.
– Зарабатывал переводами.
– А что вы переводили?
– Всякое приходилось.
Пробило четыре часа. И снова кто-то сказал, что отсутствие Софии трудно объяснить и надо бы осмотреть корабли…
– Все это просто глупо! – вдруг взорвался Эстебан, грохнув кулаком по столу. – Вы полагаете, что достаточно ворваться в частный дом в Гаване и таким способом будет покончено с идеей свободы во всем мире? Поздно спохватились! Никому не дано остановить ход истории!
Жилы на его шее вздулись, он вновь и вновь громко повторял крамольные фразы, прославляя равенство и братство, так что писец все быстрее и быстрее водил пером по бумаге.
– Весьма занятно. Весьма занятно. Мы, кажется, начинаем понимать друг друга, – оживились те, кто участвовал в допросе.
А один из них, должно быть старший по чину, не давая Эстебану опомниться, обрушил на него град вопросов:
– Вы франкмасон?
– Да.
– Отрицаете Иисуса Христа и нашу святую веру?
– Я признаю только одного бога – бога философов.
– Разделяете ли вы идеи французской революции?
– Полностью разделяю.
– Где отпечатаны прокламации, которые мы обнаружили в доме?
– Я не доносчик.
– Кто перевел их на испанский язык?
– Я.
– И текст американских карманьол тоже?
– Все может быть.
– Когда это было?
В эту минуту появился полицейский, производивший обыск на втором этаже и остававшийся там в надежде обнаружить еще что-нибудь предосудительное.
– Полюбуйтесь-ка на веера хозяйки дома, – сказал он, раскрывая один из вееров, на котором была изображена сцена взятия Бастилии. – Это еще не все: там у нее целая коллекция ларчиков и игольников весьма подозрительных цветов.
Эстебан бросил взгляд на трехцветные безделушки и невольно умилился, подумав о юношеском восторге, который заставил такую сильную натуру, как София, собирать эти милые пустячки, наводнившие за последние годы весь мир.
– Надо во что бы то ни стало поймать эту пташку, – пробурчал старший из полицейских.
И все снова заговорили о том, что следует пойти на пристань…
Тогда Эстебан, не опуская ни единой подробности, принялся рассказывать о своих делах. Он начал с того, как Виктор Юг приехал в Гавану, и всячески старался как можно дольше затянуть свой рассказ, а писец торопливо заносил его показания на бумагу. Молодой человек говорил о встречах с Бриссо и Дальбарадом; о том, как он распространял идеи французской революции в Стране Басков; о своей дружбе с «гнусными изменниками» – Марченой и Мартинесом де Бальестеросом. Потом он поведал о том, как прибыл на Гваделупу: о типографии отца и сына Лёйе; о своем посещении Кайенны, во время которого он не раз виделся с Бийо-Варенном, заклятым врагом королевы Франции.
– Внесите это в протокол допроса, писец, непременно внесите, – сказал старший полицейский, приятно удивленный такими признаниями.
– Сколько «эн» пишется в фамилии Варенн? – осведомился письмоводитель.
– Два, – ответил Эстебан и начал было объяснять правила французской орфографии. – Надо писать два «эн» потому…
– Не станем препираться из-за лишней буквы, – крикнул полицейский, махнув рукой. – Как вам удалось вернуться в Гавану?
– Для франкмасонов нет ничего трудного, – ответил Эстебан.
И он продолжал свою повесть, рисуя себя чуть ли не одним из самых видных заговорщиков. Однако по мере того, как стрелки часов приближались к пяти, его показания принимали все более издевательский характер. Те, кто допрашивал молодого человека, не могли понять, почему он не только не пытается выгородить себя, а признается в крамоле, самым подробным образом перечисляя свои преступные деяния, которые могли навлечь на него смертный приговор – страшную казнь через удушение. Эстебану больше уже не о чем было рассказывать, и он перешел к самым грубым шуткам: говорил о мессалинах из династии Бурбонов, о том, что Князь Мира наставлял рога его величеству, о том, что скоро настанет день, когда петарды начнут рваться прямо в заду у короля Карлоса…
– Да это какой-то фанатик, – сказал кто-то.
– Фанатик или одержимый, – хором подхватили другие, – Америка полна таких вот Робеспьеров. Если мы не будем держать ухо востро, то здесь скоро начнется всеобщая резня.
А Эстебан все говорил и говорил, теперь он уже приписывал себе такие поступки, которых никогда не совершал, хвастался тем, будто сам возил революционную литературу в Венесуэлу и в Новую Гранаду.
– Ничего не опускайте, писец, ничего не опускайте. Все заносите на бумагу, – повторял старший полицейский, ибо задавать вопросы задержанному уже не было необходимости.
Стрелки на часах показывали половину шестого. Эстебан попросил, чтобы кто-нибудь проводил его на плоскую крышу: там в античной вазе, украшавшей балюстраду, якобы спрятана нужная ему вещь. Решив, что неизвестный предмет может послужить дополнительной уликой, несколько полицейских отправились вместе с молодым человеком. В вазе не было ничего, кроме осиного гнезда, и растревоженные насекомые принялись жалить обидчиков. Не слушая посыпавшихся на него оскорблений и угроз, Эстебан устремил взгляд на гавань. Парусник «Эрроу» снялся с якоря: там, где прежде стоял корабль, теперь зияла пустота… Эстебан возвратился в гостиную.
– Занесите мои слова в протокол, господин письмоводитель, – сказал он. – Торжественно заявляю перед богом, в которого верую, что все, сказанное мною прежде, – ложь. Никогда вы не сможете найти ни единого доказательства, которое подтвердило бы, что я совершил все, о чем говорил, за исключением того, что я и в самом деле был в Париже. Не существует ни свидетелей, ни документов, на которые вы могли бы опереться. Все, что я говорил, я говорил, желая помочь одному человеку бежать. Я сделал то, что почитал своим долгом.
– От смерти ты, пожалуй, спасешься, – проворчал старший полицейский. – Но на каторгу в Сеуту непременно угодишь. Людей и за гораздо меньшие проступки посылают в африканские каменоломни.
– Мне теперь все безразлично, – угасшим голосом сказал Эстебан.