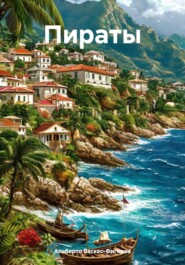По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Леон Боканегро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
–Ты считаешь, лучше попытаться сейчас?
Взгляд старика выражал презрение или, скорее, полное недоумение.
–Не будь глупцом! – резко ответил он. – Даже если тебе удастся освободиться от цепей и спуститься с этих утёсов ночью, на рассвете тебя найдут на равнине, где ты будешь выделяться, как муха в супе.
–Я могу бежать всю ночь…
–Взгляни на эти следы… – старик указал кивком головы. – Они чётко показывают, каким путём мы сюда пришли, и будут видны, пока их не сотрёт харматан. Думаешь, Юба бен-Малаку будет трудно по ним идти?
–Почему ты так стараешься заразить нас своим пессимизмом? – с горечью спросил первый помощник «Морского Льва». – То, что ты до сих пор раб, не значит, что мы не можем обрести свободу.
–Я не пытаюсь заразить тебя ничем, – раздражённо сказал старик. – Просто я реалист. За тридцать лет я не видел ни одного чуда, и ты не можешь ожидать, что я поверю в него сейчас, когда фенеков почти можно унюхать.
Верхний слой пустыни не пах ничем. Сухость, песок и пыль давно заполнили носовые проходы. Но казалось, что весь лагерь «воняет фенеками» или, по крайней мере, страхом, который вызывало осознание их близости.
"Господин Народа Копья" оказался мудр и осторожен в выборе дня прибытия на скалистый массив. Ночью на горизонте появлялась огромная луна, озаряющая равнину почти нереальным светом, позволяя разглядеть даже скрытные движения гепарда, охотящегося за неосторожной добычей.
Юба проводил ночи, сидя на краю пропасти, неподвижный, как ещё одна скала. Холодный утренний ветер пробирал до костей, но он оставался неподвижен, молчалив, словно каждое слово для него стоило больше капли крови.
На рассвете он уходил отдыхать, оставляя охрану своим людям. Десятки глаз часами смотрели на пустой горизонт, который веками не приносил ничего нового.
–А если они не придут?
–Придут!
–Почему ты так уверен?
–Потому что они всегда приходят. Кто-то там, далеко, замечает отблеск подноса и передаёт его дальше. Свет идёт быстро, но верблюды всегда намного медленнее.
–Надеюсь, они придут поскорее! – проворчал всегда нетерпеливый Ферм?n Гаработе. – Эта неопределённость меня изматывает.
–Успеешь ещё пожалеть об их приходе! – горько ответил старик. – Успеешь…
Но проходили дни, луна достигла своего полного диаметра, повиснув над чистым небом пустыни, такая близкая, что, казалось, до нее можно дотянуться рукой. Ветер стих, и тишина тех ночей в одном из самых удаленных и пустынных мест на планете была настолько глубокой, что Леон Боканегра невольно начал скучать по мягкому плеску воды, ласкающей корпус его корабля «Морской Лев».
Даже во время той злополучной экспедиции, когда штиль и коварные течения загнали его в самое сердце Саргассова моря, внушив ему мысль, что пульс жизни навсегда остановился, он не испытывал такого ощущения пустоты и покинутости, как на вершине этого скалистого утеса в африканской пустыне.
Почему Бог создал эту «землю, которая служит только для того, чтобы ее пересекать», как можно было бы вольно перевести бедуинское слово «Сахара», он никогда не мог понять. Он снова и снова спрашивал себя, почему влажные ветры, несущие облака, которые не раз помогали ему добраться от португальских берегов до Канарских островов, так упорно не проникают в континент, который был так близко и так остро нуждался в воде, часто теряющейся впустую в океане.
Казалось, что вдоль южного побережья Марокко возвышается стеклянная стена, о которую разбиваются эти облака. И, проводя долгие часы, глядя на открывающийся перед ним пейзаж, он не мог не задаться вопросом: что случилось бы, если бы каким-то чудом удалось разрушить эту стену, превратив бескрайние каменистые пустыни в плодородные оазисы, подобные тому, где он провел лучшие дни последних лет.
Другими были бы люди и их поведение, если бы их мир состоял из воды и ячменя, а не из песка и ветра. Не было бы нужды порабощать несчастных, чьи корабли разбивались у их берегов, или преодолевать тысячи миль по раскаленным камням, чтобы продать пленников грязным торговцам, которых они, казалось, ненавидели.
Где они?
Господи небесный! Где они?
Тени уже начали пожирать края луны, ночи снова становились ночами, предвещая скорое наступление тьмы. Лишь небольшое стадо ориксов с изогнутыми рогами пересекло равнину вдали, скрываясь на севере.
Еще два дня ожидания, и, наконец, удушливым утром старший сын «Повелителя Народа Копья» закричал, указывая на точку вдали:
– Они идут! Они идут!
Его глаза были словно орлиные. Даже Гусман Сифуэнтес, самый опытный дозорный, не мог различить даже слабого движения на равнине, хотя юноша снова и снова указывал в сторону востока.
– Вот они! – настаивал он. – Это они!
И действительно, это были они. Хотя большинство присутствующих заметили их лишь спустя почти час. Шестеро мужчин в белых просторных одеждах, с белыми тюрбанами и белыми накидками, верхом на величественных верблюдах почти такого же белого цвета, приближались без спешки, как гепард, уверенный в том, что его добыча никуда не денется.
Дрожь пробежала по вершине холма. Лицо Сиксто Молинеро стало зеленовато-бледным, а в глазах невозмутимого Юбы бен-Малака аль-Сабы, который поспешно покинул свою палатку, читалась тревога.
Эти люди пришли для мирных переговоров, но туарег знал лучше других, что в душе они подобны зловонным гиенам, готовым наброситься на горло при первой же возможности.
Они медленно продвигались по равнине, не нарушая построения и дистанции. Леона Боканегру поразило то, что, несмотря на яркое солнце, их оружие и снаряжение не отбрасывали бликов.
– Они безоружны? – спросил он.
– Фенеков? – удивился хромой. – Да ни за что! Они просто накрывают металл, чтобы он не блестел. Они умные, чертовски умные!
Четыре часа спустя всадники достигли подножия утеса. Там они разбили большую палатку цвета песка, под которой спрятали своих животных.
Эта странная палатка, в отличие от большинства бедуинских, включая туарегские, не оканчивалась остроконечным верхом, а поднималась на двух низких дугах. Издалека она могла сойти за одну из песчаных дюн.
– Они как тени, – прошептал Сиксто Молинеро. – Они знают, что тени в пустыне должны быть белыми, и когда устраивают засаду на караван, их невозможно заметить, пока они не вынырнут из земли прямо у ног верблюдов.
С давних времен туареги считались настоящими хозяевами Сахары, лучшими воинами и самыми грозными разбойниками. Но эти фенеки, тысячу раз проклятые, стали их самыми страшными противниками. Они были мастерами маскировки, предательства и ночных нападений.
Их имя, что вполне оправдано, означало «песчаная лисица». Никто не знал наверняка их происхождения, но утверждали, что они мусульмане, а в их жилах течет кровь хауса, ливийцев и суданцев.
Кем бы они ни были, одно было бесспорно: на протяжении веков их считали «самой страшной и презираемой расой Африки». Не построив ни одного города, достойного такого названия, и не имея четко определенных территорий, они распространили свое влияние на такие обширные регионы, что немногие европейские императоры могли бы мечтать о подобных владениях.
Их огромная власть всегда основывалась на эксплуатации трех ключевых ресурсов континента: рабов, золота и, прежде всего, соли.
С наступлением вечера, когда солнце, склоняясь к закату, позволило длинной тени скалистого массива простираться по равнине, один из всадников покинул огромный шатер и неспешно начал подниматься по крутой тропе, ведущей к вершине.
Это был крепкий, коренастый человек со светлой кожей, орлиным носом, черной бородой и глазами, которые, казалось, больше обращали внимание на происходящее по бокам, чем прямо перед ним, что придавало ему вид рыбы, способной уловить малейшее движение за своей спиной.
Достигнув примерно десяти метров до вершины, он распростер руки, показывая, что не скрывает оружия. Подойдя к Юбе бен-Малаку, он даже не удосужился поприветствовать его в соответствии с церемониями, принятыми у жителей пустыни, словно считая, что обсуждение продажи горстки рабов никак не изменит взаимного презрения и враждебности, которые они испытывали друг к другу.
Он лишь слегка склонил голову, показывая, что гость ему желателен, а затем сразу же обратил внимание на группу христиан, сидящих на скалах, закованных в цепи, молчаливых и настороженных.
Наконец, он тихо прошептал на ухо туарегу некую сумму, и тот едва заметно кивнул подбородком.
На этом все. Не было ни слов, ни жестов, ни прощаний. Человек в белом развернулся и ушел так же, как и пришел.
Сиксто Молинеро, казалось, лишился дара речи, и только когда Леон Боканегра толкнул его локтем, он хрипло пробормотал:
– Боже, помоги нам! Это был сам Марбрук!