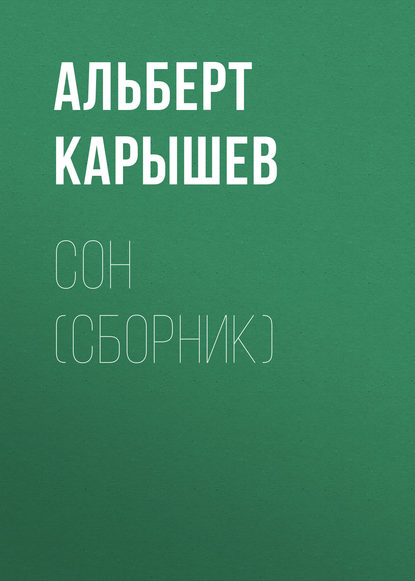По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я готова. Достигаю корней березового побега. Отныне в древесном младенце живет человечья душа.
Душа Глеба-дурачка
…А тут мне хорошо, потому что никто не обижает. Если бы Глебушка летал меж звездами весь целиком, все равно его никто здесь не обсмеял бы, не толкнул и не стукнул, и злые дети не плюнули бы в него густой слюной, которая тянется, как резинка, а потом обрывается, и не спросили бы они: «Хочешь жениться?», – и не подстрекнули: «Видишь деваху? Клевая, да? Поди скажи: «Хочу жениться», – и поцелуй взасос».
Нет тут никого, на небе-то, ни взрослых, ни детей, и Глеба тоже нет, его на Земле убили, одна я, душа убогого, летаю в мировом пространстве, и широко мне, свободно, привольно. Иногда проносятся мимо еще чьи-то души, но не обращают на меня внимания, куда-то спешат, выбрали направление и не сворачивают, и все серьезные такие, сердитые, озабоченные, просто не подступись. Я и не подступаюсь, резвлюсь сама по себе и летаю в разные стороны, по-мушиному, завожу хороводы с маленькими звездочками, белыми от жара, а размерами-то всего с мячик, кручусь вокруг них колесом, вьюсь змейкой, трепещу, рассеиваюсь и уплотняюсь, и звездочки смеются от радости, что-то стрекочут и принимаются ярче сиять в черной черноте. Тут, кроме звездочек, много еще для меня игрушек: камни летают, может, драгоценные, шары как из стекла, глыбы железные, а то и золотые, и серебряные, я же не знаю. А однажды мне встретилась кукла с длинной головой без волос, один глаз на лице, во лбу, носа нет, а рот от уха до уха, наверно, кто-нибудь, с другой планеты, занес и потерял, может, стала не нужна, и выкинули из звездолета. Дома у Глеба тоже была игрушка, на колесах, мамка подарила. «На, – говорит. – От сердца червонец оторвала. Вози, Глебень, шуруй. Ты у меня хоть глупый, а, чай, тоже дите, поиграть хочешь». Она сынка то Глебушкой звала, то Глебкой, то Глебнем, то, как побольше выпьет и сильно разозлится, Глебищем: «У, Глебище проклятый! Зачем только на свет родился? Жизнь мне испортил! Так бы и удавила своими руками! Что лыбишься всегда? Что у тебя слюни-то вечно текут? Вытереть, что ли, не можешь?» А он не обижался, добрая мамка хлеба сынку давала, супа и каши и не очень его била, только иногда хрясть кулаком по спине. И в Бога она учила верить, и креститься, вот этой правой рукой, приговаривая: «Господи, благослови. Прости мою душу грешную». Он игрушку песком нагружал и возил за веревочку, а потом один мальчик во дворе раздавил ее каблуками, это уже когда у Глебушки борода стала расти. Топчет мальчик игрушку, а она плачет. Другие мальчики подошли, смеются. «Старый, а дурак! – кричат на весь двор. – Скоро двадцать лет, а он машинку за веревочку возит!» Глебушка плакал вместе с игрушкой. Размазывает слезы по щекам и думает: «Жалко мне ее. В чем песок буду возить? Я дурак, я знаю. Такой я уродился. Может, мне голову у мамки в животе чем-нибудь прищемило. А вы умные, вам хорошо. У меня ум тоже есть, но он далеко, в середине головы, за пленкой и туманом. Его пленка и туман не пускают, и он в душу откладывается, копится там. У вас в голове ум, а у Глеба в душе. Я как собачка или кошечка: все понимаю, только сказать не могу. Мне играть охота, а мальчики смеются…»
Еще звездолет встретился душе, большой круглый дом в синих огнях и с прозрачными трубами, они стреляют бешеными лучами, которые пробили бы Глебушку насквозь, если бы он летал здесь весь целиком. Хотелось посмотреть, кто в звездолете. Сколько ни искала я дырочку, щелочку, ничего не нашла, гладко все кругом, на яйцо похоже, а в прозрачные трубы меня лучи не пустили. Как туда летчики залезают? Где живут-то эти, в звездолете? Где их планета? Что так далеко залетели? – вон уж три красные Луны видно впереди. Может, умерли все летчики? Или я сама так далеко унеслась от Земли, что не смогу теперь к ней вернуться и буду вечно странствовать в космосе? По-моему, это я засмотрелась, заигралась и унеслась, – а они тут, наверное, почти как дома. Полечу искать Землю. Скорее! Скорее!..
А мальчики во дворе позавидовали бы Глебу, узнай они, какие чудеса видит его душа, или сами захотели бы умереть и полетать в космосе. Что они сейчас делают? Может, в карты играют, курят и пьют пиво. Может, ссорятся друг с другом. Не надо бы им ссориться. Скучать не надо, тогда и ссориться не будут. Пиво тоже им пить нельзя, и в карты играть, и курить. Почему их мамки за это не ругают?.. Все же из-за космоса не стоит никому умирать, полететь в него всегда успеется. Лучше пусть мальчики долго живут на Земле, только весело, чтобы ни умирать им не хотелось, ни ссориться, ни издеваться над кем-нибудь. Глеб их всех любил, а они его обижали. За Глеба-то Бог, наверно, простит, а за ворону, по-моему, накажет. Мальчики ворону убили. Они собрались за город в луга купаться и Глеба для потехи взяли с собой, и там на озере убили ворону. Глеб все видел. Она подраненная была, с крылышком больным, и взлететь с воды никак не могла, плавала недалеко от берега и трепыхалась. Дети обрадовались и стали кидать в нее камни. Ворона хотела скорее к берегу подплыть, спрятаться в осоке и спастись, но они кидали и кидали, чтобы не подплыла и не спряталась. Один попал ей в спинку. Ворона захлебнулась, но не умерла. Захрипела, затряслась, распушила перья и повернула к другому берегу, крылышком здоровым замахала. Мальчики вперед ее забежали и опять: швырк-швырк, бах-бух. Она изо всех сил назад, и дети тоже. Так и плавала, бедная, туда-сюда, и мальчики бегали с берега на берег с камнями в руках, а Глеб, запыхавшись, гонялся за ними, хватал каждого за руки и просил: «Не надо! Не надо!» Второй мальчик попал вороне в больное крылышко, почти совсем оторванное и розовое в том месте, где оторвалось. Она захлебнулась еще сильнее, чем в первый раз, и заморгала черными глазками, и серый клюв широко раскрыла: «Крр… Крр… Не убивайте! Я жить хочу! Меня птенчики ждут!..» Потом самый меткий сказал: «Вот сволочь, жить хочет. Не-ет, от моей пули не уйдешь!» – и прицелился булыжником и попал ей в голову; ворона свалилась на бок, подняла здоровое крыло и слабо так, прощально им помахала, прошелестела. «Вас Бог накажет! Накажет! Накажет!» – залепетал Глебушка и кинулся в воду, схватил мертвую птицу и гладит ее, и прижимает к сердцу. «Я ворона! Меня расстреливайте! Все равно вас Бог накажет!» «Вот дурак-то! – заорали дети. – Дурак, он и есть дурак! Станет Бог за ворону наказывать! Он и за тебя-то не накажет, если расстреляем! Молчи, урод сопливый! Не то взаправду убьем!» Они не убили, это сделали большие, уже потом, а мальчики нарочно в Глеба не попали, хоть и кинули два камня. Ты, Бог, этих мальчиков за все прости, и за ворону тоже. Они дураки, как Глеб, только у него ум был слабый, а у них глупая душа…
А мамка, у-у, какая умная, книжки читает! Папка ее сильно обижал. Они вместе вино пили и после дрались; он бил чем попадя и еще ножиком размахивал, и мамке сильно доставалось, пока один раз зимой он не ушел без пальто и не заснул в сугробе. Мамка горевала, но не сильно. «Вот, – говорит, – и остались мы, Глебень, вдвоем. Плохо без отца, но, кабы не замерз твой, не околел, как собака, я бы эту заразу истребила самолично. Что мне с тобой делать, скажи? Проку от тебя никакого, только и знаешь, что жрать да на двор ходить. Башка большая, а соображения нет, и мук ты моих никогда не поймешь. Что уставился? Глаза у тебя какие-то китайские, что ли, раскосые, точно с похмелья. Нет, я родного сынка никому не отдам, не брошу. С ним мне бывает очень даже ничего. Если представить тебя как домашнюю животинку, то с тем, что ты существуешь на свете, можно согласиться. Ладно, шуткую я. Не бойся, мы с тобой не пропадем. Руки-ноги есть, заработаем что надо. Живи, Глебка, себе на радость, матери на страх». Он всплакнул одними глазами – жалко было отца. «Ты не шуткуешь, ты злишься, – догадался Глеб, но сказать понятно не сумел, пробубнил что-то не на людском языке. – Я не животинка. Я такой же, как все, только мозги под пленкой и туманом. У одного с рождения нога короткая, у другого рука шестипалая, а у меня в голове неправильно устроено. Муж твой умер, ты с ним долго жила, значит, должна горевать. Почему не плачешь?» Еще попыхтел Глеб, как ежик, поворчал себе под нос, но вскоре уж опять расплылся в улыбке, и слезинки у него в глазах засияли весело, не умел долго обижаться на мамку. Потянулся к ее щеке, рот сделал кружком, чмокнул и засмеялся, чмокнул и засмеялся. Рот, род, рад, ряд… Слова интересные, какие-то похожие. На звук отличаются, а разные. У Глеба много всяких мыслей бывало, и про слова, и других, западали в голову, а уходили в душу, и если бы в мозгу у него лопнула пленка и рассеялся туман, Глеб сказал бы что-нибудь очень умное и перестал быть дураком. Почему у всех людей одна голова, две руки и две ноги? Это несправедливо. Умным положена одна голова, глупым две. Тому, кто много работает, мало двух рук, а тому, кто работать не любит, хватит одной: кушать и штаны в уборной снимать. И не всё у людей должно быть одинаково. У добрых пусть растут белые ровные зубы, а у злых черные клыки, честным надо родиться красивыми, жуликам уродами, чтобы сразу узнавать, кто какой, а то часто бывает наоборот… У Глеба и стихи в голове складывались. Я, душа, помню про корову и траву:
Хочу травою стать,
Пусть съест меня корова,
И люди все напьются молока.
Не ешьте только бедную корову —
Она почти такой же человек…
Ничего хорошего в космосе нет, я вам скажу. Мне в нем надоело. Здесь грустно и пусто, хоть места полно и свободы, лети, куда душе угодно. Куда я полечу? Зачем место и свобода, если просто летишь в одиночестве, а кругом холодные звезды, и есть чему удивиться, но нечему порадоваться? Хочется выть на всю Вселенную и с тоски камни грызть, только я не могу. На Земле хорошо. Там трава зеленеет, солнце светит, или облака бегут и дождик из них льется – тоже ведь приятно. Там птицы, кошки и собаки. Мамка там и знакомые мальчики во дворе. Мамка теперь одна, скучает. Похоронила сынка и места себе не находит, слоняется по комнате от двери к окну, от окна к постели. Я видела. После Глебушкиных похорон душа прилетала и пожила еще дома, пока на девятый день космическая сила не отправила ее в долгий полет. А мальчики, может, теперь жалеют Глеба. Если бы Глеб ожил и вернулся, они, наверно, пообижали бы его еще немножко и перестали, он бы их опять простил, и им неинтересно было бы его обижать. Он бы и соседку свою опять простил, тетку шумливую, она звала Глеба идиотом, пугалом, а его мамку неряхой и пьяницей, и не держал бы зла на ехидного соседа, который дал ему в фантике кошачью каку заместо шоколадной конфетки. Он всех прощал, и я, его душа, унесла в космос печаль, а не ненависть и не пожелание горя обидчикам своим…
Во дворе их с мамкой дома мужчины поставили стол, играть в домино. Если дождик не шел, они играли каждый вечер, а по субботам и воскресеньям с утра до вечера били костяшками по столу и потягивали из бутылки вино. Они и Глебу давали потянуть из бутылки. Глеб потом долго кашлял, плевался и кривился, а мужчины смеялись весело. Мамка его отругала, и он ей пообещал больше не пробовать вина, оно ему очень не понравилось, горькое и жжет. Один раз мужчины играли на солнцепеке и часто бегали в магазин. Носы у них обгорели, лица покраснели, глаза сделались стеклянные. Глеб к ним не подходил, как мамка велела; он сидел неподалеку в песочнице и вместе с маленькими детьми куличики пек. Двое доминошников заспорили. Старый сказал молодому: «Ты у меня подглядываешь, потрох сучий, ночуешь в моих фишках». А молодой ему: «Ничего я не подглядываю. Ты, пенсионер, играть не умеешь, а я играю хорошо». Третий, в белой фуражке, сказал на молодого: «Он наглый. Он и пил нечестно, больше всех. Давай проучим». «Я тебя сам проучу», – сказал молодой и ударил третьего, сбил с него белую фуражку и расквасил ему нос. Тогда первый, седенький, схватил молодого жилистыми руками и стал душить. Другой растер кровь под носом и стукнул парню кулаком по голове. Двое свалили его на землю и давай пинать в грудь, живот и голову. «Ты на кого полез, сопляк? – приговаривал с расквашенным носом. – Я известный в городе хулиган! Видишь, стриженный наголо? Ты кому кровь пустил?» Четвертый сидел у стола лицом наружу, качался и протирал глаза. Протерев, он вскочил со скамейки, заорал и налетел на молодого. Во дворе гуляли взрослые и дети. Все побежали смотреть драку. Глеб тоже вылез из песочницы, остановился в толпе и забормотал, дрожа, припрыгивая и взмахивая руками: «Ой! Ой! Ему больно! Больно!» Я, душа, подступала к его сердцу и уходила в пятки. Я звала Глеба спасти молодого. Парень был по пояс гол. Его тело от пинков покрылось ссадинами и синяками. Он не успевал встать, как снова падал, и от боли охал, рычал, хватался за бока, щупал во рту зубы, поблескивая железными коронками. В толпе виднелись сильные мужчины. Одному испуганная женщина сказала: «Что вы стоите? Вы сильный! Разняли бы их!» Он ответил: «Я не дурак. И не подумаю всякую пьянь разнимать. По мне пусть хоть горло один другому перегрызут. Чем больше их взаимно уничтожится, тем меньше будет пьяниц и наркоманов». Другой мужчина хотел вступиться, но жена схватила его за руку: «Ты дурак, что ли? Ненормальный, да? Делать тебе нечего? Больше всех надо? По башке хочешь получить?» Четверо сплелись в клубок, покатились, рассыпались, потянулись к камням и пустым бутылкам. Стало непонятно, кто кого бьет, но трое снова объединились и напали на одного. Кто-то подобрал камень, чтобы стукнуть им молодого. Глебушка сделал шаг, потом выскочил из толпы. «Я, я дурак! – подумал он. – Я ненормальный! Мне надо больше всех! Я спасу! Я разниму!» – и на своих косолапых ногах подковылял к руке с камнем, схватил ее и пригнул к земле, а потом стал расталкивать дерущихся и изо всех силенок бить кулаками. Мужчины удивились, сильнее рассвирепели и с доминошника перекинулись на Глеба. Он попал под их главные удары. А много ли ему было надо? В чем душа держалась. Седенький угодил ему ногой в висок, и я покинула хилое тело и понеслась на небо, слыша внизу детские крики: «Глеба-дурачка убили! Глеба-дурачка убили!» – и неожиданный вопль мамки, бегущей по двору: «Глебушка-а! Сыно-о-чек! У кого рука на сыночка моего поднялась? Он же свято-о-й!»
… Сорок дней проходит, как дурачок умер. Земля намагничивает его душу, притягивает к себе, и я не хочу сопротивляться, я уже парю над ней и, опускаясь все ниже, радуюсь возвращению на Землю, в родной город. Знаю, в чье тело мне переселиться, выбрала, странствуя в космосе. Успеть бы только. К дому, где жил Глеб, примыкает дом, где живет знаменитый художник, его окна смотрят во двор. Он давно не выходит на улицу. Говорят, раньше его картины были прекрасны, но художник изработался, потерял светлую душу и стал рисовать скучно, обыкновенно. Ума много в его картинах, говорят, а души нет. Он потому и не выходит, что стыдно показаться людям, его ведь назвали народным художником. Где он душу-то потерял? Почему тело живым осталось? Разве так бывает? Бедный он, несчастный… Слышала, что я золотая душа, добрая и любящая, я и пригожусь теперь художнику, заменю ему потерянную душу. Лечу к его дому, но прежде вижу свой, и так хочется мне в последний раз увидеть мамку, так грустно одинокой душе. Времени нет, надо торопиться. Снижаюсь до окон художника и через раскрытую форточку влетаю в квартиру. Хозяин сидит в кресле, тощий, небритый, неряшливый, и халат на нем помятый, а из-под халата видна голая грудь. Еще не очень старый он, а морщинистый, бледный, изношенный. На коленях у него кошка. Больше никого в квартире не видно и не слышно, художник живет один, все его бросили. Он гладит кошку, прикрыл глаза и словно спит. В комнате пыль, беспорядок, и постель не убрана. Возле кресла на полу стоит бутылка. Художник опускает за кресло руку, берет бутылку и подносит горлышко ко рту. «Сейчас, сейчас! – думаю я. – У тебя прояснятся тусклые глаза. Ты встрепенешься и порозовеешь, захочешь вымыться под душем, гладко побриться и хорошенько поесть, а дальше чему-то обрадуешься и не поймешь – чему, но помчишься, как на крыльях, в свою мастерскую, чтобы взяться за работу. Сейчас, сейчас!..»
Он запрокидывает голову и хочет глотнуть из бутылки. Я опережаю вино и прежде него вливаюсь в бренное тело.
Душа Альберта Карышева
Смерть уже подступала ко мне, когда я был помоложе, но смилостивилась смерть и не отделила душу от тела. Теперь я устаю, старею, и душа моя готовится к стремительному полету меж звездами.
Я примерно знаю, как это произойдет. Душа покинет тело скоро и бесшумно, но не прямо вырвется на свободу – сперва минует длинный коридор, тоннель или глубокий колодец, в которых встретит образы близких мне людей, покойников разных поколений, а в конце она увидит свет солнца, такой же праздничный и тревожный, какой поражает младенца, выходящего в мир людей из лона матери. Тоннель я помню хорошо. Моя душа достигала его середины, но потом вернулась назад, в тело…
Девять дней после моей смерти она будет свободно летать над Землей, как всякая человеческая душа, и, пользуясь особой текучестью своей субстанции, проникнет всюду, куда ее повлекут чутье и любопытство (я условно приземляю особые качества отлетевшей души, даю им обиходные названия, так как других не знаю).
Мне уже видится, как она плывет над Владимиром и с грустью смотрит по всем направлениям, но более всего разглядывает город внизу, жалеет обитающих в нем людей. С траурным замедлением, словно в потоке похоронной процессии, душа моя направляется к старому кладбищу, к могилам близких: матери Анны, бабушки Марфы, сестры Виолетты и тетки Дины, всех, с кем я в начале войны, в сорок первом году, эвакуировался во Владимир из родного Наро-Фоминска. Теперь-то душа найдет эти могилы, вырытые одна возле другой. При жизни я напрасно искал их долгие годы. Бульдозер, направляемый твердой рукой, снес многие травянистые холмики, отмеченные бедными памятниками, а на другие упали вековые деревья, поверженные пильщиками, которых для этого позвали. «Ну, вот, – скажет душа моим покойным родным. – Хоть под древесными завалами, под хворостом и мусором, но напоследок я отыскала ваши могилы. Полечу дальше, прощайте. Из прежних поколений нашей семьи, – заметит душа, – больше никого не осталось в живых, а поздние поколения – совсем уж юные, некоторые вроде бы даже иноплеменные».
Помедлит душа над Владимиром. Многое она помнит в этом городе: детство мое, горе и счастье, – и в нем еще живут друзья и недруги, с ними бы и хотела душа проститься, их времяпровождение желала бы подсмотреть. Она было ринется в чей-нибудь дом, но, знаю, до места не долетит. Как бы ни разжигалось ее любопытство, она не станет подглядывать, остановится, в ней заложено праведное русское воспитание, и душа знает: достойно лишь смотреть, в настоящее и будущее, а подсматривать – гнусно. Но простить и проститься душа все-таки сможет, явившись друзьям и недругам в странных сновидениях.
Друзья, друзья, друзья… Они словно птицы, сопровождающие тебя в полете. Мы пили водку, пели под гитару, болтали о литературе и политике, ходили в лес по грибы, искали взаимного сочувствия в огорчении и радости и были уверены, что это и есть настоящая дружба, а иной быть не может. Но вот недавно я подписал мою книгу одному человеку, употребив душевные испытанные слова: «На память старому другу», – и в ответ услышал: «Знаешь, я, честно говоря, как-то не чувствовал себя таковым. Твердо не чувствовал, ей-богу. Нет, мы друзья, конечно… Ничего плохого не подумай, но внутренне я себя другом не чувствовал, больше внешне проявлял…» Я удивился, опечалился и не спал три ночи, но потом успокоил себя рассуждением: главное то, что я сам искренне дружил, а дружествен ли был друг – это остается на его совести. К тому же настало время неожиданных признаний и необыкновенных превращений. Мы живем в страшную пору. Многие накладывают на себя руки и сходят с ума. Вот и старый друг, в некотором смысле, наверно, повредился. Но, может быть, наоборот, он стал разумнее и понял, что теперь удобно ему дружить с кем-нибудь более современным, чем я, неисправимый идеалист и романтик. Слаб человек. Я на него не сержусь. Со всеми друзьями моя душа расстанется без обиды и ожесточения. Если раньше и таились в ней обида и ожесточение, то, освободясь от тела, она утратит дурные качества и понесет по небу философскую мудрость, любовь к близким, друзьям и прощение недругам.
Предполагаю, что из города она направится к морю, скорее всего – на Север. Обстоятельства жизни не дали мне навсегда связать с морем судьбу, но отлетевшая душа в полной мере удовлетворится его созерцанием. Она застанет бледные сполохи на низком северном небосклоне и увлечется жутковатой красотой кажущихся стальными волн, блестящих под сполохами, и насладится утренним сиянием мертвых ледяных просторов, на которых вдруг показывается жизнь: то тюлень на льдине, то белый медведь. Душа полетит низко над водой, смешиваясь с воздушными потоками и вихрями закручивающихся волн, и не испытает ни страха, ни холода – только упоение полетом и ощущение близости к великим стихиям. Это и есть в чистом виде «морская душа», описанная в книгах, воспетая в песнях.
Но я всегда наслаждался и пребыванием в лугах и лесах, сверху похожих на теплые осенние моря, бурно зеленеющие от микроскопических водорослей. И душа моя воспарится над ними и, любуясь, сделает плавные неторопливые движения, а потом, если выдастся летняя пора, промчится над Землей на бреющем полете, задевая своим энергетическим полем ветки деревьев и сочные травы, и мягко поколебленные ею цветы прощально махнут ей вслед дикими скромными венчиками.
Душа моя пронесется над городами, селами и по пути заглянет в лица стариков, старух и молодых людей, бледные, изможденные голодом, холодом и неверием в светлое будущее, и многие почувствуют ее прикосновение и удивятся легкому освежающему ветерку, когда на улице будет стоять тихая погода…
Потом она ненадолго прилетит домой. К тому времени тело зароют, но в доме сохранится траурная обстановка, во всех углах заляжет тревожная тишина и останется завешенным настенное зеркало, чтобы душа, видимая в нем, не испугалась сама себя. Я не знаю, кого душа застанет дома, но, надеюсь, лишь внучку и жену. Хорошо бы, только они одни и хоронили меня, хотя и чужим не запретишь, даже людям, весьма душе твоей неприятным. Дороже внучки и жены никого у меня после матери в жизни не было. Они любили меня, труднолюбимого, глубоко уважали и очень берегли, безропотно терпели мои бесконечные писательские занятия и особенности настроения, переменчивого, словно погода в северных морях. Они поплачут обо мне, я знаю, а больше не поплачет никто, и я этого не хочу. Душа моя благоговейно прикоснется к жене и внучке, нежно обволочет их лица и, как сможет, запечатлеет прощальный поцелуй. Она задержится, наверно, в небольшом закутке одной из пары наших комнат, повитает над письменным столом, за которым я написал немало страниц, погрустит о том, что больше уж ничего не напишу и она не войдет главной составляющей в мои консервативные тексты. Но, может, душа и не пожалеет ни о чем подобном. Ведь все было напрасно. Я старался делиться с людьми опытом жизни и душевных потрясений, но они без меня знают, что плохо и хорошо, и я им только мешаю, тем более, что мое знание часто не совпадает с их собственным, навеянным соблазнами веселья, богатства, распутства…
Но, возможно, все случится по-другому: внучка выйдет замуж и покинет наш дом, жена отправится в межзвездный полет раньше меня, и я останусь один на свете. Одному жить нельзя, невозможно, тем более в ощущении каждодневной утраты сил. Пойду в богадельню. Трагедии в этом нет. Трагедия – не в богадельне, а в одиночестве души, в навязчивой мысли, что, наверное, ты напрасно с юных лет до глубокой старости сосредоточивал силы на достижении высоких целей. Ибо вон оно как все вышло. Понятия, словно одежда, вывернулись наизнанку, и люди тоже вывернулись – многих я узнаю только по внешнему виду, но не по внутреннему содержанию. Добро и зло поменялись местами. Славны были праведник, храбрец, подвижник, умник, добряк, бессребреник, славны стали вор, ловкач, деляга, холуй, тупица, злодей и стяжатель. Ну как тут не ощутить полное свое поражение, унижение, попрание в тебе человеческого достоинства?..
Пока решал задачу,
Как возродить страну,
Сосед построил дачу,
Фасад – под старину.
Нет зависти особой —
Страна важней всего!
Но убеждать не пробуй
Ты в этом никого!..
Может быть, и похоронят меня не в гробу, а – из-за нищеты старческой богадельни – в пластиковом или бумажном пакете. А что, тут нет ничего удивительного, многих бедняков так хоронят, вон у нас положили в пакет известного поэта, очень хорошего, на гроб денег не было…
Но на девятый день душа рванется ввысь, в космос, и, разгоняясь до чудовищных скоростей, помчится меж звездами. Это и ритуал, и испытание души на выносливость, греховность, на право свободного переселения. В межзвездном полете она узрит такие чудеса, такие фантастические красоты, какие не приснятся ни одному разумному человеку. Ее поразят внеземные краски, состоящие не из семи цветов спектра белых лучей, а из большего количества цветов иных космических спектров, меняющихся в разных системах отсчета. Она увидит рождение новых и гибель старых звезд, движение бурлящих плазменных паров и ядерные взрывы, раскалывающие космос. Ее многонаправленному взору представятся и гигантские воронки «черных дыр», и выгнутые поверхности «искривленных пространств», и хороводы разновеликих планет и звезд, и волшебные свечения неизвестных источников…
Но душа скоро отвлечется от созерцания космических картин. Они ей быстро наскучат. Душа сильнее загрустит о родственных душах, оставленных на Земле, в первую очередь о милых жене и внучке. С горечью помыслит субстанция о том, «что случилось, что сталось в стране», почему страна лежит поверженная и угнетенная, раздробленная и разграбленная, с неработающими заводами, одичавшими пашнями и отчего многие ее граждане вдруг разом обернулись, как сказочные чародеи: прямодушные – лицемерами, бессребреники – охотниками до денег, целомудренные – пошляками, социалисты – капиталистами. Я, пока еще живой, кладу руку на сердце и громко заявляю, что не в силах понять происходящее. Если бы меня даже жгли на людной площади, я не смог бы ответить на главный вопрос: зачем все это, чего мы добиваемся? Для чего нас неустанно зазывают сладко есть, пить, утопать в роскоши, бесконечно петь и плясать, нередко обрекая самых достойных жить в нищете, лишая обыкновенного хлеба насущного? Но, допустим, у всех будет по пять машин, паре вилл и крупному счету в банке. А дальше что? Разве каждый унесет богатство с собой в могилу или благодаря ему протянет лишнюю тысячу лет? Не обольщайтесь, господа. Не успеете обернуться, а уж пора душе в звездный полет, к которому вы не сумели ее сберечь и подготовить. Я прожил на свете немало лет и давно заметил, что большой достаток лишает человека души. Гладким, белым становится лицо богача, но как бы пластмассовым, безжизненным. Его глаза хлопают пластмассовыми веками, но перестают сиять, блестеть, суроветь и нежнеть, плакать и смеяться, в них не отражается даже сморщенная увядшая душонка – только биологические потребности тела да цифры банковских счетов…
Но душа Альберта Карышева будет метаться по космосу, предвидя близящийся неотвратимый день, сороковой после смерти плоти, волнуясь и беспредельно наращивая скорость. Я не знаю, кого во мне к концу жизни станет больше: праведника или грешника и хватит ли душе сил переселиться в новое живое существо. Стараюсь, чтобы все кончилось благополучно, и желаю своей душе надежного пристанища в тельце крепкого младенца мужского пола. Пусть из мальчика вырастет яркий, как солнце, политик, дерзкий боец за справедливость и русскую честь, могущий собрать и сплотить несметные силы ратоборцев и с ними противодействовать затхлому иноземному владычеству, временно, словно татарское иго, воцарившемуся в России.
До встречи!
Из хроник грядущего
Сон
1
Сон тягостный, ужасный, вязкий, как смола.
От него не спастись, он не уходит из памяти; и господин Грешнов, открыв среди ночи глаза, ощущая на лице холодную испарину, водит ладонью по лбу, шевелит губами и думает: «Было или грезилось? Видел кошмар или натурально спускался в проклятое подземелье? Что делать? Что делать? Несомненно, однажды со мной что-то подобное случилось. Но где, когда и каким образом?»
Он протягивает руку и нащупывает плечо жены, крепко спящей, прихрапывающей, поднимает над подушкой голову – перед ним широкие венецианские окна его спальни. Слабый звездный свет сочится в спальню с улицы. Летняя ночь тиха, душновата, и сквозь открытые окна не веет прохладой, и дорогие полупрозрачные гардины не шелохнутся. Озирается, видит большое напольное зеркало, отражающее дымчатый звездный свет; знакомые предметы обстановки различает Грешнов в ночном сумраке и снова раздумывает: «Слава Богу – сон. Я богатый добропорядочный человек. Но откуда в моей памяти это мрачное грязное подземелье? Может быть, оно есть где-то среди развалин старого города, но какое я имею к нему отношение?»
Грешнов зевает, зажмуривает глаза и пробует уснуть; но стоит ему, ощутив невесомость, начать погружаться в глубокую дрему, как он вновь, спускаясь по шаткой скрипучей лестнице, переносит в подвал тяжелые пластиковые мешки, мягкие и теплые. Спустился. Кинул мешок возле ног. Щелкнув выключателем, зажег электрическую лампу под дощатым потолком. Тусклый свет озарил подземелье: земляной пол, кирпичные стены – у одной рассыпана картошка, у другой теснятся бочки, пахнущие укропом, чесноком, квашеной капустой. Посреди подвала вырыта яма, в груде черной земли торчит лопата.
Он, Грешнов, берет мешок, подтаскивает к яме и, прежде чем его туда кинуть, слегка его раскрывает. В мешке много мяса, в мясе видны человеческая голова и руки – в загустевшей, кажущейся черной крови. Волосы на голове слиплись, глаза открыты, выкачены, как шары, пальцы на желтых руках скрючены. Грешнову противно и страшно, в горле у него спазмы тошноты. Огромным усилием воли он вырывается из ночного кошмара, словно всплывает со дна омута, опять лежит с раскрытыми глазами и думает: «Что это – отголоски позабытого злодейства? Но как можно забыть такое? Однако, похоже, правда. Слишком натурально. Страшно себе признаться, но каким-то образом я убил человека и, расчленив, закопал по частям в подвале. Вот только подвал этот – откуда он? С детства я жил очень хорошо, вращался в приличном обществе, занятия мои и помыслы были чисты, благородны, и допотопные земляные подвалы я видел только в кино, на картинках и на экскурсиях по развалинам старинных построек».
Спустив ноги, Грешнов садится на кровати, берет с полированного столика сигареты и зажигалку. Жена просыпается, внимательно на него смотрит и спрашивает:
– Что не спишь?
– Докурю и лягу, – отвечает Грешнов.
Лечь-то он лег, но так до утра глаз и не сомкнул.
2
Утром жена наклоняется, приглядывается к супругу, гладит его по ввалившейся щеке.
Душа Глеба-дурачка
…А тут мне хорошо, потому что никто не обижает. Если бы Глебушка летал меж звездами весь целиком, все равно его никто здесь не обсмеял бы, не толкнул и не стукнул, и злые дети не плюнули бы в него густой слюной, которая тянется, как резинка, а потом обрывается, и не спросили бы они: «Хочешь жениться?», – и не подстрекнули: «Видишь деваху? Клевая, да? Поди скажи: «Хочу жениться», – и поцелуй взасос».
Нет тут никого, на небе-то, ни взрослых, ни детей, и Глеба тоже нет, его на Земле убили, одна я, душа убогого, летаю в мировом пространстве, и широко мне, свободно, привольно. Иногда проносятся мимо еще чьи-то души, но не обращают на меня внимания, куда-то спешат, выбрали направление и не сворачивают, и все серьезные такие, сердитые, озабоченные, просто не подступись. Я и не подступаюсь, резвлюсь сама по себе и летаю в разные стороны, по-мушиному, завожу хороводы с маленькими звездочками, белыми от жара, а размерами-то всего с мячик, кручусь вокруг них колесом, вьюсь змейкой, трепещу, рассеиваюсь и уплотняюсь, и звездочки смеются от радости, что-то стрекочут и принимаются ярче сиять в черной черноте. Тут, кроме звездочек, много еще для меня игрушек: камни летают, может, драгоценные, шары как из стекла, глыбы железные, а то и золотые, и серебряные, я же не знаю. А однажды мне встретилась кукла с длинной головой без волос, один глаз на лице, во лбу, носа нет, а рот от уха до уха, наверно, кто-нибудь, с другой планеты, занес и потерял, может, стала не нужна, и выкинули из звездолета. Дома у Глеба тоже была игрушка, на колесах, мамка подарила. «На, – говорит. – От сердца червонец оторвала. Вози, Глебень, шуруй. Ты у меня хоть глупый, а, чай, тоже дите, поиграть хочешь». Она сынка то Глебушкой звала, то Глебкой, то Глебнем, то, как побольше выпьет и сильно разозлится, Глебищем: «У, Глебище проклятый! Зачем только на свет родился? Жизнь мне испортил! Так бы и удавила своими руками! Что лыбишься всегда? Что у тебя слюни-то вечно текут? Вытереть, что ли, не можешь?» А он не обижался, добрая мамка хлеба сынку давала, супа и каши и не очень его била, только иногда хрясть кулаком по спине. И в Бога она учила верить, и креститься, вот этой правой рукой, приговаривая: «Господи, благослови. Прости мою душу грешную». Он игрушку песком нагружал и возил за веревочку, а потом один мальчик во дворе раздавил ее каблуками, это уже когда у Глебушки борода стала расти. Топчет мальчик игрушку, а она плачет. Другие мальчики подошли, смеются. «Старый, а дурак! – кричат на весь двор. – Скоро двадцать лет, а он машинку за веревочку возит!» Глебушка плакал вместе с игрушкой. Размазывает слезы по щекам и думает: «Жалко мне ее. В чем песок буду возить? Я дурак, я знаю. Такой я уродился. Может, мне голову у мамки в животе чем-нибудь прищемило. А вы умные, вам хорошо. У меня ум тоже есть, но он далеко, в середине головы, за пленкой и туманом. Его пленка и туман не пускают, и он в душу откладывается, копится там. У вас в голове ум, а у Глеба в душе. Я как собачка или кошечка: все понимаю, только сказать не могу. Мне играть охота, а мальчики смеются…»
Еще звездолет встретился душе, большой круглый дом в синих огнях и с прозрачными трубами, они стреляют бешеными лучами, которые пробили бы Глебушку насквозь, если бы он летал здесь весь целиком. Хотелось посмотреть, кто в звездолете. Сколько ни искала я дырочку, щелочку, ничего не нашла, гладко все кругом, на яйцо похоже, а в прозрачные трубы меня лучи не пустили. Как туда летчики залезают? Где живут-то эти, в звездолете? Где их планета? Что так далеко залетели? – вон уж три красные Луны видно впереди. Может, умерли все летчики? Или я сама так далеко унеслась от Земли, что не смогу теперь к ней вернуться и буду вечно странствовать в космосе? По-моему, это я засмотрелась, заигралась и унеслась, – а они тут, наверное, почти как дома. Полечу искать Землю. Скорее! Скорее!..
А мальчики во дворе позавидовали бы Глебу, узнай они, какие чудеса видит его душа, или сами захотели бы умереть и полетать в космосе. Что они сейчас делают? Может, в карты играют, курят и пьют пиво. Может, ссорятся друг с другом. Не надо бы им ссориться. Скучать не надо, тогда и ссориться не будут. Пиво тоже им пить нельзя, и в карты играть, и курить. Почему их мамки за это не ругают?.. Все же из-за космоса не стоит никому умирать, полететь в него всегда успеется. Лучше пусть мальчики долго живут на Земле, только весело, чтобы ни умирать им не хотелось, ни ссориться, ни издеваться над кем-нибудь. Глеб их всех любил, а они его обижали. За Глеба-то Бог, наверно, простит, а за ворону, по-моему, накажет. Мальчики ворону убили. Они собрались за город в луга купаться и Глеба для потехи взяли с собой, и там на озере убили ворону. Глеб все видел. Она подраненная была, с крылышком больным, и взлететь с воды никак не могла, плавала недалеко от берега и трепыхалась. Дети обрадовались и стали кидать в нее камни. Ворона хотела скорее к берегу подплыть, спрятаться в осоке и спастись, но они кидали и кидали, чтобы не подплыла и не спряталась. Один попал ей в спинку. Ворона захлебнулась, но не умерла. Захрипела, затряслась, распушила перья и повернула к другому берегу, крылышком здоровым замахала. Мальчики вперед ее забежали и опять: швырк-швырк, бах-бух. Она изо всех сил назад, и дети тоже. Так и плавала, бедная, туда-сюда, и мальчики бегали с берега на берег с камнями в руках, а Глеб, запыхавшись, гонялся за ними, хватал каждого за руки и просил: «Не надо! Не надо!» Второй мальчик попал вороне в больное крылышко, почти совсем оторванное и розовое в том месте, где оторвалось. Она захлебнулась еще сильнее, чем в первый раз, и заморгала черными глазками, и серый клюв широко раскрыла: «Крр… Крр… Не убивайте! Я жить хочу! Меня птенчики ждут!..» Потом самый меткий сказал: «Вот сволочь, жить хочет. Не-ет, от моей пули не уйдешь!» – и прицелился булыжником и попал ей в голову; ворона свалилась на бок, подняла здоровое крыло и слабо так, прощально им помахала, прошелестела. «Вас Бог накажет! Накажет! Накажет!» – залепетал Глебушка и кинулся в воду, схватил мертвую птицу и гладит ее, и прижимает к сердцу. «Я ворона! Меня расстреливайте! Все равно вас Бог накажет!» «Вот дурак-то! – заорали дети. – Дурак, он и есть дурак! Станет Бог за ворону наказывать! Он и за тебя-то не накажет, если расстреляем! Молчи, урод сопливый! Не то взаправду убьем!» Они не убили, это сделали большие, уже потом, а мальчики нарочно в Глеба не попали, хоть и кинули два камня. Ты, Бог, этих мальчиков за все прости, и за ворону тоже. Они дураки, как Глеб, только у него ум был слабый, а у них глупая душа…
А мамка, у-у, какая умная, книжки читает! Папка ее сильно обижал. Они вместе вино пили и после дрались; он бил чем попадя и еще ножиком размахивал, и мамке сильно доставалось, пока один раз зимой он не ушел без пальто и не заснул в сугробе. Мамка горевала, но не сильно. «Вот, – говорит, – и остались мы, Глебень, вдвоем. Плохо без отца, но, кабы не замерз твой, не околел, как собака, я бы эту заразу истребила самолично. Что мне с тобой делать, скажи? Проку от тебя никакого, только и знаешь, что жрать да на двор ходить. Башка большая, а соображения нет, и мук ты моих никогда не поймешь. Что уставился? Глаза у тебя какие-то китайские, что ли, раскосые, точно с похмелья. Нет, я родного сынка никому не отдам, не брошу. С ним мне бывает очень даже ничего. Если представить тебя как домашнюю животинку, то с тем, что ты существуешь на свете, можно согласиться. Ладно, шуткую я. Не бойся, мы с тобой не пропадем. Руки-ноги есть, заработаем что надо. Живи, Глебка, себе на радость, матери на страх». Он всплакнул одними глазами – жалко было отца. «Ты не шуткуешь, ты злишься, – догадался Глеб, но сказать понятно не сумел, пробубнил что-то не на людском языке. – Я не животинка. Я такой же, как все, только мозги под пленкой и туманом. У одного с рождения нога короткая, у другого рука шестипалая, а у меня в голове неправильно устроено. Муж твой умер, ты с ним долго жила, значит, должна горевать. Почему не плачешь?» Еще попыхтел Глеб, как ежик, поворчал себе под нос, но вскоре уж опять расплылся в улыбке, и слезинки у него в глазах засияли весело, не умел долго обижаться на мамку. Потянулся к ее щеке, рот сделал кружком, чмокнул и засмеялся, чмокнул и засмеялся. Рот, род, рад, ряд… Слова интересные, какие-то похожие. На звук отличаются, а разные. У Глеба много всяких мыслей бывало, и про слова, и других, западали в голову, а уходили в душу, и если бы в мозгу у него лопнула пленка и рассеялся туман, Глеб сказал бы что-нибудь очень умное и перестал быть дураком. Почему у всех людей одна голова, две руки и две ноги? Это несправедливо. Умным положена одна голова, глупым две. Тому, кто много работает, мало двух рук, а тому, кто работать не любит, хватит одной: кушать и штаны в уборной снимать. И не всё у людей должно быть одинаково. У добрых пусть растут белые ровные зубы, а у злых черные клыки, честным надо родиться красивыми, жуликам уродами, чтобы сразу узнавать, кто какой, а то часто бывает наоборот… У Глеба и стихи в голове складывались. Я, душа, помню про корову и траву:
Хочу травою стать,
Пусть съест меня корова,
И люди все напьются молока.
Не ешьте только бедную корову —
Она почти такой же человек…
Ничего хорошего в космосе нет, я вам скажу. Мне в нем надоело. Здесь грустно и пусто, хоть места полно и свободы, лети, куда душе угодно. Куда я полечу? Зачем место и свобода, если просто летишь в одиночестве, а кругом холодные звезды, и есть чему удивиться, но нечему порадоваться? Хочется выть на всю Вселенную и с тоски камни грызть, только я не могу. На Земле хорошо. Там трава зеленеет, солнце светит, или облака бегут и дождик из них льется – тоже ведь приятно. Там птицы, кошки и собаки. Мамка там и знакомые мальчики во дворе. Мамка теперь одна, скучает. Похоронила сынка и места себе не находит, слоняется по комнате от двери к окну, от окна к постели. Я видела. После Глебушкиных похорон душа прилетала и пожила еще дома, пока на девятый день космическая сила не отправила ее в долгий полет. А мальчики, может, теперь жалеют Глеба. Если бы Глеб ожил и вернулся, они, наверно, пообижали бы его еще немножко и перестали, он бы их опять простил, и им неинтересно было бы его обижать. Он бы и соседку свою опять простил, тетку шумливую, она звала Глеба идиотом, пугалом, а его мамку неряхой и пьяницей, и не держал бы зла на ехидного соседа, который дал ему в фантике кошачью каку заместо шоколадной конфетки. Он всех прощал, и я, его душа, унесла в космос печаль, а не ненависть и не пожелание горя обидчикам своим…
Во дворе их с мамкой дома мужчины поставили стол, играть в домино. Если дождик не шел, они играли каждый вечер, а по субботам и воскресеньям с утра до вечера били костяшками по столу и потягивали из бутылки вино. Они и Глебу давали потянуть из бутылки. Глеб потом долго кашлял, плевался и кривился, а мужчины смеялись весело. Мамка его отругала, и он ей пообещал больше не пробовать вина, оно ему очень не понравилось, горькое и жжет. Один раз мужчины играли на солнцепеке и часто бегали в магазин. Носы у них обгорели, лица покраснели, глаза сделались стеклянные. Глеб к ним не подходил, как мамка велела; он сидел неподалеку в песочнице и вместе с маленькими детьми куличики пек. Двое доминошников заспорили. Старый сказал молодому: «Ты у меня подглядываешь, потрох сучий, ночуешь в моих фишках». А молодой ему: «Ничего я не подглядываю. Ты, пенсионер, играть не умеешь, а я играю хорошо». Третий, в белой фуражке, сказал на молодого: «Он наглый. Он и пил нечестно, больше всех. Давай проучим». «Я тебя сам проучу», – сказал молодой и ударил третьего, сбил с него белую фуражку и расквасил ему нос. Тогда первый, седенький, схватил молодого жилистыми руками и стал душить. Другой растер кровь под носом и стукнул парню кулаком по голове. Двое свалили его на землю и давай пинать в грудь, живот и голову. «Ты на кого полез, сопляк? – приговаривал с расквашенным носом. – Я известный в городе хулиган! Видишь, стриженный наголо? Ты кому кровь пустил?» Четвертый сидел у стола лицом наружу, качался и протирал глаза. Протерев, он вскочил со скамейки, заорал и налетел на молодого. Во дворе гуляли взрослые и дети. Все побежали смотреть драку. Глеб тоже вылез из песочницы, остановился в толпе и забормотал, дрожа, припрыгивая и взмахивая руками: «Ой! Ой! Ему больно! Больно!» Я, душа, подступала к его сердцу и уходила в пятки. Я звала Глеба спасти молодого. Парень был по пояс гол. Его тело от пинков покрылось ссадинами и синяками. Он не успевал встать, как снова падал, и от боли охал, рычал, хватался за бока, щупал во рту зубы, поблескивая железными коронками. В толпе виднелись сильные мужчины. Одному испуганная женщина сказала: «Что вы стоите? Вы сильный! Разняли бы их!» Он ответил: «Я не дурак. И не подумаю всякую пьянь разнимать. По мне пусть хоть горло один другому перегрызут. Чем больше их взаимно уничтожится, тем меньше будет пьяниц и наркоманов». Другой мужчина хотел вступиться, но жена схватила его за руку: «Ты дурак, что ли? Ненормальный, да? Делать тебе нечего? Больше всех надо? По башке хочешь получить?» Четверо сплелись в клубок, покатились, рассыпались, потянулись к камням и пустым бутылкам. Стало непонятно, кто кого бьет, но трое снова объединились и напали на одного. Кто-то подобрал камень, чтобы стукнуть им молодого. Глебушка сделал шаг, потом выскочил из толпы. «Я, я дурак! – подумал он. – Я ненормальный! Мне надо больше всех! Я спасу! Я разниму!» – и на своих косолапых ногах подковылял к руке с камнем, схватил ее и пригнул к земле, а потом стал расталкивать дерущихся и изо всех силенок бить кулаками. Мужчины удивились, сильнее рассвирепели и с доминошника перекинулись на Глеба. Он попал под их главные удары. А много ли ему было надо? В чем душа держалась. Седенький угодил ему ногой в висок, и я покинула хилое тело и понеслась на небо, слыша внизу детские крики: «Глеба-дурачка убили! Глеба-дурачка убили!» – и неожиданный вопль мамки, бегущей по двору: «Глебушка-а! Сыно-о-чек! У кого рука на сыночка моего поднялась? Он же свято-о-й!»
… Сорок дней проходит, как дурачок умер. Земля намагничивает его душу, притягивает к себе, и я не хочу сопротивляться, я уже парю над ней и, опускаясь все ниже, радуюсь возвращению на Землю, в родной город. Знаю, в чье тело мне переселиться, выбрала, странствуя в космосе. Успеть бы только. К дому, где жил Глеб, примыкает дом, где живет знаменитый художник, его окна смотрят во двор. Он давно не выходит на улицу. Говорят, раньше его картины были прекрасны, но художник изработался, потерял светлую душу и стал рисовать скучно, обыкновенно. Ума много в его картинах, говорят, а души нет. Он потому и не выходит, что стыдно показаться людям, его ведь назвали народным художником. Где он душу-то потерял? Почему тело живым осталось? Разве так бывает? Бедный он, несчастный… Слышала, что я золотая душа, добрая и любящая, я и пригожусь теперь художнику, заменю ему потерянную душу. Лечу к его дому, но прежде вижу свой, и так хочется мне в последний раз увидеть мамку, так грустно одинокой душе. Времени нет, надо торопиться. Снижаюсь до окон художника и через раскрытую форточку влетаю в квартиру. Хозяин сидит в кресле, тощий, небритый, неряшливый, и халат на нем помятый, а из-под халата видна голая грудь. Еще не очень старый он, а морщинистый, бледный, изношенный. На коленях у него кошка. Больше никого в квартире не видно и не слышно, художник живет один, все его бросили. Он гладит кошку, прикрыл глаза и словно спит. В комнате пыль, беспорядок, и постель не убрана. Возле кресла на полу стоит бутылка. Художник опускает за кресло руку, берет бутылку и подносит горлышко ко рту. «Сейчас, сейчас! – думаю я. – У тебя прояснятся тусклые глаза. Ты встрепенешься и порозовеешь, захочешь вымыться под душем, гладко побриться и хорошенько поесть, а дальше чему-то обрадуешься и не поймешь – чему, но помчишься, как на крыльях, в свою мастерскую, чтобы взяться за работу. Сейчас, сейчас!..»
Он запрокидывает голову и хочет глотнуть из бутылки. Я опережаю вино и прежде него вливаюсь в бренное тело.
Душа Альберта Карышева
Смерть уже подступала ко мне, когда я был помоложе, но смилостивилась смерть и не отделила душу от тела. Теперь я устаю, старею, и душа моя готовится к стремительному полету меж звездами.
Я примерно знаю, как это произойдет. Душа покинет тело скоро и бесшумно, но не прямо вырвется на свободу – сперва минует длинный коридор, тоннель или глубокий колодец, в которых встретит образы близких мне людей, покойников разных поколений, а в конце она увидит свет солнца, такой же праздничный и тревожный, какой поражает младенца, выходящего в мир людей из лона матери. Тоннель я помню хорошо. Моя душа достигала его середины, но потом вернулась назад, в тело…
Девять дней после моей смерти она будет свободно летать над Землей, как всякая человеческая душа, и, пользуясь особой текучестью своей субстанции, проникнет всюду, куда ее повлекут чутье и любопытство (я условно приземляю особые качества отлетевшей души, даю им обиходные названия, так как других не знаю).
Мне уже видится, как она плывет над Владимиром и с грустью смотрит по всем направлениям, но более всего разглядывает город внизу, жалеет обитающих в нем людей. С траурным замедлением, словно в потоке похоронной процессии, душа моя направляется к старому кладбищу, к могилам близких: матери Анны, бабушки Марфы, сестры Виолетты и тетки Дины, всех, с кем я в начале войны, в сорок первом году, эвакуировался во Владимир из родного Наро-Фоминска. Теперь-то душа найдет эти могилы, вырытые одна возле другой. При жизни я напрасно искал их долгие годы. Бульдозер, направляемый твердой рукой, снес многие травянистые холмики, отмеченные бедными памятниками, а на другие упали вековые деревья, поверженные пильщиками, которых для этого позвали. «Ну, вот, – скажет душа моим покойным родным. – Хоть под древесными завалами, под хворостом и мусором, но напоследок я отыскала ваши могилы. Полечу дальше, прощайте. Из прежних поколений нашей семьи, – заметит душа, – больше никого не осталось в живых, а поздние поколения – совсем уж юные, некоторые вроде бы даже иноплеменные».
Помедлит душа над Владимиром. Многое она помнит в этом городе: детство мое, горе и счастье, – и в нем еще живут друзья и недруги, с ними бы и хотела душа проститься, их времяпровождение желала бы подсмотреть. Она было ринется в чей-нибудь дом, но, знаю, до места не долетит. Как бы ни разжигалось ее любопытство, она не станет подглядывать, остановится, в ней заложено праведное русское воспитание, и душа знает: достойно лишь смотреть, в настоящее и будущее, а подсматривать – гнусно. Но простить и проститься душа все-таки сможет, явившись друзьям и недругам в странных сновидениях.
Друзья, друзья, друзья… Они словно птицы, сопровождающие тебя в полете. Мы пили водку, пели под гитару, болтали о литературе и политике, ходили в лес по грибы, искали взаимного сочувствия в огорчении и радости и были уверены, что это и есть настоящая дружба, а иной быть не может. Но вот недавно я подписал мою книгу одному человеку, употребив душевные испытанные слова: «На память старому другу», – и в ответ услышал: «Знаешь, я, честно говоря, как-то не чувствовал себя таковым. Твердо не чувствовал, ей-богу. Нет, мы друзья, конечно… Ничего плохого не подумай, но внутренне я себя другом не чувствовал, больше внешне проявлял…» Я удивился, опечалился и не спал три ночи, но потом успокоил себя рассуждением: главное то, что я сам искренне дружил, а дружествен ли был друг – это остается на его совести. К тому же настало время неожиданных признаний и необыкновенных превращений. Мы живем в страшную пору. Многие накладывают на себя руки и сходят с ума. Вот и старый друг, в некотором смысле, наверно, повредился. Но, может быть, наоборот, он стал разумнее и понял, что теперь удобно ему дружить с кем-нибудь более современным, чем я, неисправимый идеалист и романтик. Слаб человек. Я на него не сержусь. Со всеми друзьями моя душа расстанется без обиды и ожесточения. Если раньше и таились в ней обида и ожесточение, то, освободясь от тела, она утратит дурные качества и понесет по небу философскую мудрость, любовь к близким, друзьям и прощение недругам.
Предполагаю, что из города она направится к морю, скорее всего – на Север. Обстоятельства жизни не дали мне навсегда связать с морем судьбу, но отлетевшая душа в полной мере удовлетворится его созерцанием. Она застанет бледные сполохи на низком северном небосклоне и увлечется жутковатой красотой кажущихся стальными волн, блестящих под сполохами, и насладится утренним сиянием мертвых ледяных просторов, на которых вдруг показывается жизнь: то тюлень на льдине, то белый медведь. Душа полетит низко над водой, смешиваясь с воздушными потоками и вихрями закручивающихся волн, и не испытает ни страха, ни холода – только упоение полетом и ощущение близости к великим стихиям. Это и есть в чистом виде «морская душа», описанная в книгах, воспетая в песнях.
Но я всегда наслаждался и пребыванием в лугах и лесах, сверху похожих на теплые осенние моря, бурно зеленеющие от микроскопических водорослей. И душа моя воспарится над ними и, любуясь, сделает плавные неторопливые движения, а потом, если выдастся летняя пора, промчится над Землей на бреющем полете, задевая своим энергетическим полем ветки деревьев и сочные травы, и мягко поколебленные ею цветы прощально махнут ей вслед дикими скромными венчиками.
Душа моя пронесется над городами, селами и по пути заглянет в лица стариков, старух и молодых людей, бледные, изможденные голодом, холодом и неверием в светлое будущее, и многие почувствуют ее прикосновение и удивятся легкому освежающему ветерку, когда на улице будет стоять тихая погода…
Потом она ненадолго прилетит домой. К тому времени тело зароют, но в доме сохранится траурная обстановка, во всех углах заляжет тревожная тишина и останется завешенным настенное зеркало, чтобы душа, видимая в нем, не испугалась сама себя. Я не знаю, кого душа застанет дома, но, надеюсь, лишь внучку и жену. Хорошо бы, только они одни и хоронили меня, хотя и чужим не запретишь, даже людям, весьма душе твоей неприятным. Дороже внучки и жены никого у меня после матери в жизни не было. Они любили меня, труднолюбимого, глубоко уважали и очень берегли, безропотно терпели мои бесконечные писательские занятия и особенности настроения, переменчивого, словно погода в северных морях. Они поплачут обо мне, я знаю, а больше не поплачет никто, и я этого не хочу. Душа моя благоговейно прикоснется к жене и внучке, нежно обволочет их лица и, как сможет, запечатлеет прощальный поцелуй. Она задержится, наверно, в небольшом закутке одной из пары наших комнат, повитает над письменным столом, за которым я написал немало страниц, погрустит о том, что больше уж ничего не напишу и она не войдет главной составляющей в мои консервативные тексты. Но, может, душа и не пожалеет ни о чем подобном. Ведь все было напрасно. Я старался делиться с людьми опытом жизни и душевных потрясений, но они без меня знают, что плохо и хорошо, и я им только мешаю, тем более, что мое знание часто не совпадает с их собственным, навеянным соблазнами веселья, богатства, распутства…
Но, возможно, все случится по-другому: внучка выйдет замуж и покинет наш дом, жена отправится в межзвездный полет раньше меня, и я останусь один на свете. Одному жить нельзя, невозможно, тем более в ощущении каждодневной утраты сил. Пойду в богадельню. Трагедии в этом нет. Трагедия – не в богадельне, а в одиночестве души, в навязчивой мысли, что, наверное, ты напрасно с юных лет до глубокой старости сосредоточивал силы на достижении высоких целей. Ибо вон оно как все вышло. Понятия, словно одежда, вывернулись наизнанку, и люди тоже вывернулись – многих я узнаю только по внешнему виду, но не по внутреннему содержанию. Добро и зло поменялись местами. Славны были праведник, храбрец, подвижник, умник, добряк, бессребреник, славны стали вор, ловкач, деляга, холуй, тупица, злодей и стяжатель. Ну как тут не ощутить полное свое поражение, унижение, попрание в тебе человеческого достоинства?..
Пока решал задачу,
Как возродить страну,
Сосед построил дачу,
Фасад – под старину.
Нет зависти особой —
Страна важней всего!
Но убеждать не пробуй
Ты в этом никого!..
Может быть, и похоронят меня не в гробу, а – из-за нищеты старческой богадельни – в пластиковом или бумажном пакете. А что, тут нет ничего удивительного, многих бедняков так хоронят, вон у нас положили в пакет известного поэта, очень хорошего, на гроб денег не было…
Но на девятый день душа рванется ввысь, в космос, и, разгоняясь до чудовищных скоростей, помчится меж звездами. Это и ритуал, и испытание души на выносливость, греховность, на право свободного переселения. В межзвездном полете она узрит такие чудеса, такие фантастические красоты, какие не приснятся ни одному разумному человеку. Ее поразят внеземные краски, состоящие не из семи цветов спектра белых лучей, а из большего количества цветов иных космических спектров, меняющихся в разных системах отсчета. Она увидит рождение новых и гибель старых звезд, движение бурлящих плазменных паров и ядерные взрывы, раскалывающие космос. Ее многонаправленному взору представятся и гигантские воронки «черных дыр», и выгнутые поверхности «искривленных пространств», и хороводы разновеликих планет и звезд, и волшебные свечения неизвестных источников…
Но душа скоро отвлечется от созерцания космических картин. Они ей быстро наскучат. Душа сильнее загрустит о родственных душах, оставленных на Земле, в первую очередь о милых жене и внучке. С горечью помыслит субстанция о том, «что случилось, что сталось в стране», почему страна лежит поверженная и угнетенная, раздробленная и разграбленная, с неработающими заводами, одичавшими пашнями и отчего многие ее граждане вдруг разом обернулись, как сказочные чародеи: прямодушные – лицемерами, бессребреники – охотниками до денег, целомудренные – пошляками, социалисты – капиталистами. Я, пока еще живой, кладу руку на сердце и громко заявляю, что не в силах понять происходящее. Если бы меня даже жгли на людной площади, я не смог бы ответить на главный вопрос: зачем все это, чего мы добиваемся? Для чего нас неустанно зазывают сладко есть, пить, утопать в роскоши, бесконечно петь и плясать, нередко обрекая самых достойных жить в нищете, лишая обыкновенного хлеба насущного? Но, допустим, у всех будет по пять машин, паре вилл и крупному счету в банке. А дальше что? Разве каждый унесет богатство с собой в могилу или благодаря ему протянет лишнюю тысячу лет? Не обольщайтесь, господа. Не успеете обернуться, а уж пора душе в звездный полет, к которому вы не сумели ее сберечь и подготовить. Я прожил на свете немало лет и давно заметил, что большой достаток лишает человека души. Гладким, белым становится лицо богача, но как бы пластмассовым, безжизненным. Его глаза хлопают пластмассовыми веками, но перестают сиять, блестеть, суроветь и нежнеть, плакать и смеяться, в них не отражается даже сморщенная увядшая душонка – только биологические потребности тела да цифры банковских счетов…
Но душа Альберта Карышева будет метаться по космосу, предвидя близящийся неотвратимый день, сороковой после смерти плоти, волнуясь и беспредельно наращивая скорость. Я не знаю, кого во мне к концу жизни станет больше: праведника или грешника и хватит ли душе сил переселиться в новое живое существо. Стараюсь, чтобы все кончилось благополучно, и желаю своей душе надежного пристанища в тельце крепкого младенца мужского пола. Пусть из мальчика вырастет яркий, как солнце, политик, дерзкий боец за справедливость и русскую честь, могущий собрать и сплотить несметные силы ратоборцев и с ними противодействовать затхлому иноземному владычеству, временно, словно татарское иго, воцарившемуся в России.
До встречи!
Из хроник грядущего
Сон
1
Сон тягостный, ужасный, вязкий, как смола.
От него не спастись, он не уходит из памяти; и господин Грешнов, открыв среди ночи глаза, ощущая на лице холодную испарину, водит ладонью по лбу, шевелит губами и думает: «Было или грезилось? Видел кошмар или натурально спускался в проклятое подземелье? Что делать? Что делать? Несомненно, однажды со мной что-то подобное случилось. Но где, когда и каким образом?»
Он протягивает руку и нащупывает плечо жены, крепко спящей, прихрапывающей, поднимает над подушкой голову – перед ним широкие венецианские окна его спальни. Слабый звездный свет сочится в спальню с улицы. Летняя ночь тиха, душновата, и сквозь открытые окна не веет прохладой, и дорогие полупрозрачные гардины не шелохнутся. Озирается, видит большое напольное зеркало, отражающее дымчатый звездный свет; знакомые предметы обстановки различает Грешнов в ночном сумраке и снова раздумывает: «Слава Богу – сон. Я богатый добропорядочный человек. Но откуда в моей памяти это мрачное грязное подземелье? Может быть, оно есть где-то среди развалин старого города, но какое я имею к нему отношение?»
Грешнов зевает, зажмуривает глаза и пробует уснуть; но стоит ему, ощутив невесомость, начать погружаться в глубокую дрему, как он вновь, спускаясь по шаткой скрипучей лестнице, переносит в подвал тяжелые пластиковые мешки, мягкие и теплые. Спустился. Кинул мешок возле ног. Щелкнув выключателем, зажег электрическую лампу под дощатым потолком. Тусклый свет озарил подземелье: земляной пол, кирпичные стены – у одной рассыпана картошка, у другой теснятся бочки, пахнущие укропом, чесноком, квашеной капустой. Посреди подвала вырыта яма, в груде черной земли торчит лопата.
Он, Грешнов, берет мешок, подтаскивает к яме и, прежде чем его туда кинуть, слегка его раскрывает. В мешке много мяса, в мясе видны человеческая голова и руки – в загустевшей, кажущейся черной крови. Волосы на голове слиплись, глаза открыты, выкачены, как шары, пальцы на желтых руках скрючены. Грешнову противно и страшно, в горле у него спазмы тошноты. Огромным усилием воли он вырывается из ночного кошмара, словно всплывает со дна омута, опять лежит с раскрытыми глазами и думает: «Что это – отголоски позабытого злодейства? Но как можно забыть такое? Однако, похоже, правда. Слишком натурально. Страшно себе признаться, но каким-то образом я убил человека и, расчленив, закопал по частям в подвале. Вот только подвал этот – откуда он? С детства я жил очень хорошо, вращался в приличном обществе, занятия мои и помыслы были чисты, благородны, и допотопные земляные подвалы я видел только в кино, на картинках и на экскурсиях по развалинам старинных построек».
Спустив ноги, Грешнов садится на кровати, берет с полированного столика сигареты и зажигалку. Жена просыпается, внимательно на него смотрит и спрашивает:
– Что не спишь?
– Докурю и лягу, – отвечает Грешнов.
Лечь-то он лег, но так до утра глаз и не сомкнул.
2
Утром жена наклоняется, приглядывается к супругу, гладит его по ввалившейся щеке.