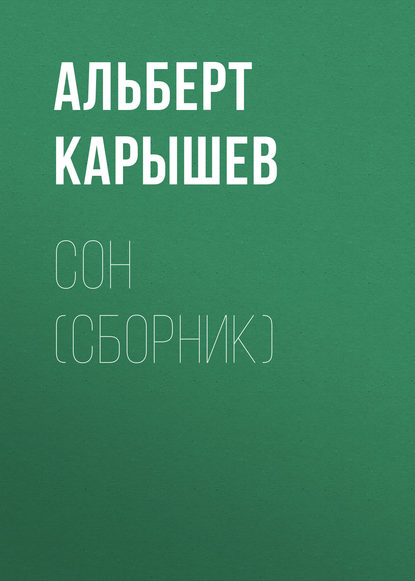По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Немного изменив угол падения, чувствую радость самопожертвования и врезаюсь в среднеазиатскую безводную пустыню…
В пустыне видели средь бела дня необыкновенную, жуткую молнию. С нарастающим гулом она прилетела с ясного неба и, как бомба, ударила в раскаленный песок, эхо оглушительного взрыва разнеслось далеко вокруг. Погонщики верблюдов, наблюдавшие это диво, со страху попадали, а когда снова пришли в себя, то замерли от суеверного изумления: в центре огромной воронки, выбитой молнией, в вечно засушливом смертоносном краю из глубокого подземного источника хлестал водяной фонтан, взлетая на большую высоту, поливая песок на большом пространстве, отсвечивая яркой радугой.
Душа ребенка
Мама! Мама! Мне страшно! Где ты, моя дорогая мамочка? Куда я лечу меж звездами? Зачем ты отпустила душу своего ребенка в космический полет? Как хорошо нам было с тобой вдвоем! Какие у тебя добрые глаза и ласковые руки! Я помню прикасание твоих рук к носившему меня в себе маленькому телу, когда утром, будя сынишку в школу, ты слегка щекотала ему бока! Он ежился, смеялся и хрюкал, подражая поросеночку, и его нежная розовая кожа покрывалась мурашками – такое ей было «приятство» (ты говорила это смешное слово, я помню)!..
Перед тем, как я, ребячья душа, покинула занемогшее тельце, я изо всех сил старалась удержаться в нем, но тельце было очень слабым и не помогало мне. Сперва ребенок страшно мерз, потом мучился от невыносимого жара. «Ой! Ой! – вскрикивал он с закрытыми глазами, извиваясь, разметываясь и часто, хрипло дыша. – Не надо меня мыть! Сделайте воду холоднее! Прогоните злого старика!»
Мама каялась Богу в каких-то грехах, вдесятеро ею преувеличенных, и просила его спасти невинное дитя. Она не была истинно верующей, но в детстве крестилась. Бог жил в ней, и она вспоминала о нем в трудную минуту. Мама обращалась даже к лютой болезни, терзавшей сына: «Перестань, перестань его терзать! Если тебе надо кого-то убить, убей меня!»
Перед смертью ребенок затих и приподнял голову, всматриваясь в толпу, молча двигавшуюся по каменистой дороге. Толпа несла красные маки и черные флаги. Маки расцвели в дивном саду, а флаги перекрасились из алых, прежде развевавшихся над домами и праздничными колоннами. Толпа шла все быстрее, потом побежала и вдруг понеслась по воздуху, рассеиваясь, как подхваченная ветром палая листва. Флаги кружили вороньем, а маки разлетались брызгами крови. Мальчик взмахнул крыльями и полетел вслед за толпой, видя себя самого, вдалеке превращающегося в точку. В яви же он уронил голову на подушку, вздохнул глубоко, облегченно и, потянувшись и немного выгнувшись, замер со строгим выражением исхудавшего личика. Медсестра кинулась делать ему укол, но остановилась, посмотрев на врачей. «Вася! Васенька! Уснул, что ли? – заговорила мать, низко склоняясь над сынишкой, трогая его за плечо. – Открой глазки! Посмотри на меня! Это я, твоя мама! Меня к тебе пустили! Я с тобой!» Но душа уже оставила маленькое тело. Отлетев под потолок, я сверху наблюдала за происходящим. «Жаль, – шепнул врач-мужчина женщине-врачу. – Воспаление запущено, а организм ослаблен». «Доводят болезнь до отека легких, а потом жалуются на нас», – ответила женщина-врач, достала платок и вытерла слезы. «Не в этом дело, – опять сказал мужчина. – Просто жизнь такая». Я-то, душа, ясно разобрала их перешептывание…
Девять дней мама плакала, а я порывалась вернуться в тельце, но его поле, заряженное одинаково с полем витающей над ним души, отбрасывало меня назад. На девятый день пришли мамина подруга и соседская бабушка. Втроем они и пожалели меня, горемыку, и выпили немножко за упокой детской души. Едва успели они пожелать мне Царствия Небесного, как проявился закон отчуждения души от прошлой жизни, действующий ровно на девятый день после смерти человека, и меня с такой силой повлекло через щелочку в оконной раме в голубое поднебесье, что я не успела даже понять, что навсегда улетаю из родного дома.
Лечу, лечу, лечу! Поднимаюсь все выше. Достигаю космоса. И вижу такие чудеса в необъятном царстве звезд, планет и таинственных явлений, какие ни один человек на Земле не сможет себе представить, сколько бы ни напрягал он воображение, и слышу свист проносящихся мимо и сквозь меня больших и малых камней, глыб льда и спекшегося железа. Звуки, между прочим, неплохо распространяются в скоплениях космической пыли, не хуже, чем в воздухе. Ух, красиво и страшно! Говорят еще, здесь невероятно холодно, абсолютный нуль, но я не замерзаю, как не сгорела бы в чудовищном пламени, долети я до Солнца. Холодно было тельцу мальчика, которому я принадлежала. Вася и захворал от стужи в доме. Зимой отключили паровое отопление, и угол заиндевел, засверкал, как посеребренный. Мама зажгла электрическую грелку, взяла сына в свою постель и крепко прижала к себе, но на рассвете услышала его сухой надсадный кашель и ощутила исходивший от мальчика жар…
Мама, мамочка, мне плохо без тебя! Душа твоего ребенка так печальна, так одинока! Передается ли моя печаль твоей душе? Если бы я могла плакать, то, наверное, плакала бы бесконечно. Ведь я все ясно сознаю и очень страдаю, а не безразлично скольжу по Вселенной подобно световому лучу. Душа ребенка хоть и неопытна, но не меньше, не черствее и не глупее души взрослого. Она пуще томится, безошибочнее различает правду и ложь, скорее отзывается на чужую беду, улавливает суть многих явлений и чувствует бесспорные истины. Ребенок, конечно, не может выразить все свои догадки и представления, но не слишком на это горазд и взрослый человек.
А помнишь, мамочка, себя и Васю счастливыми? Тогда еще у мальчика был папа. Он дарил Васе игрушки и бегал ему в радость «лошадкой», встав на четвереньки, посадив краснощекого веселого бутузика себе на спину. Все вместе вы… нет, мы, мы!.. все вместе мы гуляли в парке, ходили на майскую демонстрацию, расцвеченную красными флагами, и папа носил сынишку на плечах и приподнимался на цыпочки, чтобы все малышу было видно. Папа служил военным летчиком. Он был красивый, умный и сильный мужчина. Вы оба были красивые, умные и сильные, стоили один другого и жить друг без друга не могли. Когда папа летал, ты, мамочка, смотрела с балкона или из окна нашей квартиры в небо, тревожилась и грустила, но он благополучно возвращался, и все так хорошо у нас складывалось до тех пор, пока однажды взрослые люди в стране словно все до единого не посходили с ума. Взрослые неожиданно заволновались, засуетились, бросились смотреть по телевизору и слушать по радио какие-то шумные злые передачи и с безумными лицами стали повторять скороговорками, выкрикивать и петь длинное слово «де-мо-кра-тия», тяжелое такое, громоздкое, железное, словно произведенное роботом.
Это слово витает рядом со мной. В посвисте рассекающих космическую пыль метеоритов, в грозных отдаленных громах, гигантскими волнами катящихся от места взрыва солнц, в стенаниях грешных душ, встречающихся мне на пути, я слышу: «Демократия! Демократия!» – и еще больше страшусь Вселенной и космического одиночества. Мама, мама, прилетай ко мне! Вместе помчимся меж звездами! Вместе – не страшно, а интересно: пространство передо мной хоть и черно, как сажа, но вокруг много ярких огней и каких-то витающих мерцающих шариков, похожих на земные шаровые молнии. В космосе часто вспыхивают и переплетаются радуги, не коромыслообразные, но изогнутые по-всякому, так как пространство здесь то выпрямлено, то искривлено. Многие из радуг – не виданных мной раньше оттенков, потому что свет от звезд исходит многоцветный, и состоит каждый цвет еще из семи цветов, и преломляются лучи не в водяных капельках, а в прозрачных космических пылинках. Тут есть такие маленькие звездочки, что с ними можно играть, как с детскими игрушками. Если человек к ним притронется, руки его сгорят, испарятся, но душа обволакивает игрушечные звезды, держит их в себе и, позабавившись, несется дальше. Еще я видела огромные сияющие воронки, они медленно поворачиваются вокруг своей оси и всасывают метеорные тела и мелкие звезды в другие галактики. Душа-странница тоже может попасть в воронку, когда зазевается, но если поостережется, то проскользнет мимо опасного жерла за счет сверхсветовой скорости…
А однажды Васин папа вернулся домой хмурый и сказал: «Горючего нет, самолеты стоят, а я, кроме как летать, ничего больше не умею. Денег нам не платят, офицеры стреляются. Всё. Точка. Завтра еду в Чечню. Подписал контракт. Там, наверно, хорошо заработаю». Ты, мамочка, заплакала, закричала: «Не смей! Сумасшедший! Хочешь сделать меня вдовой, а ребенка сиротой? Лучше я буду работать на десяти работах! Наберу дополнительных уроков и подряжусь еще лестницу в нашем подъезде мыть! А ты не смей! Не пущу!» Первый раз в жизни мальчик видел ссору между родителями. Впервые отец не заиграл, не пошутил, не заговорил с ним. Он уехал в Чечню и оттуда прислал хорошее письмо, в котором просил у жены и сына прощения. А потом, я знаю, улетел в космос. Помню, он мечтал побывать на других планетах, вот, может, и побывал, только одной своей душой…
«Убили, убили!» – повторяла ты криком, потом шепотом, а лицо у тебя было чужое, старое, серое, и глаза – в пол-лица. «Кто убил?» Ты не ответила Васе, даже не обернулась, а если бы направила глаза на сына, то, наверное, посмотрела бы сквозь него. К ночи, когда помутнение разума прошло и ты горько-горько заплакала, обнимая ребенка, он задал тот же вопрос: «Кто убил?» «Сейчас скажу», – ответила ты и сама понесла Васю в постель, хотя он вырос и был уже тяжеловат, и, уложив его спать, начала жутковатую сказку, то ли для Васи, то ли для себя: «Злой старик пришел на нашу землю, и лучшие, умные, красивые люди стали погибать. Папа твой погиб, теперь мы… Денег мне не платят. Никому из моих товарищей-учителей ни за что не платят, словно мы и наши дети не люди вовсе, а бездомные собаки, обреченные рыскать по помойкам. Некоторые люди рыскают, вынимают из мусорных баков и сдают бутылки. Я тоже пробовала, но не могу… Цены так быстро повышаются, что случайно заработанных денег и на плохую-то жизнь не хватает. Впору идти побираться, да вокруг много бедных, а богатые не подадут. Пока старик-кащей жив, беды не оберешься. Надо, чтобы он сдох». «Я, как вырасту, убью его», – сказал Вася. «Убивать не надо. Это грех на душу. Пусть умрет своей смертью. Есть еще слуги кащеевы. К тому времени, когда ты вырастешь, от него и слуг следа не останется».
Нет, Вася не вырастет. Он на Земле больше не существует. Я, его душа, скитаюсь в бесконечном пространстве, до сих пор сжимаясь от ужаса перед тем стариком и догадываясь: он уничтожил и Васю, выследил и напустил порчу, наверное, хочет весь род наш извести. Не прилетай, мама, ко мне. Лучше как можно дольше живи, назло старику, выйди опять замуж и роди много детей. Только будь осторожна, хитра и убереги от старика детей и мужа…
Летаю меж звездами сороковой день, и близок час, когда должна буду поселиться в чьем-то новорожденном тельце. Я выдержала в космосе этот тяжелый срок, определенный таинственным законом, и мое стремительное движение замедляется, я направляюсь к своей планете и вот уже плавно скольжу над ее поверхностью в голубом поднебесье. Слышала я, будто в межзвездном полете при запредельной скорости время течет по-иному: механические часы отсчитывают здесь сорок дней, а на Земле пройдет, может быть, столетие, – но вглядываюсь в родной город и ничего нового не замечаю: опять заснеженные мусорные улицы и унылые, суровые, злые лица людей. Налево шумит толпа с красными флагами, направо с трехцветными. Там строится особняк, тут беженцы ставят на снегу самодельную палатку, больше им негде жить. В одном конце города дерутся пьяные, в другом милиционер, весь серый, как мышь, тащит за шиворот испуганного худого человека. Шикарный легковой автомобиль переезжает малого ребенка и мчится дальше по мостовой. Женщина с грудным младенцем на руках примерзла к асфальтовому тротуару, тянет озябшую ладонь, просит подаяния. Этот тощ, как скелет, а тот дороден, словно племенной боров, самоуверен, состоятелен. И все окутывает серая мгла, и бедные с богатыми ненавидят друг друга. Нет, ничего не изменилось. Видно, к отлетевшей душе правила иного отсчета времени не относятся…
Мама! Мама! Почему так плохо? Почему грязно и грустно? Почему так злы люди? Не буду в них переселяться! Возьми меня к себе, обними мою душу своей душой и не отпускай от себя! Мне страшно!..
Парю над планетой. Заканчивается время отрешения. Неодолимая сила прижимает меня к Земле и нацеливает куда-то. Мне все труднее сопротивляться, я подчиняюсь этой силе и теперь думаю лишь о том, в чье тельце мне суждено вместиться. Наверное, много значит тут и потребность души: только что в порыве отчаяния я отказывалась наделить собой человека. Как магнитом, влечет меня не к родильному дому, а к жилому, к кирпичной многоэтажке, и я снижаюсь до подвальной отдушины, просачиваюсь в нее и завершаю свой земной путь за теплой трубой, где на каких-то старых тряпках бездомная кошка выводит котят. Кошечка стонет и, откинув заднюю лапку, тужась, помогает выйти из чрева котенку. Достигаю новорожденного, внедряюсь в его крохотную плоть и больше не существую сама по себе.
– Опять Мурка окотилась, – говорили во дворе старушки, разглядывая белых котят, высунувших мордочки из подвала и сощурившихся под лучами весеннего солнца. – Может, кто подберет. А то – собаки разорвут или дети прибьют. Надо кошачьему семейству супчика принести.
Душа матери
– Бедный! Маленький! Откуда ты? Где твоя хозяюшка? А где мама? Пропадешь тут один!
Худенькая женщина, присев на корточки, гладит льнущего к ней белого котенка. У женщины глубоко запавшие печальные глаза и тихий голос. Котенок вылез через подвальную отдушину на свет Божий, на солнышко, потянулся, зевнул и, увидев женщину, пошел за ней. Вообще, он людей сторонится, знает уже, несмотря на свой малый возраст, что люди могут быть опасны, но от этой чужой женщины не шмыгнул назад в подвал. Женщина спешила, но, обратив на котенка внимание, задержалась возле него. Торчком поставив хвостик, малыш трется боком о ее ногу и жалобно мяучит, а когда незнакомка пытается продолжить свой путь, впритруску бежит за ней. Она опять останавливается.
– Что ты, глупенький? Я ведь на работу опоздаю. Давай поцелую тебя в розовый носик и пойду. Вот так. Чмок-чмок! Теперь ступай ищи маму или хозяйку. Больше не бегай за мной. Хорошо?
Простившись с ним, она сворачивает в подворотню, минует ее и идет к автобусной остановке. Котенок послушно остается на месте и смотрит ей вслед.
Возвращаясь к вечеру, она опять встречает его во дворе и, вздохнув, берет на руки. Прижимая детеныша к груди, женщина входит в свой подъезд, вызывает лифт и поднимается к себе домой. Открыв дверь, она ставит у порога сумку со школьными учебниками и тетрадями, пускает гостя в прихожую и зовет в кухню.
Налив котенку молока из пластикового пакета, хозяйка смотрит, как жадно малыш лакает, поставив одну лапку в блюдце, фыркая и от удовольствия дрожа. Худ очень, голоден, брошен на произвол судьбы кошкой-матерью, потерявшей голову от успеха у котов. Его беспризорные братцы однажды ушли куда-то из подвала и не вернулись; он живет в одиночестве, скудно питаясь подаянием, и, конечно, давно не видел молока. Шерсть на его подбородке, намокнув, собирается пучочком, отвисает козлиной бородкой. А женщина сидит у стола, жалостливо смотрит на котенка и думает: «Что это он увязался? Куда я его дену? Не выброшу же после того, как принесла домой и накормила!»
– Пей, пей. Не спеши. Никто не отнимет. Будет мало, еще подолью.
Котенок оборачивается, жмурится, благодарит взглядом, а благодетельница продолжает с ним разговаривать:
– Плохо мне, котик, печально. У меня муж погиб, а потом сынок заболел и умер. Жить без них не хочу, не могу. Знаю, это великий грех, но не хочу. Молю Бога, чтобы послал мне скорую кончину, и прошу у Бога прощения…
Котенок пересытился, отяжелел, отступил от блюдца. Он стоит со вздутым животом, облизываясь, качаясь, закатывая осоловелые глаза, потом валится на бок и засыпает. Женщина относит его в комнату. Там она ложится на диван отдохнуть, а спящего малыша оставляет у себя на груди. Он свернулся калачиком и сквозь сон тихонько мурлычет.
Она согревается его живым теплом и уже горячо любит это крохотное пушистое создание. Женщина поглаживает котенка по мягкой шерстке и чувствует почти кровное родство с ним. Ей необыкновенно хорошо и хочется плакать светлыми слезами, но оттого, что котенок доставляет ей несказанную радость, ее человеческое горе делается горше, и она опять думает о том, что не желает больше жить. С той поры, как потеряла близких, она толком и не живет на свете, механически ест, спит и ходит на занятия в школу, вяло движется, не улыбается и, точно древняя старуха, смотрит потухшими глазами. Настроившись умереть, женщина теряет силы и чует приближение смерти. Нынче ей очень неможется: стоило прилечь, как по телу разлилась болезненная усталость, голова отяжелела, затуманилась, а сердце стронулось с места, захолонуло и застучало с перебоями. «Во рту сухо, – думает она. – Схожу попить», – и, придерживая котенка, хочет подняться с дивана, но не превозмогает слабости. Котенок, вдруг проснувшись, встает и, потоптавшись легкими лапками на ее груди, внимательно разглядывает благодетельницу. «Что это он так смотрит? – думает женщина. – Прямо как человек».
– Буду жить для тебя. Я тебя не брошу.
Прошептав это, она светлеет лицом и поблескивает ожившими глазами. Ей чудится, будто тело крепнет, наполняется энергией, вот только почему-то холодно ногам, стынут ноги, как на морозе. Холод поднимается выше, достигает туловища. Женщина, думая, что просто зябнет, тянет руку к висящему на стуле темному пледу и тут вдруг догадывается, что умирает. «Зачем? Как некстати! Не надо! Это нелепо! Ведь заново обретается смысл жизни, наступает успокоение, греет душу любовь к бедному котенку!» Одним резонным доводом она противится смерти, другим ускоряет ее: «Ты сама хотела преждевременной кончины. Твое сердце истощено безысходной тоской, мозг иссушен черными мыслями, даже течение крови, наверное, замедлено безразличием к жизни. Все твое существо подготовилось к смерти. Она явилась в нежданный час, и ее не отвратить. Поздно».
Холод-смерть сковывает женщину, подбираясь к ее сердцу. Умирающая – в сознании. Она чувствует, как, слабо щелкнув, сердце останавливается, как отлетает душа, а вскоре душа видит распростертое на диване тело, которое покинула, и жалеет о нем. Котенок дугой выгибает спину, взъерошивает шерсть, раздувается, как пузырь, и, ощерившись, не по-котячьи страшно шипит. Он соскакивает с леденеющего трупа и в недоумении смотрит на него.
* * *
Я, душа, боюсь, что малыш пропадет, погибнет от голода. Кто о нем позаботится? Кто нальет ему молочка? Скоро ли кто-нибудь спохватится, что одинокая женщина перестала выходить из дома?
Витаю над котенком, обволакиваю его собой и грею. Он улавливает мое слабое поле и, вспоминая человечье тепло, радуется, пробует мурлыкать. Медленно плыву в кухню, животное неловко спрыгивает, сваливается с дивана, идет за мной. Хочу, чтобы оно поело. Это возможно, если котенок догадается влезть на стол и сунет мордочку в банку с кипяченым молоком.
Но он вдруг опять настораживается, беспокойно озирается по сторонам. Ну, ничего. Как станет голод грызть ему кишочки, как сведет судорогой животик, малыш облазит все углы, доберется до молока, а потом и опрокинет банку. Некоторое время продержится.
Возвращаюсь в комнату, а он опять за мной, навостряет уши, вертит головой и шевелит усами – чует, бедняжка, мое присутствие, да ничего понять не может. Облетаю пустую квартиру, прикасаюсь к фотографиям на стене, втиснутым в железные рамки, целую, как могу, портреты близких и потом ласкаю котенка. Будь здоров, котик! Постарайся не умереть до тех пор, пока тебя найдут! Я еще вернусь узнать, как твои дела, а сейчас, извини, полечу на волю, посмотрю вокруг, давно уж открыто не смотрела на мир, на людей, таясь в замкнувшемся от горя человеке.
Вылетаю в открытую форточку и, набрав высоту пассажирского самолета, парю над моим городишком. Все мне в нем знакомо, но не то, чтобы все опостылело, просто многое связалось с тяжелыми воспоминаниями. Городишко не так далек от Москвы. Направляюсь в Москву. Знаю там одно место, подходящее для опечаленной души. Его отыскала после пережитого горя молодая вдова и мать умершего мальчика – поехала однажды в столицу, зашла с одной своей подругой в крематорий, а в погребальном зале играют третью часть сонаты номер два си бемоль минор Шопена, похоронный марш. С тех пор меня влечет туда слушать траурные сочинения, концерты великой музыки, в которых подобран скорбный репертуар. Несчастную душу грустная музыка умиротворяет, а веселая тревожит. Всякая душа, я знаю, по-своему склонна к минору, к ощущению собственной и всемирной беды. Иное дело – душонка. Чем меньше она и мельче, тем беззаботнее веселится и безогляднее пляшет даже на кладбище, на могилах, на трупах, на детских косточках…
Витаю над чьим-то гробом в похоронном зале. Нынче обряд сопровождается музыкой Баха, «Страстями по Матфею». С десяток мужчин и женщин в черном склонились над покойником, кто-то целует его в лоб. Его острые нос и подбородок, туго обтянутые желтой кожей, скоро исчезают под крышкой. Гроб тихо движется по эскалаторной ленте, но вдруг останавливается и опускается под разверзшийся пол, в огнедышащую печь. Вот и все. Был человек – и не стало. Вмиг погиб «внутренний мир», микрогалактика. Смерть уничтожила помыслы и страсти, огонь поглотил тело. Покойный, наверно, и не вспомнил ни разу, что бренен, и был он, возможно, не в меру самонадеян, жаден и честолюбив. Но… остается зола. Впрочем, где-то скитается его отлетевшая душа, ждет так же, как я, времени переселения.
Выбираюсь из крематория и, поколебавшись над ним в клубах дыма, поднимающегося от печей, стремлюсь вверх. Душу тянет летать. Чем встревоженнее она, тем быстрее способна двигаться. Мгновение, другое, третье – и я пронизываю синий воздушный слой и оказываюсь в черном космосе. Мне бы встретиться здесь с душами мужа и сына, сплестись с ними, слиться и, чувствуя трепет наших биополей, полетать в межзвездном пространстве. Но души милых моих близких давно обитают в ком-то другом, составляя вместе с новой плотью новые живые существа. Их мне не найти. Я одинокой осталась на Земле, одинока и во Вселенной.
Тоскую по мужу и ребенку, разгоняюсь сильней и мчусь как фотонная ракета. Еще недавно неплохая школьная «физичка» рассказывала детям про фотонные ракеты и межзвездные корабли (похоже, люди никогда их не построят, скорее, погубят себя, самоуничтожатся в распрях), а теперь ее собственная душа разогналась до световой скорости. Полетав, пометавшись, заглушив свою боль чудовищно быстрым перемещением в пространстве, вдруг устаю, притормаживаю и останавливаюсь, а потом дрейфую в потоке солнечного ветра. Попадаю в радиоволны, качаюсь на них, словно купальщица на волнах теплого моря. Сигналы идут от Земли. Наверное, люди ищут во Вселенной братьев по разуму. Цель благородная, но как было бы хорошо, если бы люди Земли чаще посылали приветы в души друг друга…
Нет сил любоваться космическими красотами. Летаю бесцельно, снова оплакиваю души сына и мужа. На пятый день возвращаюсь домой. Форточка закрыта, окна занавешены. Проникаю в щель. О, Боже! Тело, покинутое мной, до сих пор не захоронено! Оно лежит на столе, одетое для погребения в серое штапельное платье (было такое у учительницы, она думала, что выросла из него) и в простые рифленые чулки, а обутое в парусиновые тапочки. Лицо покойной как бы сшито из атласной материи, глазницы слишком глубоки, нос длинен, все черты неестественно впалы и выпуклы, челюсть подвязана бинтом. Лицо то и не то, знакомое и чужое. Это не лицо человека, а «маска смерти». В комнате милиционер, стоя пишет в блокноте. Другой посетитель – учительница не очень молодая (у нее от слез покраснели глаза) – берет с подоконника свою сумочку и, направляясь к двери, извиняется, обещает, что на похороны придут все учителя. Соседская бабушка в черном платочке крестится и причитает над телом, делится с милиционером:
– Отмаялась, сердечная. Уж очень тосковала, сил смотреть не было. Пять ден, как померла, а никто не хватился. Хорошо, я котенка услышала, думаю, что-то тут не так, мяучит под дверью, душу разрывает… Голодный, смотрю, кожа да кости, я его к себе взяла, накормила, напоила… И схоронить по-человечески не можем. Ни гроб купить, ни помянуть не на что. Денег на похороны никто не дает. Нету ни у кого денег, не платят… Когда такое бывало? В пакете придется в могилу класть! Вот до чего докатились!..
– Тут я, мамаша, не компетентен, – отвечает милиционер, продолжая писать в неудобном положении. – Мы гробы не покупаем. Наше дело удостоверить, что гражданин или гражданка скончались сами по себе, а, например, не убиты кем-нибудь или не доведены до самоубийства. В противном случае заводим уголовное дело. Милиция за похороны не отвечает.
– А теперь никто ни за что не отвечает! – сердито бормочет старушка, и жалко мне ее, совестливую и беззащитную. – А если кто и отвечает, то все равно не спросишь с него! Нынче человека и при жизни мордуют, и после смерти!.. Ладно, мы схороним! Поверх могилы не положим! И отпоем, и поминки какие-никакие всем миром справим! А этим жирным котам, которые жизнь такую устроили, на веки вечные ни дна ни покрышки! Прости меня, Господи!..
Не дослушав, опять стремлюсь на волю. Спасибо, добрые соседи! Спасибо, учителя! Если доведется увидеть Бога, расскажу о вас! Опечаленной душе в космосе приютнее, чем на Земле. Здесь дождусь я времени отрешения, оно в том лишь состоит, что, начиная со дня девятого после смерти тела, Земля будет мне чужда и я не смогу к ней приблизиться вплоть до дня сорокового.
Как ни горько мне вспоминать мужа и сына, я невольно созерцаю широкие многоцветные лучи, прорезавшие черноту бесконечного пространства. Источник свечения тоже виден, он выкатывается из-за огромной малиновой планеты, ослепительно сияя, крутясь волчком, испуская эти чудесные лучи, трепетные, как крылья бабочки. В то же время – благодаря необыкновенной способности души – гляжу в обратном направлении, любуюсь видом приближающейся ко мне звездочки. Голубая звезда зеленеет и расправляется, как полотно, потом обращается в шар, желтеет, краснеет, но ее жгучая краснота перехвачена белыми кольцами – это, наверно, в лаве выделяется плазма. Лава бурлит, бушует, я вижу ее грозные всплески, похожие на всплески кипящего в кастрюле бульона, и мне не мешают смотреть клубы газов, ползущие по расплавленному шару. Сказочные картины…
К «сороковому дню» сам собой замедляется мой стремительный полет. Что-то влечет меня, притягивает к Земле, и я не сопротивляюсь могучей силе, душа рада возвращению на Землю. Встретив стайку певчих птах, следую за стайкой, с ветерком мчащейся к загородному лесу, и на светлой опушке перелетаю от куста к кусту, от дерева к дереву, а вскоре, покинув птиц, облюбовываю плакучую березу, одиноко стоящую среди солнечной поляны. Меж гибких ветвей-ожерелий, унизанных зелененькими листьями, я успокаиваюсь и уже знаю, что потому не направилась в город, что поддалась главному своему повелителю – чувству, приказавшему мне избежать поселения в тельце новорожденного младенца. Зачем я ему, такая печальная и слабая? Человеку нужна душа сильная, веселая, побуждающая его к великим делам, полнокровным радостям и безграничной доброте. А мое место здесь, в лесу. Замечаю маленький нежный побег у самого подножия березы, вот его и наделю собой. Побег со временем превратится в чудесное дерево, и две плакучие березы-родственницы, прильнувшие друг к другу, поразят любителей леса своей необычной одухотворенной красотой. Грибники и ягодники станут задумчиво рассматривать их, отдыхать под гостеприимной сенью и проникаться счастьем бытия, Божьей благодатью.
В пустыне видели средь бела дня необыкновенную, жуткую молнию. С нарастающим гулом она прилетела с ясного неба и, как бомба, ударила в раскаленный песок, эхо оглушительного взрыва разнеслось далеко вокруг. Погонщики верблюдов, наблюдавшие это диво, со страху попадали, а когда снова пришли в себя, то замерли от суеверного изумления: в центре огромной воронки, выбитой молнией, в вечно засушливом смертоносном краю из глубокого подземного источника хлестал водяной фонтан, взлетая на большую высоту, поливая песок на большом пространстве, отсвечивая яркой радугой.
Душа ребенка
Мама! Мама! Мне страшно! Где ты, моя дорогая мамочка? Куда я лечу меж звездами? Зачем ты отпустила душу своего ребенка в космический полет? Как хорошо нам было с тобой вдвоем! Какие у тебя добрые глаза и ласковые руки! Я помню прикасание твоих рук к носившему меня в себе маленькому телу, когда утром, будя сынишку в школу, ты слегка щекотала ему бока! Он ежился, смеялся и хрюкал, подражая поросеночку, и его нежная розовая кожа покрывалась мурашками – такое ей было «приятство» (ты говорила это смешное слово, я помню)!..
Перед тем, как я, ребячья душа, покинула занемогшее тельце, я изо всех сил старалась удержаться в нем, но тельце было очень слабым и не помогало мне. Сперва ребенок страшно мерз, потом мучился от невыносимого жара. «Ой! Ой! – вскрикивал он с закрытыми глазами, извиваясь, разметываясь и часто, хрипло дыша. – Не надо меня мыть! Сделайте воду холоднее! Прогоните злого старика!»
Мама каялась Богу в каких-то грехах, вдесятеро ею преувеличенных, и просила его спасти невинное дитя. Она не была истинно верующей, но в детстве крестилась. Бог жил в ней, и она вспоминала о нем в трудную минуту. Мама обращалась даже к лютой болезни, терзавшей сына: «Перестань, перестань его терзать! Если тебе надо кого-то убить, убей меня!»
Перед смертью ребенок затих и приподнял голову, всматриваясь в толпу, молча двигавшуюся по каменистой дороге. Толпа несла красные маки и черные флаги. Маки расцвели в дивном саду, а флаги перекрасились из алых, прежде развевавшихся над домами и праздничными колоннами. Толпа шла все быстрее, потом побежала и вдруг понеслась по воздуху, рассеиваясь, как подхваченная ветром палая листва. Флаги кружили вороньем, а маки разлетались брызгами крови. Мальчик взмахнул крыльями и полетел вслед за толпой, видя себя самого, вдалеке превращающегося в точку. В яви же он уронил голову на подушку, вздохнул глубоко, облегченно и, потянувшись и немного выгнувшись, замер со строгим выражением исхудавшего личика. Медсестра кинулась делать ему укол, но остановилась, посмотрев на врачей. «Вася! Васенька! Уснул, что ли? – заговорила мать, низко склоняясь над сынишкой, трогая его за плечо. – Открой глазки! Посмотри на меня! Это я, твоя мама! Меня к тебе пустили! Я с тобой!» Но душа уже оставила маленькое тело. Отлетев под потолок, я сверху наблюдала за происходящим. «Жаль, – шепнул врач-мужчина женщине-врачу. – Воспаление запущено, а организм ослаблен». «Доводят болезнь до отека легких, а потом жалуются на нас», – ответила женщина-врач, достала платок и вытерла слезы. «Не в этом дело, – опять сказал мужчина. – Просто жизнь такая». Я-то, душа, ясно разобрала их перешептывание…
Девять дней мама плакала, а я порывалась вернуться в тельце, но его поле, заряженное одинаково с полем витающей над ним души, отбрасывало меня назад. На девятый день пришли мамина подруга и соседская бабушка. Втроем они и пожалели меня, горемыку, и выпили немножко за упокой детской души. Едва успели они пожелать мне Царствия Небесного, как проявился закон отчуждения души от прошлой жизни, действующий ровно на девятый день после смерти человека, и меня с такой силой повлекло через щелочку в оконной раме в голубое поднебесье, что я не успела даже понять, что навсегда улетаю из родного дома.
Лечу, лечу, лечу! Поднимаюсь все выше. Достигаю космоса. И вижу такие чудеса в необъятном царстве звезд, планет и таинственных явлений, какие ни один человек на Земле не сможет себе представить, сколько бы ни напрягал он воображение, и слышу свист проносящихся мимо и сквозь меня больших и малых камней, глыб льда и спекшегося железа. Звуки, между прочим, неплохо распространяются в скоплениях космической пыли, не хуже, чем в воздухе. Ух, красиво и страшно! Говорят еще, здесь невероятно холодно, абсолютный нуль, но я не замерзаю, как не сгорела бы в чудовищном пламени, долети я до Солнца. Холодно было тельцу мальчика, которому я принадлежала. Вася и захворал от стужи в доме. Зимой отключили паровое отопление, и угол заиндевел, засверкал, как посеребренный. Мама зажгла электрическую грелку, взяла сына в свою постель и крепко прижала к себе, но на рассвете услышала его сухой надсадный кашель и ощутила исходивший от мальчика жар…
Мама, мамочка, мне плохо без тебя! Душа твоего ребенка так печальна, так одинока! Передается ли моя печаль твоей душе? Если бы я могла плакать, то, наверное, плакала бы бесконечно. Ведь я все ясно сознаю и очень страдаю, а не безразлично скольжу по Вселенной подобно световому лучу. Душа ребенка хоть и неопытна, но не меньше, не черствее и не глупее души взрослого. Она пуще томится, безошибочнее различает правду и ложь, скорее отзывается на чужую беду, улавливает суть многих явлений и чувствует бесспорные истины. Ребенок, конечно, не может выразить все свои догадки и представления, но не слишком на это горазд и взрослый человек.
А помнишь, мамочка, себя и Васю счастливыми? Тогда еще у мальчика был папа. Он дарил Васе игрушки и бегал ему в радость «лошадкой», встав на четвереньки, посадив краснощекого веселого бутузика себе на спину. Все вместе вы… нет, мы, мы!.. все вместе мы гуляли в парке, ходили на майскую демонстрацию, расцвеченную красными флагами, и папа носил сынишку на плечах и приподнимался на цыпочки, чтобы все малышу было видно. Папа служил военным летчиком. Он был красивый, умный и сильный мужчина. Вы оба были красивые, умные и сильные, стоили один другого и жить друг без друга не могли. Когда папа летал, ты, мамочка, смотрела с балкона или из окна нашей квартиры в небо, тревожилась и грустила, но он благополучно возвращался, и все так хорошо у нас складывалось до тех пор, пока однажды взрослые люди в стране словно все до единого не посходили с ума. Взрослые неожиданно заволновались, засуетились, бросились смотреть по телевизору и слушать по радио какие-то шумные злые передачи и с безумными лицами стали повторять скороговорками, выкрикивать и петь длинное слово «де-мо-кра-тия», тяжелое такое, громоздкое, железное, словно произведенное роботом.
Это слово витает рядом со мной. В посвисте рассекающих космическую пыль метеоритов, в грозных отдаленных громах, гигантскими волнами катящихся от места взрыва солнц, в стенаниях грешных душ, встречающихся мне на пути, я слышу: «Демократия! Демократия!» – и еще больше страшусь Вселенной и космического одиночества. Мама, мама, прилетай ко мне! Вместе помчимся меж звездами! Вместе – не страшно, а интересно: пространство передо мной хоть и черно, как сажа, но вокруг много ярких огней и каких-то витающих мерцающих шариков, похожих на земные шаровые молнии. В космосе часто вспыхивают и переплетаются радуги, не коромыслообразные, но изогнутые по-всякому, так как пространство здесь то выпрямлено, то искривлено. Многие из радуг – не виданных мной раньше оттенков, потому что свет от звезд исходит многоцветный, и состоит каждый цвет еще из семи цветов, и преломляются лучи не в водяных капельках, а в прозрачных космических пылинках. Тут есть такие маленькие звездочки, что с ними можно играть, как с детскими игрушками. Если человек к ним притронется, руки его сгорят, испарятся, но душа обволакивает игрушечные звезды, держит их в себе и, позабавившись, несется дальше. Еще я видела огромные сияющие воронки, они медленно поворачиваются вокруг своей оси и всасывают метеорные тела и мелкие звезды в другие галактики. Душа-странница тоже может попасть в воронку, когда зазевается, но если поостережется, то проскользнет мимо опасного жерла за счет сверхсветовой скорости…
А однажды Васин папа вернулся домой хмурый и сказал: «Горючего нет, самолеты стоят, а я, кроме как летать, ничего больше не умею. Денег нам не платят, офицеры стреляются. Всё. Точка. Завтра еду в Чечню. Подписал контракт. Там, наверно, хорошо заработаю». Ты, мамочка, заплакала, закричала: «Не смей! Сумасшедший! Хочешь сделать меня вдовой, а ребенка сиротой? Лучше я буду работать на десяти работах! Наберу дополнительных уроков и подряжусь еще лестницу в нашем подъезде мыть! А ты не смей! Не пущу!» Первый раз в жизни мальчик видел ссору между родителями. Впервые отец не заиграл, не пошутил, не заговорил с ним. Он уехал в Чечню и оттуда прислал хорошее письмо, в котором просил у жены и сына прощения. А потом, я знаю, улетел в космос. Помню, он мечтал побывать на других планетах, вот, может, и побывал, только одной своей душой…
«Убили, убили!» – повторяла ты криком, потом шепотом, а лицо у тебя было чужое, старое, серое, и глаза – в пол-лица. «Кто убил?» Ты не ответила Васе, даже не обернулась, а если бы направила глаза на сына, то, наверное, посмотрела бы сквозь него. К ночи, когда помутнение разума прошло и ты горько-горько заплакала, обнимая ребенка, он задал тот же вопрос: «Кто убил?» «Сейчас скажу», – ответила ты и сама понесла Васю в постель, хотя он вырос и был уже тяжеловат, и, уложив его спать, начала жутковатую сказку, то ли для Васи, то ли для себя: «Злой старик пришел на нашу землю, и лучшие, умные, красивые люди стали погибать. Папа твой погиб, теперь мы… Денег мне не платят. Никому из моих товарищей-учителей ни за что не платят, словно мы и наши дети не люди вовсе, а бездомные собаки, обреченные рыскать по помойкам. Некоторые люди рыскают, вынимают из мусорных баков и сдают бутылки. Я тоже пробовала, но не могу… Цены так быстро повышаются, что случайно заработанных денег и на плохую-то жизнь не хватает. Впору идти побираться, да вокруг много бедных, а богатые не подадут. Пока старик-кащей жив, беды не оберешься. Надо, чтобы он сдох». «Я, как вырасту, убью его», – сказал Вася. «Убивать не надо. Это грех на душу. Пусть умрет своей смертью. Есть еще слуги кащеевы. К тому времени, когда ты вырастешь, от него и слуг следа не останется».
Нет, Вася не вырастет. Он на Земле больше не существует. Я, его душа, скитаюсь в бесконечном пространстве, до сих пор сжимаясь от ужаса перед тем стариком и догадываясь: он уничтожил и Васю, выследил и напустил порчу, наверное, хочет весь род наш извести. Не прилетай, мама, ко мне. Лучше как можно дольше живи, назло старику, выйди опять замуж и роди много детей. Только будь осторожна, хитра и убереги от старика детей и мужа…
Летаю меж звездами сороковой день, и близок час, когда должна буду поселиться в чьем-то новорожденном тельце. Я выдержала в космосе этот тяжелый срок, определенный таинственным законом, и мое стремительное движение замедляется, я направляюсь к своей планете и вот уже плавно скольжу над ее поверхностью в голубом поднебесье. Слышала я, будто в межзвездном полете при запредельной скорости время течет по-иному: механические часы отсчитывают здесь сорок дней, а на Земле пройдет, может быть, столетие, – но вглядываюсь в родной город и ничего нового не замечаю: опять заснеженные мусорные улицы и унылые, суровые, злые лица людей. Налево шумит толпа с красными флагами, направо с трехцветными. Там строится особняк, тут беженцы ставят на снегу самодельную палатку, больше им негде жить. В одном конце города дерутся пьяные, в другом милиционер, весь серый, как мышь, тащит за шиворот испуганного худого человека. Шикарный легковой автомобиль переезжает малого ребенка и мчится дальше по мостовой. Женщина с грудным младенцем на руках примерзла к асфальтовому тротуару, тянет озябшую ладонь, просит подаяния. Этот тощ, как скелет, а тот дороден, словно племенной боров, самоуверен, состоятелен. И все окутывает серая мгла, и бедные с богатыми ненавидят друг друга. Нет, ничего не изменилось. Видно, к отлетевшей душе правила иного отсчета времени не относятся…
Мама! Мама! Почему так плохо? Почему грязно и грустно? Почему так злы люди? Не буду в них переселяться! Возьми меня к себе, обними мою душу своей душой и не отпускай от себя! Мне страшно!..
Парю над планетой. Заканчивается время отрешения. Неодолимая сила прижимает меня к Земле и нацеливает куда-то. Мне все труднее сопротивляться, я подчиняюсь этой силе и теперь думаю лишь о том, в чье тельце мне суждено вместиться. Наверное, много значит тут и потребность души: только что в порыве отчаяния я отказывалась наделить собой человека. Как магнитом, влечет меня не к родильному дому, а к жилому, к кирпичной многоэтажке, и я снижаюсь до подвальной отдушины, просачиваюсь в нее и завершаю свой земной путь за теплой трубой, где на каких-то старых тряпках бездомная кошка выводит котят. Кошечка стонет и, откинув заднюю лапку, тужась, помогает выйти из чрева котенку. Достигаю новорожденного, внедряюсь в его крохотную плоть и больше не существую сама по себе.
– Опять Мурка окотилась, – говорили во дворе старушки, разглядывая белых котят, высунувших мордочки из подвала и сощурившихся под лучами весеннего солнца. – Может, кто подберет. А то – собаки разорвут или дети прибьют. Надо кошачьему семейству супчика принести.
Душа матери
– Бедный! Маленький! Откуда ты? Где твоя хозяюшка? А где мама? Пропадешь тут один!
Худенькая женщина, присев на корточки, гладит льнущего к ней белого котенка. У женщины глубоко запавшие печальные глаза и тихий голос. Котенок вылез через подвальную отдушину на свет Божий, на солнышко, потянулся, зевнул и, увидев женщину, пошел за ней. Вообще, он людей сторонится, знает уже, несмотря на свой малый возраст, что люди могут быть опасны, но от этой чужой женщины не шмыгнул назад в подвал. Женщина спешила, но, обратив на котенка внимание, задержалась возле него. Торчком поставив хвостик, малыш трется боком о ее ногу и жалобно мяучит, а когда незнакомка пытается продолжить свой путь, впритруску бежит за ней. Она опять останавливается.
– Что ты, глупенький? Я ведь на работу опоздаю. Давай поцелую тебя в розовый носик и пойду. Вот так. Чмок-чмок! Теперь ступай ищи маму или хозяйку. Больше не бегай за мной. Хорошо?
Простившись с ним, она сворачивает в подворотню, минует ее и идет к автобусной остановке. Котенок послушно остается на месте и смотрит ей вслед.
Возвращаясь к вечеру, она опять встречает его во дворе и, вздохнув, берет на руки. Прижимая детеныша к груди, женщина входит в свой подъезд, вызывает лифт и поднимается к себе домой. Открыв дверь, она ставит у порога сумку со школьными учебниками и тетрадями, пускает гостя в прихожую и зовет в кухню.
Налив котенку молока из пластикового пакета, хозяйка смотрит, как жадно малыш лакает, поставив одну лапку в блюдце, фыркая и от удовольствия дрожа. Худ очень, голоден, брошен на произвол судьбы кошкой-матерью, потерявшей голову от успеха у котов. Его беспризорные братцы однажды ушли куда-то из подвала и не вернулись; он живет в одиночестве, скудно питаясь подаянием, и, конечно, давно не видел молока. Шерсть на его подбородке, намокнув, собирается пучочком, отвисает козлиной бородкой. А женщина сидит у стола, жалостливо смотрит на котенка и думает: «Что это он увязался? Куда я его дену? Не выброшу же после того, как принесла домой и накормила!»
– Пей, пей. Не спеши. Никто не отнимет. Будет мало, еще подолью.
Котенок оборачивается, жмурится, благодарит взглядом, а благодетельница продолжает с ним разговаривать:
– Плохо мне, котик, печально. У меня муж погиб, а потом сынок заболел и умер. Жить без них не хочу, не могу. Знаю, это великий грех, но не хочу. Молю Бога, чтобы послал мне скорую кончину, и прошу у Бога прощения…
Котенок пересытился, отяжелел, отступил от блюдца. Он стоит со вздутым животом, облизываясь, качаясь, закатывая осоловелые глаза, потом валится на бок и засыпает. Женщина относит его в комнату. Там она ложится на диван отдохнуть, а спящего малыша оставляет у себя на груди. Он свернулся калачиком и сквозь сон тихонько мурлычет.
Она согревается его живым теплом и уже горячо любит это крохотное пушистое создание. Женщина поглаживает котенка по мягкой шерстке и чувствует почти кровное родство с ним. Ей необыкновенно хорошо и хочется плакать светлыми слезами, но оттого, что котенок доставляет ей несказанную радость, ее человеческое горе делается горше, и она опять думает о том, что не желает больше жить. С той поры, как потеряла близких, она толком и не живет на свете, механически ест, спит и ходит на занятия в школу, вяло движется, не улыбается и, точно древняя старуха, смотрит потухшими глазами. Настроившись умереть, женщина теряет силы и чует приближение смерти. Нынче ей очень неможется: стоило прилечь, как по телу разлилась болезненная усталость, голова отяжелела, затуманилась, а сердце стронулось с места, захолонуло и застучало с перебоями. «Во рту сухо, – думает она. – Схожу попить», – и, придерживая котенка, хочет подняться с дивана, но не превозмогает слабости. Котенок, вдруг проснувшись, встает и, потоптавшись легкими лапками на ее груди, внимательно разглядывает благодетельницу. «Что это он так смотрит? – думает женщина. – Прямо как человек».
– Буду жить для тебя. Я тебя не брошу.
Прошептав это, она светлеет лицом и поблескивает ожившими глазами. Ей чудится, будто тело крепнет, наполняется энергией, вот только почему-то холодно ногам, стынут ноги, как на морозе. Холод поднимается выше, достигает туловища. Женщина, думая, что просто зябнет, тянет руку к висящему на стуле темному пледу и тут вдруг догадывается, что умирает. «Зачем? Как некстати! Не надо! Это нелепо! Ведь заново обретается смысл жизни, наступает успокоение, греет душу любовь к бедному котенку!» Одним резонным доводом она противится смерти, другим ускоряет ее: «Ты сама хотела преждевременной кончины. Твое сердце истощено безысходной тоской, мозг иссушен черными мыслями, даже течение крови, наверное, замедлено безразличием к жизни. Все твое существо подготовилось к смерти. Она явилась в нежданный час, и ее не отвратить. Поздно».
Холод-смерть сковывает женщину, подбираясь к ее сердцу. Умирающая – в сознании. Она чувствует, как, слабо щелкнув, сердце останавливается, как отлетает душа, а вскоре душа видит распростертое на диване тело, которое покинула, и жалеет о нем. Котенок дугой выгибает спину, взъерошивает шерсть, раздувается, как пузырь, и, ощерившись, не по-котячьи страшно шипит. Он соскакивает с леденеющего трупа и в недоумении смотрит на него.
* * *
Я, душа, боюсь, что малыш пропадет, погибнет от голода. Кто о нем позаботится? Кто нальет ему молочка? Скоро ли кто-нибудь спохватится, что одинокая женщина перестала выходить из дома?
Витаю над котенком, обволакиваю его собой и грею. Он улавливает мое слабое поле и, вспоминая человечье тепло, радуется, пробует мурлыкать. Медленно плыву в кухню, животное неловко спрыгивает, сваливается с дивана, идет за мной. Хочу, чтобы оно поело. Это возможно, если котенок догадается влезть на стол и сунет мордочку в банку с кипяченым молоком.
Но он вдруг опять настораживается, беспокойно озирается по сторонам. Ну, ничего. Как станет голод грызть ему кишочки, как сведет судорогой животик, малыш облазит все углы, доберется до молока, а потом и опрокинет банку. Некоторое время продержится.
Возвращаюсь в комнату, а он опять за мной, навостряет уши, вертит головой и шевелит усами – чует, бедняжка, мое присутствие, да ничего понять не может. Облетаю пустую квартиру, прикасаюсь к фотографиям на стене, втиснутым в железные рамки, целую, как могу, портреты близких и потом ласкаю котенка. Будь здоров, котик! Постарайся не умереть до тех пор, пока тебя найдут! Я еще вернусь узнать, как твои дела, а сейчас, извини, полечу на волю, посмотрю вокруг, давно уж открыто не смотрела на мир, на людей, таясь в замкнувшемся от горя человеке.
Вылетаю в открытую форточку и, набрав высоту пассажирского самолета, парю над моим городишком. Все мне в нем знакомо, но не то, чтобы все опостылело, просто многое связалось с тяжелыми воспоминаниями. Городишко не так далек от Москвы. Направляюсь в Москву. Знаю там одно место, подходящее для опечаленной души. Его отыскала после пережитого горя молодая вдова и мать умершего мальчика – поехала однажды в столицу, зашла с одной своей подругой в крематорий, а в погребальном зале играют третью часть сонаты номер два си бемоль минор Шопена, похоронный марш. С тех пор меня влечет туда слушать траурные сочинения, концерты великой музыки, в которых подобран скорбный репертуар. Несчастную душу грустная музыка умиротворяет, а веселая тревожит. Всякая душа, я знаю, по-своему склонна к минору, к ощущению собственной и всемирной беды. Иное дело – душонка. Чем меньше она и мельче, тем беззаботнее веселится и безогляднее пляшет даже на кладбище, на могилах, на трупах, на детских косточках…
Витаю над чьим-то гробом в похоронном зале. Нынче обряд сопровождается музыкой Баха, «Страстями по Матфею». С десяток мужчин и женщин в черном склонились над покойником, кто-то целует его в лоб. Его острые нос и подбородок, туго обтянутые желтой кожей, скоро исчезают под крышкой. Гроб тихо движется по эскалаторной ленте, но вдруг останавливается и опускается под разверзшийся пол, в огнедышащую печь. Вот и все. Был человек – и не стало. Вмиг погиб «внутренний мир», микрогалактика. Смерть уничтожила помыслы и страсти, огонь поглотил тело. Покойный, наверно, и не вспомнил ни разу, что бренен, и был он, возможно, не в меру самонадеян, жаден и честолюбив. Но… остается зола. Впрочем, где-то скитается его отлетевшая душа, ждет так же, как я, времени переселения.
Выбираюсь из крематория и, поколебавшись над ним в клубах дыма, поднимающегося от печей, стремлюсь вверх. Душу тянет летать. Чем встревоженнее она, тем быстрее способна двигаться. Мгновение, другое, третье – и я пронизываю синий воздушный слой и оказываюсь в черном космосе. Мне бы встретиться здесь с душами мужа и сына, сплестись с ними, слиться и, чувствуя трепет наших биополей, полетать в межзвездном пространстве. Но души милых моих близких давно обитают в ком-то другом, составляя вместе с новой плотью новые живые существа. Их мне не найти. Я одинокой осталась на Земле, одинока и во Вселенной.
Тоскую по мужу и ребенку, разгоняюсь сильней и мчусь как фотонная ракета. Еще недавно неплохая школьная «физичка» рассказывала детям про фотонные ракеты и межзвездные корабли (похоже, люди никогда их не построят, скорее, погубят себя, самоуничтожатся в распрях), а теперь ее собственная душа разогналась до световой скорости. Полетав, пометавшись, заглушив свою боль чудовищно быстрым перемещением в пространстве, вдруг устаю, притормаживаю и останавливаюсь, а потом дрейфую в потоке солнечного ветра. Попадаю в радиоволны, качаюсь на них, словно купальщица на волнах теплого моря. Сигналы идут от Земли. Наверное, люди ищут во Вселенной братьев по разуму. Цель благородная, но как было бы хорошо, если бы люди Земли чаще посылали приветы в души друг друга…
Нет сил любоваться космическими красотами. Летаю бесцельно, снова оплакиваю души сына и мужа. На пятый день возвращаюсь домой. Форточка закрыта, окна занавешены. Проникаю в щель. О, Боже! Тело, покинутое мной, до сих пор не захоронено! Оно лежит на столе, одетое для погребения в серое штапельное платье (было такое у учительницы, она думала, что выросла из него) и в простые рифленые чулки, а обутое в парусиновые тапочки. Лицо покойной как бы сшито из атласной материи, глазницы слишком глубоки, нос длинен, все черты неестественно впалы и выпуклы, челюсть подвязана бинтом. Лицо то и не то, знакомое и чужое. Это не лицо человека, а «маска смерти». В комнате милиционер, стоя пишет в блокноте. Другой посетитель – учительница не очень молодая (у нее от слез покраснели глаза) – берет с подоконника свою сумочку и, направляясь к двери, извиняется, обещает, что на похороны придут все учителя. Соседская бабушка в черном платочке крестится и причитает над телом, делится с милиционером:
– Отмаялась, сердечная. Уж очень тосковала, сил смотреть не было. Пять ден, как померла, а никто не хватился. Хорошо, я котенка услышала, думаю, что-то тут не так, мяучит под дверью, душу разрывает… Голодный, смотрю, кожа да кости, я его к себе взяла, накормила, напоила… И схоронить по-человечески не можем. Ни гроб купить, ни помянуть не на что. Денег на похороны никто не дает. Нету ни у кого денег, не платят… Когда такое бывало? В пакете придется в могилу класть! Вот до чего докатились!..
– Тут я, мамаша, не компетентен, – отвечает милиционер, продолжая писать в неудобном положении. – Мы гробы не покупаем. Наше дело удостоверить, что гражданин или гражданка скончались сами по себе, а, например, не убиты кем-нибудь или не доведены до самоубийства. В противном случае заводим уголовное дело. Милиция за похороны не отвечает.
– А теперь никто ни за что не отвечает! – сердито бормочет старушка, и жалко мне ее, совестливую и беззащитную. – А если кто и отвечает, то все равно не спросишь с него! Нынче человека и при жизни мордуют, и после смерти!.. Ладно, мы схороним! Поверх могилы не положим! И отпоем, и поминки какие-никакие всем миром справим! А этим жирным котам, которые жизнь такую устроили, на веки вечные ни дна ни покрышки! Прости меня, Господи!..
Не дослушав, опять стремлюсь на волю. Спасибо, добрые соседи! Спасибо, учителя! Если доведется увидеть Бога, расскажу о вас! Опечаленной душе в космосе приютнее, чем на Земле. Здесь дождусь я времени отрешения, оно в том лишь состоит, что, начиная со дня девятого после смерти тела, Земля будет мне чужда и я не смогу к ней приблизиться вплоть до дня сорокового.
Как ни горько мне вспоминать мужа и сына, я невольно созерцаю широкие многоцветные лучи, прорезавшие черноту бесконечного пространства. Источник свечения тоже виден, он выкатывается из-за огромной малиновой планеты, ослепительно сияя, крутясь волчком, испуская эти чудесные лучи, трепетные, как крылья бабочки. В то же время – благодаря необыкновенной способности души – гляжу в обратном направлении, любуюсь видом приближающейся ко мне звездочки. Голубая звезда зеленеет и расправляется, как полотно, потом обращается в шар, желтеет, краснеет, но ее жгучая краснота перехвачена белыми кольцами – это, наверно, в лаве выделяется плазма. Лава бурлит, бушует, я вижу ее грозные всплески, похожие на всплески кипящего в кастрюле бульона, и мне не мешают смотреть клубы газов, ползущие по расплавленному шару. Сказочные картины…
К «сороковому дню» сам собой замедляется мой стремительный полет. Что-то влечет меня, притягивает к Земле, и я не сопротивляюсь могучей силе, душа рада возвращению на Землю. Встретив стайку певчих птах, следую за стайкой, с ветерком мчащейся к загородному лесу, и на светлой опушке перелетаю от куста к кусту, от дерева к дереву, а вскоре, покинув птиц, облюбовываю плакучую березу, одиноко стоящую среди солнечной поляны. Меж гибких ветвей-ожерелий, унизанных зелененькими листьями, я успокаиваюсь и уже знаю, что потому не направилась в город, что поддалась главному своему повелителю – чувству, приказавшему мне избежать поселения в тельце новорожденного младенца. Зачем я ему, такая печальная и слабая? Человеку нужна душа сильная, веселая, побуждающая его к великим делам, полнокровным радостям и безграничной доброте. А мое место здесь, в лесу. Замечаю маленький нежный побег у самого подножия березы, вот его и наделю собой. Побег со временем превратится в чудесное дерево, и две плакучие березы-родственницы, прильнувшие друг к другу, поразят любителей леса своей необычной одухотворенной красотой. Грибники и ягодники станут задумчиво рассматривать их, отдыхать под гостеприимной сенью и проникаться счастьем бытия, Божьей благодатью.