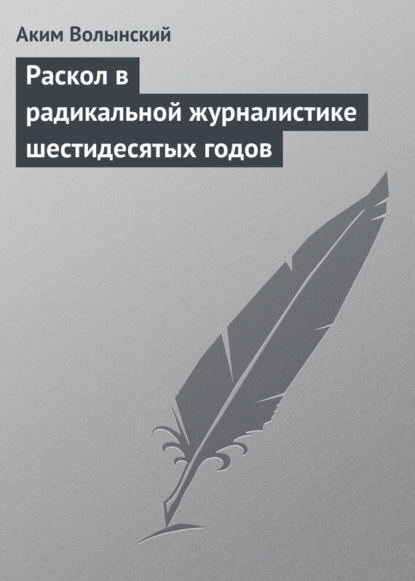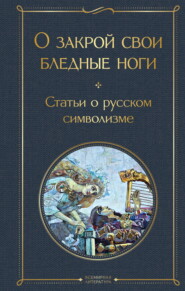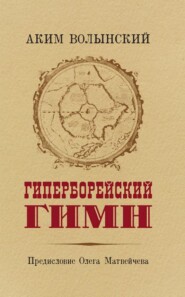По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
Аким Львович Волынский
Либеральное уподобление Тургенева Аскоченскому. – Бурные события эпохи. – Направление «Отечественных Записок». – Громека и его заступничество за радикальные журналы. – Сатирические фельетоны Щедрина в «Современнике». – Колебания в политическом направлении «Современника». – Выходка против нигилистов. – Насмешка Щедрина над романом Чернышевского. – Первая схватка с «Русским Словом». – «Лукошко глубокомыслия» и «бутерброды глубокомыслия». – Отъезд Щедрина и решительная битва между обоими журналами. – Вмешательство Писарева. – Антонович и Писарев о Чернышевском. – Чернышевский о Чернышевском. – Победа «Русского Слова» и падение «Современника». – Прекращение обоих журналов и возникновение новых изданий.
Аким Волынский
Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов[1 - «Современник» 1862 г. Март: Асмодей нашего времени. – «Отечественные Записки» 1862 г. Февраль: Письма об изучении безобразия. И. Прогрессистова. – Там же. Март. Современная хроника России. – Там же. Апрель; Современная хроника России. – Там же, Май: Современная хроника России. (Реакция против Базаровщины, отсутствие вождей в партии передовых, случайности, брызги, шероховатости, Унковский и пр.). – Там же. Июнь (О прекращении на 8 месяцев «Современника» и «Русского Слова» и приостановке «Дня»). – Там же. Сентябрь: Современная хроника России. (Положение обозревателя становится затруднительным). – Так же. Октябрь: Современная хроника России. – Там же. Ноябрь: Современная хроника России. (Громека обращается к цензуре с несколькими словами, давно лежащими у него на душе. Несправедливость, невозможность и вредность преследования нигилизма). – «Современник» 1863 год, № 1 – 2. Литературный кризис. М. Антоновича. Петербургские театры. – Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев. – «Внутреннее Обозрение». – Наша общественная жизнь. – Новые основания судопроизводства. А. М. Унковского. – Там же. Март: Наша общественная жизнь. – Неуважение к науке. М. Антоновича. – Там же. Апрель: Наша общественная жизнь. – Свисток № 9. – Там же. Май: Наша общественная жизнь. – Там же. Август: В деревне. – Там же. Сентябрь: Наша общественная жизнь. – Там же. Ноябрь: Наша общественная жизнь. – Там же. Декабрь: Наша общественная жизнь. – «Современник» 1861. Январь: Наша общественная жизнь. – Там же. Февраль: Наша общественная жизнь. – Там же. Март: Наша общественная жизнь («мальчики», «вислоухие», «юродствующие»). – Там же. Апрель: Современные романы. – Там же. Октябрь: Вопрос, обращенный к «Русскому Слову» Постороннего Сатирика. – Там же. Декабрь: «Русскому Слову» (предварительные объяснения). – Письмо в редакцию N. Салтыкова. – «Современник» 1865. Январь. Литературные мелочи («Русскому Слову». Денежное несчастье с г. Благосветловым, Постороннего Сатирика. – «Ответь на вопрос», письмо в редакцию Д. Минаева). – Там же. Февраль: Добросовестные мыслители и недобросовестные журналисты. – Промахи, М. Антоновича. – Литературные мелочи (Глуповцы в «Русском Слове»). Постороннего Сатирика. – Там же. Март: Современная эстетическая теория (по поводу второго издания трактата Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности») М. Антоновича. – Литературные мелочи (Барские лакеи в «Русском Слове». Г. Зайцеву). Постороннего Сатирика. – Письмо в редакцию «Современника» Варвары Писаревой. – Там же Апрель: Промахи. М. Антоновича. – Там же. Май: Литературные мелочи (к читателям). Постороннего Сатирика, – Там же. Июнь: Литературные мелочи (ученые пристрастия по поводу брошюры Кавелина «Мысли о современных научных направлениях»). Мораль г. Краевского. Заключение. – Там же. Июль: Лже-реалисты. М. Антоновича. – Там же. Август: Итоги. – «Русское Слово». 1864. Февраль: Глуповцы в «Современнике». В. Зайцева. – Цветы невинного юмора. Д. Писарева. – Там же. Апрель: Кающийся, по нераскаявшийся фельетонист «Современника». – Там же, Сентябрь: Нерешенный вопрос (статья первая). – Там же. Октябрь: Нерешенный вопрос (статья вторая). – Ответ «Современнику». – Там же. Ноябрь: Нерешенный вопрос (статья третья). – Там же. Декабрь: Г. Постороннему Сатирику. – «Русское Слово» 1865. Январь. Буря в стакане воды, или копеечное великодушие г. Постороннего Сатирика. Г. Е. Благосветлова. – Там же. Февраль: Г. Постороннему и всяким прочим Сатирикам. – Несколько слов г. Антоновичу. В. Зайцева. – Последнее объяснение с Посторонним Сатириком «Современника». Г. Благосветлова. – Там же. Март: Прогулка по садам российской словесности. Д. Писарева. – Там же. Май: Разрушение эстетики. Д. Писарева. – Там же. Сентябрь: Посмотрим. д., Писарева. – Там же. От издателя. – Там же. Ноябрь: В отмену объявления «Русского Слова». Николая Соколова и Варфоломея Зайцева. – Ответ II. Благовещенского и Г. Благосветлова и проч. – «Отечественные Записки» 1863. Март: Современная хроника России. – Там же Май: Заметка для редакции «Современника». – «Отечественные Записки» 1864. Июнь: Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме. Incognito. – Там же. Сентябрь. Покорнейшая просьба (письмо в редакцию). Провинциала. – Там же. Октябрь. Опыт о добродетели в полемике. Incognito – «Отечественные Записки» 1865. Июль, книжка первая Verba novissima. Incognito. «Современная Летопись» 1864, № 2. Роман на берегах Невы, – «День» 1865 г. Журнальные заметки. H. В. No№ 17, 27, 30 и 40. – «Космос» 1869. Фельетон Журнально-научное обозрение. (Литературное лицемерие «Отечественных Записок»), – Там же. № 8. Журнально-научное обозрение. (Литературная недобросовестность). – Литературное падение. И. Рождественского. С.-Петербург 1869.]
Статья IV
I
Медленно, но постоянно накапливались в «Современнике» материалы, послужившие причиною его полного разложения. Борьба с «Временем» и «Эпохою», разыгравшаяся в невероятно скандальное явление, изумила и смутила самых горячих его поклонников. Не подлежало сомнению, что «Современник» вступает в новый период деятельности, и что за грубыми приемами его полемики, за густыми облаками той едкой пыли, которую взбивали его расходившиеся сотрудники, уже не было ничего твердого, устойчивого, хорошо и глубоко прочувствованного. То, что было выражением свежего настроения и оригинальной мысли у Добролюбова, то, что составляло предмет пылкого и почти вдохновенного убеждения у Чернышевского, у Антоновича превратилось во что-то тяжеловесно бездушное, способное только раздражать, но не волновать умы. Мало-помалу журнал лишался своих настоящих руководителей. У «Современника» не было более ни философа, ни критика. Антонович расширял свою известность только благодаря своим скандальным промахам, благодаря своей бесцельной развязности в выборе тем, совершенно неподходящих для его литературных способностей, но вызывающих на ответ людей с настоящим талантом. С фатальным постоянством он делал себя жертвою чужого остроумия и меткости и, желая подставить ногу другим, сам летел к ним под ноги. Люди разнородных направлений уверенно переступали через него и шли своим путем, к своей определенной дели.
Одним из любопытнейших промахов Антоновича надо признать статью его об «Отцах и детях» Тургенева, относящуюся еще к 1862 году. Только-что неудачно сразившись с Юркевичем на философской почве, Антонович задумал дать реванш Тургеневу за его открытый разрыв с «Современником», разрыв, поощряемый Герценом, который, наблюдая издали за деятельностью Чернышевского и его ближайших сотрудников, никогда вполне им не сочувствовал, а некоторых из них не уважал, как людей[2 - Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, изд. 1892 г. стр. 113.]. Антонович разделывается с романом Тургенева в статье, носящей название «Асмодей нашего времени». По мнению нового критика «Современника», весь роман Тургенева представляет собою плохой, поверхностный морально-философский трактат, который, не удовлетворяя ума, тем самым производит неприятное впечатление и на наше чувство. «Негде укрыться от удушливого зноя странных рассуждений и хоть на минуту освободиться от неприятного, раздражающего впечатления, производимого общим ходом изображаемых действий и сцен», восклицает Антонович. В новом романе Тургенева нет никакого психологического анализа, и за исключением одной старушки, нет ни одного живого лица, ни одной живой души. Все личности в нем – это идеи и взгляды, наряженные в конкретную форму. К главному герою романа Тургенев питает какую-то личную ненависть. Он мстит ему на каждом шагу и мстительность Тургенева доходит до смешного, «имеет вид школьных щипков, обнаруживаясь в мелочах и пустяках». Антоновичу кажется, что Тургенев хотел изобразить в Базарове «демоническую или байроническую натуру, что-то в роде Гамлета», но, не справившись со своей задачей, романист придал своему герою черты, «по которым эта натура кажется самою дюжинною, по крайней мере весьма далекою от демонизма». Базаров в художественном изображении Тургенева не живая личность, а карикатура, «чудовище с крошечной головкой и гигантским ртом, с маленьким лицом и пребольшущим носом, и притом карикатура самая злостная». Вообще, заключает Антонович, в художественном отношении «Отцы и дети» совершенно неудовлетворительное произведение. В нем нет общей нити, общего действия, в нем «все какие-то отдельные рапсодии». Дав эту блестящую оценку одному из самых замечательных произведений русского искусства, произведению, составившему, можно сказать, целую эпоху в истории умственной культуры России и написанному с поразительною энергиею художественных красок, Антонович переходит к главной обвинительной части своей статьи, в которой доказывается, что Тургенев, своим романом, изменил делу русского прогресса. «Отцы и дети», говорит он, написаны с тенденциями, с резко очерченными теоретическими целями. В них слишком явно выступает сам автор, его симпатии, его «личная желчь» и раздражение. На всем протяжении романа вы нигде не встретите ни искры сочувствия к детям, к молодому поколению. Стараясь набросить невыгодную тень на Базарова, Тургенев слишком погорячился, «перепустил» и стал выдумывать разные небылицы. Для Антоновича ясно, что критика, видевшая в Тургеневе прогрессиста, просто ошибалась в объяснении его прежних произведений, внося в них свои собственные мысли и понятия, не свойственные их автору. Тургенев направил стрелы своего таланта, против того, чего он в сущности не понял. Он слышал разнообразные голоса, наблюдал оживленные споры, но в своем романе он умел коснуться только верхушек тех явлений, которые совершаются в современном русском обществе. Это произведение слабое во всех отношениях. Обозрев его с разных сторон, Антонович приходит к следующему решительному выводу: вот художество, которое действительно заслуживает, если не отрицания, то порицания, коль искусство, не стоящее никакого сочувствия. По силе таланта, по значительности содержания, «Отцы и дети» ничем не отличаются от романа Аскоченского Асмодей нашего времени. «Говорим совершенно искренно и серьезно и просим читателя не принимать наши слова в смысле того, часто употребляемого приема, расписывается Антонович, посредством которого многие, желая унизить какое-нибудь направление или мысль, уподобляют их направлению и мыслям Аскоченскаго»[3 - «Современник» 1862 г., Май, Асмодей нашего времени, стр. 110.]. Антонович читал Асмодея в то время, когда Аскоченский еще ничем не заявил себя в литературе и когда «Домашней Беседы» еще не существовало, и читал его с полным беспристрастием, без всяких задних мыслей. И вот теперь впечатление, произведенное на него «Отцами и детьми», поразило его чем-то давно пережитым, сам Базаров представился ему знакомою фигурою. «Отцы и дети» – это, одним словом, новый «Асмодей» шестидесятых годов.
В течение 1862 г. в «Современнике» не появлялось ничего, более характерного и интересного в литературном отношении. Несколько небольших статей Чернышевского и полемическая распря Антоновича с Юркевичем, Тургеневым и Косицею – вот и все, чем ознаменовал свое существование «Современник» в этом году. Но слава журнала была тогда еще в своем зените, его враждебные стычки с многочисленными противниками приобретали характер всероссийских событий. А время надвигалось мрачное, озаренное кровавым блеском пожаров, встревоженное суровыми угрозами молодой России. Эпоха, начавшаяся смелыми либеральными реформами, могла вдруг, не справившись с натиском новых, свежих брожений, выродиться в тяжелую, гнетущую реакцию. От печати требовался особый политический такт, чтобы дать бодрость настоящим работникам на поприще прогресса. Общество, дорожившее реформами и имевшее право надеяться на дальнейшее движение по пути либеральных усовершенствований, должно было суметь сохранить равновесие и, переработав все свои брожения, дать усиленный ход новым, точным программам. Это было время настоящего политического испытания для культурных сил русского государства. Но, к великому несчастью, не все оказалось на высоте исторического момента. Журналы, не воспитанные ни в какой серьезной политической школе, не привыкшие принимать участие в гражданской жизни страны, влияя на ход вещей вескими, продуманными и последовательными аргументами, с одной стороны холопствовали перед всякими темными силами, предостерегали правительство против увлечений широким делом освобождения, с другой стороны – неистово метались друг на друга, затевали бесцельные, безобразные полемические вакханалии и, в горячке минутных страстей, оставляли без разъяснения настоящие пункты политического разногласия. Среди дыма и огня молодого журнализма дело, темное дело, делали только те, которые разжигали заносчивыми вызовами партийные споры и пользовались ими для своих скрытых целей, чтобы в решительную минуту, круто натянув вожжи, повернуть разбежавшихся коней в глухую сторону реакции. Влияние Каткова входило в курс жизни…
Майская книга «Современника» была последней книгой журнала в 1862 г. В заключение своей ежемесячной летописи «Современная хроника России», в июньской книге «Отечественных Записок», известный в то время пылкий публицист С. Громека писал: «Окончив эту летопись, мы прочитали объявление о прекращении на восемь месяцев журналов Современник и Русское Слово. Официальное известие не объясняет, за что именно обрушилась кара на эти два журнала, оно сообщает кратко, что, на основании вновь вышедших временных цензурных правил, министр внутренних дел и управляющий министерством народного просвещения, по „взаимному соглашению, признали нужным сделать такое распоряжение“. Далее, говорит Громека, Аксаков лишен права на издание газеты „День“, и это последнее распоряжение вызвано неисполнением со стороны Аксакова цензурных правил. „Аксаков сам добровольно лишил страну своего полезного и честного голоса“. Итак, не стало трех изданий, из которых два – „Современник“ и „День“, совершенно противоположны друг другу по духу и направлению. Славянофилы, пишет Громека, могут лишиться последнего средства „открыто защищать свою теорию о любовном соглашении общества с государством и бесполезности каких-бы то ни было гарантий“, умеренные либералы и консерваторы „лишаются в течение восьми месяцев права бороться с мнениями крайних прогрессистов…“»[4 - «Отечественные Запуски», 1862 г., июнь, Современная хроника России, стр. 82-83.]. «Отечественные Записки» выразили сожаление, что два видных журнала исчезли именно в то время, когда в литературе завязалась с ними серьезная полемика, а Косица, верный своей насмешливой манере, трактует это событие в более или менее игривом тоне. Его счастливому настроению нанесен удар. При его, всем известной, любви к чтению, при его страсти к литературным наблюдениям, отсутствие двух названных журналов не могло не показаться лишением. Из солнечной системы наших журналов, пишет Косица, исчезли две планеты…[5 - Н. Страхов, Из истории литературного нигилизма, стр. 156-157.].
«Отечественные Записки», начав смелую борьбу с деятелями «Современника» в первые месяцы 1862 года, несколько сокращают и суживают ее во вторую половину этого года. Журнал открыто порицал те орудия, которыми они пользовались в борьбе за свои убеждения и, постоянно усиливая обвинения, доказывал, что политическая тактика известных журналистов должна повести к реакции. В «Отечественных Записках» стали появляться статьи, написанные в стиле «Свистка», в которых добивались главари «Современника» их же собственными средствами. В «Письмах об изучении безобразия», в сатирических фельетонах под названием «Все и ничего», в веселых «Думах Синеуса», в некоторых критических статьях на литературные темы и, наконец, в наиболее ярком отделе журнала, который составлялся под редакцией С. Громеки, «Отечественные Записки» с большою резкостью, хотя и не всегда с достаточным талантом, выдвигали свою оппозицию бестактному поведению и развращающим приемам «Современника». Многие честные люди, пишут «Отечественные Записки», горячо сочувствуя стремлениям «Современника», сильно не одобряют его балаганного тона и кривлянья. Но большинству, публике, нравится в «Современнике» именно то, что противно интересам литературы. Балаган есть народное увеселение, и «Современник» пользуется народною почвою, на которую стал твердой ногой. Нет, господа, насмешливо восклицает сотрудник «Отечественных Записок», подписавшийся Прогрессистов, с одним направлением теперь далеко не уедете, «будете-ли вы расходиться с Современником, будете ли вы совпадать или даже превосходить его направление, подобно Русскому Слову – успеха все-таки не будете иметь, пока не обратитесь на путь безобразия. В настоящее время это единственный верный путь к литературной славе и журнальному благополучию. Истинно, истинно говорю вам: глупо делаете, что не спешите на этот открытый и свободный путь»[6 - «Отечественные Записки» 1862 г., Февраль. Письма об изучении безобразия, стр. 37.]. Наглость и упрямство в большом почете у толпы, продолжает автор. Вот Громека хотел-бы вести полемику, с уважением к человеческой личности и свободе чужих мнении, и его забивают, непременно забьют. Альбертини вооружился против Чернышевского, но Чернышевский мигнул только бровью и кротко произнес: «милое дитя, избегайте полемических встреч с нами», и вся храбрость полемического обозревателя исчезла, как дым. Сотрудники «Отечественных Записок» не видят, что вне разудалой свистопляски нет спасения. Не слышат они ежеминутно возростающей силы свистунов, не чуют они, что скоро, скоро вся литература превратится в неумолкаемый свист и гам.
Гордые вершины
Наших свистунов
Стали уж и ныне
Выше облаков…
Мощны силы века,
Сила ерунды.
Подожди. Громека,
Свиснешь, брат, и ты!..
Обозревая в насмешливых стишках состояние современной литературы, веселый Синеус видит закат славы Чернышевского и роскошную зарю литературной известности Писарева[7 - Там же, Думы Синеуса, стр. 47-49.]… Вот, вот он воцарится на вакантном престоле русской критики.
Громека полемизирует с Чернышевским и его последователями в серьезном тоне, со свойственной ему горячностью. Его рассуждения носят вполне либеральный характер. Верный партизан всякого рода реформ в политической и социальной жизни страны, хотя и склонный к наивной доверчивости по отношению к бюрократической машине, человек без глубокого таланта и настоящей политической прозорливости, Громека храбро воюет с современным ему нигилизмом, постоянно выкидывая над собою, с пылкостью юноши, еще свежий флаг оптимистического либерализма. Его тирады блещут красноречием, но его доводы не задевают глубины предмета. Его воззвания к обществу и правительству не страдают деланностью или афектацией и как-бы выливаются из горячего сердца, но в них ничто не завоевывает читателя. Указывая на постоянные преувеличения нигилизма, выступающего с отрицанием почти слепым, направленным без разбору во все стороны и при этом не дорожащего своею нравственною репутациею в выборе орудий борьбы и самозащиты, Громека требует полной свободы для печатного слова. Только свежий, здоровый воздух свободы, пишет он, только широкая гражданская жизнь и свободно развивающаяся мысль в состоянии вылечить русское общество от охватившей его философской и гражданской чахотки. Нужен воздух, свобода, жизнь. Вместо двусмысленных полунамеков и скорбных вздохов должны выступить на сцену твердые умы и серьезные знания, должна выступить вся наука, все теории, все умственные силы, при полном свете которых не будет места никакому шарлатанству и отвратительному маскараду убеждений. Нужны новые идеалы для новых построек. Нигилизм уместен только, как орудие критики, как скептическое настроение, ибо как только умами овладевает мысль о новом порядке вещей, «архитекторы новых идеалов получают предпочтение перед разрушителями старых – идеалисты сменяют нигилистов»[8 - «Отечественные Записки», 1862 г., Апрель, Современная хроника России, стр. 50.]. Пусть скептицизм действует свободно, без цензуры. Сколько выиграло-бы общество, если-бы скептицизму никогда не ставили никаких преград. Вспомните, как давно раздавались на Руси сильные голоса против рабства, телесных наказаний, судебной неправды, взяточничества и чиновничьего грабежа. Вспомните все бесчисленные жертвы, принесенные русским народом крепостническому строю и полицейскому произволу. Подумайте, сколько новых сил приобрел-бы творческий дух, если-бы борьба с неправдою развивалась непрерывно, именем самого государства, при помощи всего народа, общественного мнения, всей науки. Предъявляя в такой категорической форме свои политические требования, Громека тут же, с простодушием человека, не знающего жизни и не умеющего измерить силу и глубину раздора враждующих сторон, детски-доверчиво треплет по шее притихшего зверя эгоизма и властолюбия. Ему представляется, что положительные силы общества естественным образом сложились в стройную, организованную систему, на которую можно твердо и спокойно опереться в борьбе за исторические судьбы народа. После пылких речей в приподнятом циническом тоне странно читать наивные рассуждения о непоколебимой вере и неудержимой преданности своим убеждениям людей, ведущих постоянную, оборонительно-наступательную кампанию против настоящих прогрессивных течений. Протестантский пафос перебивается у Громеки наивными, симпатическими излияниями по адресу тех, к кому, казалось-бы, должен был относиться самый его протест. В сущности, он разобрался только в одной стороне дела, и его филиппики против действующей радикальной партии гораздо более продуманы и осмыслены по содержанию, ярки и метки по форме, чем его слегка приторное заигрывание с силами и учреждениями, сообразующимися только со своими уставами и пренебрежительно равнодушными к его писательским указаниям и увещаниям. Полемизируя с «Современником», Громека не хотел-бы, однако, чтобы отпор сопровождался озлоблением против партии движения. Он негодует только на то, что эта партия двигалась до сих пор без всякого такта, повторяя вечно одни и те же фразы, одни и те же приемы. Одной и той же песней встречала она каждое событие. Одни и те же свистки посылала она, без разбору, и первому встречному будочнику, и таким людям, как Костомаров. «Так может действовать дикая орда, восклицает Громека, – но так не действуют партии, имеющие самостоятельных вождей, которые прежде, чем сделать шаг, обыкновенно взвешивают тяжесть нравственной ответственности за него перед обществом и историей»[9 - «Отечественные Зшиски» 1862 г. май. Современная хроника России, стр. 5.]. Противопоставляя людям с журнальным задором действительных работников на пользу народа, «Отечественные Записки» рассказывают целую историю, в которой А. М. Унковский явился истинно дельным, энергичным заступником крестьянских интересов в одном частном процессе: вот где настоящие борцы за право и справедливость, вот где дело, а не красноречивые слова. Без шума и фраз, скромные люди рассеялись по всей русской земле и работают в одиночку, не ожидая рукоплесканий, не гоняясь ни за какими кличками, никому и ничему не льстя и не требуя ни от кого никакой лести для себя. И сколько таких деятелей, замечает Громека, незримых для публики. Это не те храбрецы, гарцующие и джигитующие накануне битвы, которые в решительную минуту осаживают в задния шеренги, а люди робкие и краснеющие в предбитвенных оргиях, но смелые и доблестные на поле сражения[10 - Там же, стр. 17.].
После закрытия «Современника» Громека, как мы уже сказали, умеряет пыл своих нападений на свирепое и распущенное поведение некоторых журнальных ратоборцев. Мы бились с нашими противниками, пишет он, пока они были сильны и стояли лицом к лицу с нами, и мы будем биться с ними опять, когда они встанут на ноги. Но теперь мы можем только сожалеть, что последние стрелы, направленные против них, были опережены печальными событиями. «Не такой победы желали мы над ними»[11 - «Отечественные Записки». 1862 г., Октябрь, Современная хроника России, стр. 43.], замечает Громека. Объясняясь с некоторыми своими противниками, обвинявшими «Отечественные Записки» в том, что они изменили свое прежнее направление, приняв консервативный тон, подслащенный редкими аккордами дешевого либерализма, Громека с большою стремительностью отражает несправедливый и незаслуженный полемический удар. Он всегда доказывал, что нигилизм есть только орудие, а не цель. Он всегда горячо проповедывал, что есть заповедная черта, которую журналисты не должны переступать под страхом «погубить начатое дело и отдать его в жертву реакции». Преданный делу свободы, он не мог быть умерен в своей борьбе с деятелями печати, которые не умеют разрешать свою задачу надлежащим образом. Каждый неосторожный шаг, каждое лишнее движение пугает и волнует его и, стоя между двух огней, «между пылом передовых застрельщиков движения и тяжелой артиллерией консерваторов», он не мог не возбуждать против себя неудовольствие всех партий[12 - «Отечественные Записки», 1862 г., Сентябрь, Современная хроника России, стр. 3.].
Так воевали сотрудники «Отечественных Записок» с радикальными деятелями русской печати. Но при этом, как мы уже сказали, увлекшись дурным примером, солидный журнал заводит у себя легкое подобие осуждаемого им самим «Свистка» и в ряде статей выражает свое порицание литературному и жизненному нигилизму. П. Прогрессистов всеми силами старается натянуть на себя шутовскую маску, свиснуть оригинальными стихами, хлеснуть Чернышевского ехидным издевательством. Но надо сказать правду, подражательная сатира «Отечественных Записок», при отсутствии в её творцах непосредственной веселости и того разгульного, своеобразно артистического темперамента, который может сделать завлекательным для публики даже балаганный фарс, далеко отстает от комических представлений «Современника», с их раздражающим, распущенным смехом, с блестками яркого литературного таланта среди беспорядочных груд беспринципного юмористического хлама. В сатире «Отечественных Записок» не было вдохновения, внезапных вспышек обличительного творчества, того, что может ошеломить, изумить, взволновать читательское воображение, не было удалой решимости яростно шельмовать на глазах толпы самые громкия репутации, самые прославленные имена. Скользя по готовым ритмам, прилаживая старые формы к случайным сатирическим комбинациям и перезванивая чужими рифмами, фельетонисты «Отечественных Записок» делали совершенно мертвое, бесцельное дело, никого не задевающее, никого никуда не увлекающее. В сатире «Современника», при всей её разнузданности, яри всем её хищном цинизме и наездническом произволе в набегах и экзекуциях, была самобытная сила, кружившая голову своими неожиданными проявлениями. Несправедливая и наглая, она, тем не менее, представляет крупное литературное явление, с которым необходимо считаться при изучении судеб русской литературы. её влияние мы видим и доныне в хлыщеватых приемах некоторых писателей, ищущих дешевого успеха в толпе, готовой аплодировать бойкому зубоскальству и принимать за талант всякое откровенное и дерзкое паясничество. Сатира «Отечественных Записок» – эта бледная тень сатиры «Современника» – не оставила по себе никакого следа, никакого влияния.
Пылкия речи Громеки, несмотря на их вполне либеральное содержание, тоже представляют не особенное серьезное явление. Его полемика не имела истинно принципиального характера, какой могла иметь, например, полемика Юркевича с Чернышевским, полемика Лаврова с Антоновичем и Писаревым. Мы видим отчетливо, что он борется против грубых форм литературной агитации «Современника», но не знаем во имя какого самостоятельного, неразделяемого «Современником» принципа вызывает он на бой. тех, кого он считает своими противниками. Громека не выдвигает на первый план своих теоретических разногласий с «Современником», как это делал еще недавно Дудышкин. Он не подчеркивает ни научного, ни политического пункта раздора, из за которого действительно стоит биться со страстью и вдохновением. Он не выставляет ни определенной програмы политического строя, против которой должны были-бы возражать радикальные деятели «Современника», ни известного философского учения, противоположного материалистической философии Чернышевского, которое могло-бы притязать на какое-либо культурное значение в современном обществе. Весь задор Громеки был направлен исключительно против внешнего неприличия в поведении «Современника» и потому не мог сгруппировать вокруг него людей с талантом, с определенными философскими и политическими убеждениями, людей, имевших право заявить громогласный протест против свистопляски материалистов. «Отечественные Записки», имевшие совершенно независимое положение в журналистике шестидесятых годов и не избегавшие откровенной критики, направленной и против передовых застрельщиков движения, и против тяжелой артиллерии консерваторов, не поняли своей литературной задачи. Они не собрали в своей редакции настоящих, смелых, можно сказать, исторических протестантов того времени, какими могли быть Юркевич и Лавров, и весь их протест, с патетическими речами о свободе слова без цензуры, при наивном доверии к деятельности бюрократической машины, при ребяческой склонности откровенно заигрывать с мощным и злым зверем, свелся на бессильную, умеренную критику чужих приемов под флагом трезвого и уравновешенного либерализма. Эта склонность к умеренности и политической уравновешенности и погубила журнальную репутацию «Отечественных Записок» того периода. С убеждениями Чернышевского, сдавленными узким философским кругозором, носившими в себе самих язву неизбежного самоограничения в будущем, лишенными истинно-научной стройности, философской глубины и света, необходимо было бороться не во имя умеренности, не во имя того или другого примирительного шаблона, а во имя широких, самым решительным образом поставленных теоретических и практических задач. То, что имеет характер неумеренного размаха в требованиях и запросах Чернышевского, заслуживает свободной критики не само по себе, а только по отношению к его теоретическим обоснованиям и аргументам. Только люди со страстью, с смелым и независимым отношением к действительности могли-бы состязаться с Чернышевским с полным правом и надлежащим успехом. Только люди из той же партии движения и с тою же неутолимою жаждой свободного труда во всех сферах жизни, могли преодолеть Чернышевского, сразившись с ним во имя более прогрессивных и жизнеспособных философских начал. Но таких людей радикальная партия злобно и недоверчиво отгоняла от себя, а умеренно-либеральная не постигала во всю глубину и опрометчиво выпускала из рядов боевой журналистики.
А Громеке было решительно не под силу справиться с «Современником».
Остановимся еще на одном очень типичном эпизоде, характеризующем публицистический такт Громеки и отношение органа умеренного либерализма к своей журнальной задаче. В ноябре 1862 года, почти перед истечением срока приостановки «Современника» и «Русского Слова». Громека, в пылу наивного увлечения, поддавшись наплыву профессионального великодушие, побуждающего протянуть руку помощи утопающему антагонисту, совершенно неожиданно для читателей, выступает в роли ходатая перед официальными учреждениями за журналы, приостановленные в начале этого года. Он обращается с увещательной нотой к цензурному ведомству, объясняя ему в популярных выражениях, что закрытие журналов может принести вред не только литературе, но и правительству. Он убедительнейше просит выслушать его: «На душе у нас», говорит он, «давно лежит несколько слов, которые выслушать ей (цензуре) будет не бесполезно, так как дело касается лично её достоинства, а также достоинства литературы и выгод правительства». Вот уже около полугода, как литературное направление, известное под именем нигилизма, устранено вовсе из печати, хотя цензуре должно быть известно, что направление это пользуется сочувствием общества, составляет необходимое явление, которого нельзя вычеркнуть одним почерком пера. С этим направлением боролась почти вся журналистика, когда оно существовало наряду с другими литературными явлениями и фактами. Теперь оно под запретом, окружено ореолом мученичества. Как быть? Что делать тем людям, которые считали своим долгом бороться с литературным нигилизмом? «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература, пишет Громека в своем оригинальном журнальном рапорте, не может сражаться с мнениями, которые подвергаются преследованию и запрещаются цензурой. Разум не может подавать руки насилию». Когда преследуется целое литературное направление, продолжает Громека, тогда все прочия направления, бывшие с ним в споре, становятся в унизительное положение невольных доносчиков. Он не может верить, чтобы гонение на упомянутые журналы было решено продолжить. Он не может верить, чтобы правительство решилось «продлить то положение вещей, при котором в одно и то же время заботятся об улучшении крестьянского быта и запрещают частным людям защищать крестьян, даруют народу правильный суд и защиту от административного произвола и преследуют административным порядком лиц, почему-либо не нравящихся начальству, хлопочут об уничтожении произвольной цензуры и насильно выкидывают из литературы целое направление». Громека надеется, что цензура не воспрепятствует его откровенным и доброжелательным строкам дойти по назначению. Она должна понять, что нельзя скрыть от правительства опасения, разделяемого всем обществом. «Лучше ей иметь теперь дело с нашими, скромно выражаемыми мыслями, чем остаться потом вовсе без дела, когда русская литература переселится за пределы европейской и азиатской России», заключает свою красноречивую петицию пылкий, но наивно-бестактный Громека[13 - «Отечественные Записки», 1862 г., ноябрь. Современная хроника России, стр. 28-34.].
Мы увидим ниже, как отнесся к этому непрошенному заступничеству «Современник». Но нельзя не заметить, что в такое странное положение «Отечественные Записки» могли попасть только вследствие умеренного характера своего собственного образа мыслей. Желая идти в дружеском общении с правительством и, так сказать, поворачивая к официальным учреждениям свою неизменно добродушную физиономию, такой публицист, как Громека, не ставил ничего серьезного на карту. Его литературно гражданственный поступок, как и вся его журнальная деятельность этого периода, не представлял ничего особенно рискованного, не был проявлением настоящего политического мужества. Его либерализм свободно разливался в слегка риторических тирадах под хладною сенью закона и канцелярского благомыслия. Испрашивая для «Современника» свободу, Громека не обнаруживал глубокого идейного интереса, потому что, в сущности, он сам шокировался именно крайностями литературного нигилизма, неумеренностью его требований, беспощадностью его политической критики. Будучи человеком с ограниченной программой, он не мог искренно желать, чтобы направление «Современника» свободно разливало свои шумные волны, тревожа умы и взбудораживая страсти. Ослепленный оптимистическими надеждами, Громека думал, что радикальное движение, с его бурными и беспорядочными взрывами, уже приходило к концу, уступая место лойальному, умеренному, аристократически выправленному либерализму, который приведет Россию, без борьбы и натиска, к полному и безмятежному благополучию. Не разразись злосчастное запрещение над «Современником» и «Русским Словом», пылкий Громека, помахивая и поигрывая своим «кнутиком рутинного либерализма», сам выгнал бы «дикую орду» радикалов на прямую и широкую дорогу прогресса. Уступи цензура его убедительным увещаниям, и все опять направится тем же верным ходом: пройдя огонь журнальной полемики, радикальная печать очистится от своих язв и грехов, и все три органа русского прогресса – Правительство, «Отечественные Записки» и «Современник» – дружным шагом направятся к общей цели, оставив за своей спиной бессильно злобствующего, тщетно надрывающегося в патриотических иеремиадах Каткова.
Пылкий Громека в своих отношениях с «Современником», в самом деле, был в том двусмысленном положении, в каком должен был оказаться всякий умеренный либеральный деятель, ведущий борьбу с направлением, оказавшимся вне покровительства закона. Как мы уже сказали, он ничем не рисковал: ему нечем было рисковать, у него не было за душою ничего такого, чего он не мог бы твердою рукою занести в официально признанные проекты того времени. В борьбе с Чернышевским честное, твердое и недвусмысленное положение мог занять только тот, кто, отправляясь от другого философского мировоззрения, шел бы смелым, решительным путем к столь же серьезным и беспощадным выводам.
II
Каким-то особенным весельем и бодростью проникнуты первые книги «Современника» 1863 года. Редакция подобралась и, несмотря на отсутствие Чернышевского, повела работу с большою энергиею. Событием дня должен был стать роман Чернышевского «Что делать», а среди постоянных работников журнала, в качестве фактического соредактора, появился новый блестящий талант, свежий и остроумный, несмотря на свою, не всегда опрятную болтливость, несмотря на отсутствие внутреннего жара и протестантской сосредоточенности. Казалось, что «Современник» окреп окончательно. С внешней стороны он в этом году отличается изобилием литературных материалов. Но внимательно вчитываясь уже в первые книги, нельзя не почувствовать в идейной стороне дела какого-то разброда, разноголосицы, отсутствия духовно-сплоченной организации, направляющей все силы журнала по определенному пути. Фельетоны Щедрина, его многочисленные работы в разных отделах «Современника», – статьи о театре, письма из Москвы, многочисленные библиографические и полемические заметки, наконец обширный вклад, сделанный им в стихотворной и прозаической форме в № 9 «Свистка» – все это, конечно, придавало журналу оживление, яркость, силу. Но, несмотря на все это, «Современник» уже утратила, тот характер прямолинейной фанатической убежденности, какой он имел при Добролюбове и Чернышевском. В прежнем «Современнике» все кипело злобной нетерпимостью политического сектантства. Смех его сатиры звучал ехидно, вызывающе, задорно. Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам и другие лицедеи «Свистка», несмотря на бледность и сухость сатирических талантов, несмотря на неразборчивость в выборе своих жертв, умели добиваться своими средствами определенно поставленной цели. Свист их, оглашая журнальное поле, так или иначе собирал людей под определенные знамена. Сатира возрожденного, иди, вернее говоря, перерожденного «Современника», с юным Щедриным во главе, при всей её сочной и богатой талантливости, не заключала в себе элементов истинно злого, непримиримого обличения. Вместо режущих слух свистков, в ней слышались взрывы задорного, зубоскального, порою распутного хохота, привлекающего публику новизною и неожиданностью хлестких и разухабистых словечек и оборотов, но отучающего от серьезного отношения к обличительной литературе вообще. Все то, что придает настоящей сатире глубоко серьезный и даже трагический характер, все то, что зреет в душе всякого талантливого писателя с годами жизни, вся та горечь, которая ощущается в позднейших произведениях Щедрина, совершенно отсутствует в его первых фельетонах. Здесь бросается в глаза бойкий и ядовитый ум, разлагающий жизнь в разных её пластах и направлениях, беспокойный юмор, мечущийся из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке, почти неисчерпаемый, вечно живой балагурный талант, превращающий в ряд интересных, художественно-законченных эпизодов всякую бесформенную жизненную канитель. Но высокого настроения, духа, творящего в художественных образах смелые и значительные идеи, не видно в этих блестящих, но часто совершенно бесплодных писаниях молодого Щедрина. Россия неудержимо смеялась, читая небывало самобытные рассуждения о «дураковой плеши» и «дураковом болоте», о «Ване – белые перчатки» и «Маше – дырявое рубище», о «Цензоре в попыхах» и «Сеничкином яде», но смех этот не был очищающим, отрезвляющим смехом. Читатели сбегались послушать забавного рассказчика, умеющего коварно подмигивать и ехидно поддразнивать тех, про кого нельзя сказать открытой правды, но самая обличительная тенденция автора, расплывчатая и неуловимая, никого в сущности не язвила, не убивала ничьей репутации. Имя Щедрина скоро стало греметь, как имя нового таланта, щедро разбрасывающего ходкую и звонкую монету анекдотического остроумия. Но люди с настоящими духовными страстями и серьезным отношением к задаче журналистики знали, что в этом виде влияние Щедрина не глубоко, и слава его не прочна. Мы уже видели, с какою силою предостерегал Щедрина Достоевский, призывая его на новый, более ответственный и более достойный путь. Ниже мы увидим, как отнесся к нему молодой Писарев, не разглядевший даже за его юмористическими ужимками серьезного и многообещающего таланта. Для того, чтобы выйти на другую литературную дорогу и возвести свою сатиру на степень важного общественного и художественного явления, Щедрину нужно было многое пережить и перестрадать. В тяжелых нравственных испытаниях, от которых конвульсивно сжималась, трепетала и замирала вся русская жизнь, должна была отпасть от Щедрина вся та скверная накипь, с которою он вышел из провинциальных, чиновно-дворянских трущоб… Но при всех своих недостатках, при всей бессодержательности своих ранних обличений, Щедрин все-таки, с самого начала своей деятельности, заблистал в «Современнике», как звезда первой величины. Рядом с бездушными и мертвыми писаниями Антоновича, его фельетоны, его публицистические и критические заметки, каждый штрих его молодого пера дышат жизнью, играют свободным остроумием.
В кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев «Совре ленник» отмечает все то, что случилось без него на сцене русской литературы. Сличая минувшее с настоящим, журнал находит, что в короткое время с точностью определились главные направления, господствующие в современной печати, её настоящие виды и стремления. Журналы действуют теперь под определенными знаменами, каждый на своей территории. Было время, когда «Современник» имел виды на сердечное примирение с «Русским Вестником», но теперь все его надежды на этот счета пропали. Физиономия «Русского Вестника» определилась, характер его установился окончательно. Отказавшись от своих преданий, Катков стал говорить без аллегорий и либеральных прикрас, «произносить свои панегирики и катилиниады твердым и резким голосом, не конфузясь и не мигая глазом». «Русский Вестник» укрепился в своей позиции, и теперь уже нет никакой возможности поколебать его, остановить и урезонить. «Отечественные Записки» затеяли усердную борьбу с нигилизмом, и на этом поле Громека, их виднейший сотрудник, приобрел себе широкую известность. Его хроники производят сенсацию, их читают. Но пылкий публицист не имеет ни малейшего основания гордиться своим положением среди действующих журналистов. Упомянув об известном ходатайстве Громеки перед цензурным ведомством, «Современник» восклицает с раздражением: «Какое великодушие и какая храбрость!.. Хроникер отважился ходатайствовать за Современник, который часто враждебно относился к нему». Что сказать на это ходатайство? Кто посылал Громеку адвокатом в правительственные учреждения отстаивать интересы того направления, к которому он сам не принадлежит? «Современник» гнушается заступничеством «Отечественных Записок», и в их ходатайстве видит только фарс, ловкий фарс, искусно рассчитанный на то, чтобы уронить противника и возвысить себя. О журнале Достоевского «Современник» отзывается с полным пренебрежением. «Время» любит похвастать собственными своими достоинствами. В хвастовстве оно доходит до виртуозности, до настоящей хлестаковщины. Его сотрудники простые фразеры, перебивающиеся небольшим запасом постоянно повторяемых метафор. Их исходная мысль ложна, их статьи – вздор и болтовня. Косица в отсутствии «Современника» не находил сюжета для своих писаний…[14 - «Современник» 1863, № 1-2, Краткий обзор журналов, стр. 226-256.].
Та же мысль проводится и в статье Антоновича «Литературный кризис». Недавно еще казалось, пишет он, будто все органы печати проникнуты одним духом, будто все её деятели идут к одной цели и преследуют одинаковые интересы. Но вот в литературе совершился кризис, и единство в целях и стремлениях её выдающихся представителей исчезло. Возникли несогласия в вопросах, прежде никого не смущавших, вражда вышла за пределы литературного круга. Обличения и бичевания раздаются реже и реже, в журнальных исполинах и пигмеях заметен большой упадок храбрости. Прежде литература находилась, можно сказать, в эмбриональном состоянии. Трудно было заметить разницу между отдельными её направлениями, во всем господствовал хаос и вавилонское столпотворение. Но вот подошло время, когда общие места оказались недостаточными, когда потребовались прямые и определенные суждения, и тогда, вместо бойких речей, потекли благоразумные фразы и резонерство. Журналы сняли свои маски. Один только «Современник» остался во главе настоящего прогрессивного движения общества и теперь больше, чем когда-нибудь, его программа приобретет литературную и политическую яркость. Антоновичу, вместе с другими сотрудниками журнала, казалось, что «Современник» теперь, как и прежде, пойдет путем авторитетного руководителя интеллигентных масс.
Однако, перебирая главные статьи, напечатанные в первых книжках «Современника», мы не находим в них определенной политической программы. Между рассуждениями различных авторов нет полной солидарности в политическом тоне, нет гармонии в отдельных оттенках публицистического обсуждения текущих жизненных вопросов. Некоторые статьи могли-бы по своей корректности в отношении к правительственным реформам появиться в журнале с более умеренными либеральными запросами, другие страдают отсутствием настоящей юридической критики. Общие теоретические места, всплывающие в статьях Антоновича, отличаются крайнею ограниченностью правовых представлений. Как-бы в оправдание своих узких реалистических требований, Антонович проводит в упомянутой статье своей следующий странный взгляд на роль теоретических идей в культурном процессе всякого общественного развития. Можно принять за правило, пишет он, что теоретическая высота какого-нибудь учения совершенно не соответствует практическим требованиям, выводимым из него. Теоретически-возвышенные идеи ослабляли энергию в людях, отвлекали их мысли от действительного мира, обращали их к безжизненным и мечтательным сферам. Проповедуя пассивное терпение и рабскую покорность, они брали под свое покровительство все, что стремилось к преобладанию и незаконному господству над людьми. Ими оправдывались и освящались всякие насилия, притеснения и угнетения. Только учения, с виду не очень возвышенные, занимавшиеся реальными предметами действительной жизни, говорит Антонович, были всегда учениями протестующими, заступались за слабых и угнетенных. Обойдите весь свет, восклицает он, просмотрите все отделы жизни, и вы найдете оправдание этим мыслям. Кто защищает розгу, рабство, тот держится теоретически высоких понятий. Кто защищает свободу и другие священные права человека, тот не держится возвышенных теоретических понятий[15 - «Современник», 1863 г., № 1 и 2, Литературный кризис, стр. 105.]. В другой статье, написанной по поводу книги Чичерина «Несколько современных вопросов», Антонович глубокомысленно рассуждает на тему о свободе и власти. При всей кажущейся солидности и либеральной безукоризненности этих рассуждений, в них нельзя усмотреть веяния настоящей свободной мысли, которую Антонович мог-бы с правом противопоставить несколько узким, слегка лойальным тенденциям Чичерина. По мнению Антоновича, «свобода и власть с законом вещи согласные и тождественные». Элементы власти и закона, говорит он, действительно необходимы для свободы, для всего, «как пища для человека»: они служат выражением свободы, ограждением и утверждением её. Приведя некоторые мысли Чичерина, что только свобода, подчиняющаяся закону, может установить прочный порядок, что повиновение закону не должно быть сужено степенью его внутренних достоинств, что, во избежание анархии, обязанность повиновения распространяется на все юридические уставы страны, радикальный критик «Современника», желая быть практичным во что-бы то ни стало и не заноситься в облака слишком возвышенных теорий, прибавляет следующее: «Требование справедливое, в практике без него жить нельзя и неисполнение этого требования есть преступление»[16 - «Современник», 1863 г. март, Неуважение к науке, стр. 98.]. Наука имеет право на критику, она может заявлять еще и другие требования, но в жизни приходится исполнять всякий закон, каков-бы он ни был по существу.
Настоящей радикальной политической программы, с решительным анализом предпринимаемых правительством реформ, мы в «Современнике» этого периода не найдем нигде. Иногда в какой-нибудь статье промелькнет дельное и дальновидное юридическое замечание, загорится в намеке смелое требование, но в общем, как это и было верно отмечено Громекою в мартовской книге «Отечественных Записок» 1863 г.[17 - «Отечественные Записки» 1863 г., март: Современная хроника России, стр. 26.], «Современник» в политическом отношении потерял ту боевую окраску, которую он имел при Чернышевском. Он порою ярок в словах, но его содержание потускнело, дух его утратил свой полет. В том же томе «Современника», где, в прекрасной статье Унковского «Новые основания судопроизводства», мы находим отголосок более глубоких запросов серьезной части русского общества, где, среди обстоятельного и вполне компетентного разбора новых принципов процесса, мы встречаем твердое заявление, что начала и правила, соблюдение которых не обставлено никаким действительным обеспечением, на практике не имеют никакого серьезного значения[18 - «Современник» 1863 г., № 1, Новые основания судопроизводства, стр. 392.], – в другой статье, принадлежащей редакции, во «Внутреннем Обозрении», журнал высказывает свою полную солидарность с правительственными действиями. Мы стоим, говорится в этом редакционном отделе., за привитие к народу русскому европейской цивилизации во всей её широте, с сохранением нашего общинного устройства и с устранением тех ошибок, которые сделали в своем развитии европейские общества. Но затем, приступая к разбору правительственных мероприятий, «Современник» заявляет: «этим путем привития к нашей жизни европейской цивилизации идет и наше правительство». Перечислив все главные реформы последнего времени, автор заключает: «Из неполного перечня поименованных нами реформ читатель видит, что наша жизнь обнята и тронута ими сполна. Если бы только половина их совершилась с желанным успехом, Россия сделала бы огромный шаг вперед на пути своего развития»[19 - «Современник» 1863 г., № 1 и 2, Внутреннее обозрение, стр. 292.]. Радикальный журнал, заодно с «Отечественными Записками», расписывается в своем полном удовлетворении, не пускаясь ни в какую серьезную экономическую или политическую критику. От всестороннего, но часто беспредметного юношеского протеста времен Добролюбова и Чернышевского, «Современник» перешел к ординарному, умеренно либеральному, бесцветному резонерству в униссон с благожелательными канцелярскими проектами общегосударственного блага. Но как бы не сознавая совершившихся в журнале, по воле судеб, роковых внутренних перемен, разжигаясь соблазнительными традициями крайней передовитости, «Современник», в том же «Внутреннем Обозрении», стараясь разогреть свою связь с молодым поколением, заводит направленский разговор о нигилизме и постепеновщине. Признав, что даже части правительственных преобразований, которые очевидно могли иметь только характер политической постепенности, было бы достаточно, чтобы подвинуть Россию далеко по пути развития, автор тут же начинает доказывать, что в постепеновщине нет никакой определенной меры постепенности и что только нигилизм «силен своим единством внутренним, как в целой партии, так и в каждом её члене». в другой статье, принадлежащей перу Щедрина, мы находим сильно выраженное осуждение внешней истории русского общества «со всем её мишурным блеском, со всем театральным громом». В то самое время, когда журналы распевают дифирамбы событиям дня, внутри России пишется другая история, история своеобразная, не связанная с внешнею даже механически. «Эта история пишется втихомолку, говорит Щедрин, и не ярко. Она не представляет собою сплошного рапорта о благосостоянии и преуспеянии, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах. Содержание её раскрывается перед нами туго и скорее поражает абсентизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы. Но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в пучину безвестности»[20 - «Современник» 1863 г., май, Наша общественная жизнь, стр. 230-231.].
Среди таких отрывков из различных теорий о народном прогрессе и различных политических программ, умеренно-либеральных, радикальных и народнических, шумным потоком, бурля и вскипая на встречных камнях, несется несколько буфонствующая сатира молодого Щедрина. Чуткий ко всякой современности, художник с огромным и своеобразным талантом, человек обширного ума и беспощадной наблюдательности, Щедрин, по привычке русских либеральных журналистов с особенным уважением относиться к литературному критику, не побрезгал разделить с неряшливым в своих суждениях Антоновичем его неосмысленную антипатию к классическому произведению Тургенева «Отцы и дети». Антонович говорил: «Базаровщина есть, может быть, чистая клевета на литературное направление»[21 - «Современник», 1863 г., № 1-2. Русская литература, стр. 98.], – и Щедрин тоже в бойкой статейке о петербургских театрах, написанной с веселым ехидством, почти издевается над романом Тургенева. Базаров, по его мнению, не есть что-нибудь серьезное. Тургенев написал свою повесть на тему о том, как «некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важною барыней, – и что из этого произошло». Все остальное в романе: «словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста» – не больше, как эпизоды, которые «искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа». Разбирая далее пьесу Устрялова «Слово и дело», служившую как-бы ответом Тургеневу на его роман, Щедрин язвительно упрекает автора за то, что он искал в произведении Тургенева какого-то особенного, сокровенного смысла. Этого смысла в нем нет, говорит Щедрин, и вот почему «сочинение, имеющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочинение мнимое, сочинение, выступающее с целым запасом смертоносных орудий затем, чтобы умертвить клопа»[22 - «Современник», 1863 г., № 1-2, Петербургские театры, стр. 183.]. Никаких серьезных оговорок. Щедрин вместе с Антоновичем является своеобразным истолкователем замечательнейшего литературного явления, в котором отразилась богатая, полная сил жизнь молодого русского общества, Журнал не усвоил определенного отношения к нигилизму, подготовленному всею деятельностью Добролюбова и Чернышевского, и, увидав его в художественном отражении, сделанном с могучим талантом, накинулся на него с совершенно неожиданными для сотрудников «Современника» протестами. Даже беллетристическая эпопея Чернышевского, с её явно нигилистическими героями и романтическими подробностями, навеянными мечтою о новых людях и нравах, не возбудила в преемниках Чернышевского того сочувствия к базаровскому типу, которое сразу овладело Писаревым и подняло его на высоту исторического момента. Ум без системы, с пестрыми художественными интересами, с природною склонностью видеть все в игривом освещении, с раздраженным недоверием ко всему, что может быть названо русскою действительностью, Щедрин не сумел удержать Антоновича от бестактного глумления над романом Тургенева, а также над Теми реальными течениями, которые были захвачены в «Отцах и детях». Русская жизнь узнавала себя в новом типе, выкованном первоклассным художником с скульптурной рельефностью, поставленном перед глазами со всею отчетливостью действительного, всем известного факта, Но критика журнала, которая, казалось-бы, сразу должна была стать в сочувственное отношение к новому явлению, в чем-то усомнилась, увлеклась пустыми придирками и, вдавшись в совершенно бессмысленные по своей развязности эстетические рассуждения и сближения между Тургеневым и Аскоченским, пошла в разрез с наиболее передовою и могущественною в то время жизненною волною. В фельетонах 1863 и 1864 годов яркий талант Щедрина, не проложивший себе определенного русла, не овладевший своими более глубокими трагическими нотами, легкомысленно, стихийно, безыдейно плещется между противоположными явлениями, не проникая во внутрь их, с балагурным хохотом скользя по их внешним очертаниям. Но мутные волны неопределенной юмористической болтливости иногда вдруг, бурно разыгравшись и закружась, выбрасывают на своих хребтах легкую, блестящую пену настоящего остроумия. Среди расплывчатых, мучительно повторяющихся публицистических рассуждений, пересыпанных разными заковыристыми словцами, моментами вспыхивают грустно-юмористические образы настоящей, художественно-воспринятой русской действительности, и фельетоны, написанные ради временных целей, при случайных перспективах, приобретают живой литературный характер. В ежемесячные хроники Щедрина события современной жизни заносятся какими-то пестро-раскрашенными обрывками, не освещенными одною властною, ярко-пылающею идеею. По своему характеру, по тону своего сатирического обличения, эти фельетоны стоять в полном противоречии с тенденциозно-прямолинейною сатирою Добролюбова, с фанатически резкими, яростными обличениями Чернышевского.
Уже в первом фельетоне 1863 г. мы находим ту двойственность сатирического настроения, которая дала впоследствии повод сотрудникам «Русского Слова», при более ярком случае, накинуться на Щедрина с негодующим направленским протестом. Бросив в публику несколько язвительных намеков на тему о «дураковой плеши» и «дураковом болоте», посмеявшись над русскою благонамеренностью, начинающей свой день с чтения «Северной Пчелы» и заканчивающей его блистательным образом «на бале у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга», мимолетно задев современную «сирену в виц-мундире» и рассказав маленькую сатирическую быль о «Сеничкином яде», Щедрин заводит речь на нескольких страницах о нигилистах. Нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего, пишет он. Тявкнет-ли на улице шавка, благонамеренные люди кричат: это нигилисты подучили ее. Пойдет-яи без времени дождь, благонамеренные люди кричат: это нигилисты заговаривают стихии. Случились в Петербурге пожары, пошли слухи о поджогах, благонамеренные патриоты пустили в ход свою ненависть к нигилистам. «Образовалась какая-то неслыханная, потаенная литература, благонамеренные возопили: это они, это нигилисты». Но сатирик готов заступиться за нигилистов. «Я нахожу, пишет он, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек – очень почетное сословие». Самая остервенелость вражды против них доказывает, что к ним надо относиться серьезно. Не будь мальчишества, не держи оно общество в состоянии постоянной тревоги новых запросов и требований, Россия уподобилась-бы «заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь». Выразив в таких словах явное сочувствие к молодому поколению, Щедрин тут же, подходя к некоторым конкретным явлениям из той же нигилистической волны, срывается с своей прогрессивной позиции и, уступая потребности в сатирической карикатуре при виде стриженой девицы, разражается вульгарным смехом и площадным остроумием. По временам, говорит он, фельетонист должен возвышаться до гражданской скорби. Например, он встречает в обществе очень молоденькую и миловидную девицу, до того молоденькую, что еще вчера родители «выводили ее в панталонцах». Начинается разговор. Фельетонист, натурально, спрашивает девицу, читала-ли она произведение Анны Дараган и как оно ей понравилось? Девица отвечает, что недавно вышло в переводе новое сочинение Шлейдена, и что Тургенев, написавши «Отцов и детей», тем самым доказал, что он ретроград. Фельетонисту делается весело. «Какой милый пузырь! И как ведь все это бойко. Ах, черт побери! Ах, чорт тебя побери!» Но сообразив хорошенько, с каким явлением он имеет дело, фельетонист вдруг чувствует, что он обязан отнестись к девице с меньшею игривостью и что, говоря о девице, обзывающей Тургенева ретроградом, он должен принять тон торжественный и даже скорбеть: «торжествовать по случаю девицы, а скорбеть по случаю Тургенева»[23 - «Современник», 1863, № 1-2, Наша общественная жизнь, стр. 359.]… Этот коротенький эпизод, стоящий по соседству с самобытными остротами о «дураковом болоте» и о «сирене в виц-мундире», но находящийся в тесной связи с рассуждениями «Современника» о некотором хвастунишке и болтунишке из проходимцев – Базарове, сразу освещает некоторую путаницу во взглядах на современные явления. Быть может, Щедрин понимал в глубине души, что о ретроградстве Тургенева по поводу «Отцов и детей» нельзя было говорить в серьез. Его забавляет девица, идущая в своих рассуждениях по стопам Антоновича, он рисует ее, без всякого сомнения, в грубо-комическом свете… Впрочем, тут все нелепо, вздорно и перепутано. Нельзя понять, к чему собственно относится этот цинический и высокомерный хохот: может быть, Щедрин смеется над наивностью рассуждений о ретроградстве Тургенева, а, может быть, его просто разбирает пошловатый смешок при виде молоденькой стриженой девицы-пузыря, рассуждающей не хуже Антоновича!
С каждым новым фельетоном сатира Щедрина все более и более разгуливается, теряя определенность содержания, но приобретая свой особый специфический колорит. Рядом с публицистическими и полемическими рассуждениями, фельетонист дает ход своему художественному таланту, воспроизводя отрывочными штрихами, в юмористическом свете, фигуры и факты из современной жизни. Нигде не договаривая своей руководящей мысли, Щедрин не жалеет примеров и анекдотов, чтобы представить русскую действительность в её непривлекательном виде. Образы, носящие отпечаток разнородных комических типов, не расположены в определенном порядке, не сгруппированы так, чтобы передать цельный художественный замысел. Смех сатирика сквозит главным образом во внешних описаниях, своеобразных по стилю, ярких и смелых, но лишенных глубокого психологического содержания. И повсюду, в каждом новом фельетоне Щедрина, так сказать направленская разработка текущих вопросов страдает невыдержанностью и едва заметными, но несомненно существующими противоречиями. Художник с ограниченным духовным горизонтом, с пристрастием к внешним комическим рисункам, постоянно пересекает дорогу тенденциозно-обличительному журналисту, взявшему на себя задачу продолжать дело Добролюбова и Чернышевского. Его фельетоны, составляя наиболее яркое место, в «Современнике» этого периода, являются лучшим доказательством, что этот журнал сбился с своего определенного пути и, шатаясь, бродит перепутанными окольными дорогами, без ясно поставленной цели, без отчетливо сознаваемого руководящего идеала.
Щелкнув мимоходом стриженую девицу, Щедрин в следующем фельетоне весело глумится над «благородными чувствами и хорошими мыслями, грозящими затопить русскую литературу в такой же степени, в какой, с другой стороны, затопляет ее сильно действующая благонамеренность». Если благонамеренность, говорит Щедрин, отвратительна «вследствие своей цинически-легкой удовлетворяемости», то благородные мысли и чувства «поражают своей бестактностью и сухостью, режут глаза своим бессилием и ограниченностью». Точно издеваясь над заветом Добролюбова и предписаниями Чернышевского, Щедрин с явной иронией задает следующие вопросы, подкапывающиеся под всякую тенденциозную литературу: «возможно-ли, спрашивает он, написать благородную арифметику, похвальную химию и не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию?» Конечно, невозможно: там, где есть настоящее дело, там никто не станет заботиться ни о чем, кроме правильного и точного его исполнения. Благородство чувств укоренилось только в русской беллетристике. Явились целые фаланги повествователей, романистов, фельетонистов, драматургов, которые решили раз навсегда, что талант – вздор, что знание жизни – нелепость и что главное заключается в благородстве чувств, – не то иронизирует, не то раздраженно брюзжит сатирик. В пояснение своей мысли Щедрин тут же набрасывает проспект идей, пригодных для бесталанного тенденциозного искусства, прилагая к нему несколько веселых пародий на современные обличительные произведения: «Маша – дырявое рубище», «Полуобразованность и жадность – родные сестры», «Сын откупщика»[24 - «Современник», 1863, март, Наша общественная жизнь.] и т. п.
В апрельской книге «Современника» молодой сатирик схватывается на публицистической почве с помещиком Фетом и тут же, в девятом и последнем номере «Свистка», дает несколько образцов – в стихах и в прозе – своей разгульной юмористики. Под новым псевдонимом Ших. Змиев-Младенцев, он пишет «Московские песни об искушениях и невинности», «Гимн публицистов», «Элегию». Затем он сочиняет «Три письма отца к сыну», знаменитый «неблаговонный анекдот о г. Юркевиче», комедию в четырех сценах, представляющую Каткова, Леонтьева и Павлова за чтением первой книги возобновленного «Современника» и, в заключение, разражается обличительным сообщением о новой секте «Сопелковцы», возникшей в Москве, сатирическими угрозами относительно содержания будущих номеров «Свистка» и еще небывалой в русской литературе «Песней Московского дервиша». Эта песня соединяет в себе едкую соль лучших вдохновений Конрада Лилиеншвагера и шумиху поддельного юродства Кузьмы Пруткова, но в ней чувствуется какой-то осатанелый разгул воображения, ощущается сила стихийного таланта, мощно управляющего богатым и упругим языком сатирических намеков и чисто литературных эффектов. Эта песня звучит, как отголосок каких-то старых и диких татарских напевов, дремлющих под пластами культурных преобразований и вдруг пробуждающихся, среди торжествующих патриотов Москвы XIX века, чтобы заглушить расплывчатый мотив русской национальной песни. Исступленный припляс азиатского деспота, бешено топчущего нежные всходы молодой жизни, слышится в этих отрывочных строках, с их пронзительными вскриками и монотонным гудением до неожиданности ярких слов. Не выражая никакого определенного, ясно продуманного обличительного протеста, стихотворение это, по своей силе и колоритности, является лучшим произведением «Свистка» за все годы его существования и служит характерным финалом в этом ряде сатирических вакханалий.
Песнь Московского дервиша.
(Начинает робко, тихим голосом).
Уж я русскому народу
Показал-бы воеводу.
Только дали-бы мне ходу,
Ходу! ходу! ходу! ходу!
(Постепенно разгорячается).
Покатался-б! Наигрался-б!
Наломался-б! Наплясался-б!
Наругался-б! Насосался-б!
Насосался-б! Насосался-б!
(Разгорячается окончательно и, видя, что никто ему не возражает, из условной формы переходит в утвердительную).
Я российскую реформу,
Как негодную проформу,
Литературные заметки.
Вылью в пряничную форму!
Форму! форму! форму! форму!
Нигилистов строй разрушу,
Уязвлю им всладце душу:
Поощрили-б лишь – не струшу!
Нет, не струшу! Нет, не струшу!
Аким Львович Волынский
Либеральное уподобление Тургенева Аскоченскому. – Бурные события эпохи. – Направление «Отечественных Записок». – Громека и его заступничество за радикальные журналы. – Сатирические фельетоны Щедрина в «Современнике». – Колебания в политическом направлении «Современника». – Выходка против нигилистов. – Насмешка Щедрина над романом Чернышевского. – Первая схватка с «Русским Словом». – «Лукошко глубокомыслия» и «бутерброды глубокомыслия». – Отъезд Щедрина и решительная битва между обоими журналами. – Вмешательство Писарева. – Антонович и Писарев о Чернышевском. – Чернышевский о Чернышевском. – Победа «Русского Слова» и падение «Современника». – Прекращение обоих журналов и возникновение новых изданий.
Аким Волынский
Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов[1 - «Современник» 1862 г. Март: Асмодей нашего времени. – «Отечественные Записки» 1862 г. Февраль: Письма об изучении безобразия. И. Прогрессистова. – Там же. Март. Современная хроника России. – Там же. Апрель; Современная хроника России. – Там же, Май: Современная хроника России. (Реакция против Базаровщины, отсутствие вождей в партии передовых, случайности, брызги, шероховатости, Унковский и пр.). – Там же. Июнь (О прекращении на 8 месяцев «Современника» и «Русского Слова» и приостановке «Дня»). – Там же. Сентябрь: Современная хроника России. (Положение обозревателя становится затруднительным). – Так же. Октябрь: Современная хроника России. – Там же. Ноябрь: Современная хроника России. (Громека обращается к цензуре с несколькими словами, давно лежащими у него на душе. Несправедливость, невозможность и вредность преследования нигилизма). – «Современник» 1863 год, № 1 – 2. Литературный кризис. М. Антоновича. Петербургские театры. – Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев. – «Внутреннее Обозрение». – Наша общественная жизнь. – Новые основания судопроизводства. А. М. Унковского. – Там же. Март: Наша общественная жизнь. – Неуважение к науке. М. Антоновича. – Там же. Апрель: Наша общественная жизнь. – Свисток № 9. – Там же. Май: Наша общественная жизнь. – Там же. Август: В деревне. – Там же. Сентябрь: Наша общественная жизнь. – Там же. Ноябрь: Наша общественная жизнь. – Там же. Декабрь: Наша общественная жизнь. – «Современник» 1861. Январь: Наша общественная жизнь. – Там же. Февраль: Наша общественная жизнь. – Там же. Март: Наша общественная жизнь («мальчики», «вислоухие», «юродствующие»). – Там же. Апрель: Современные романы. – Там же. Октябрь: Вопрос, обращенный к «Русскому Слову» Постороннего Сатирика. – Там же. Декабрь: «Русскому Слову» (предварительные объяснения). – Письмо в редакцию N. Салтыкова. – «Современник» 1865. Январь. Литературные мелочи («Русскому Слову». Денежное несчастье с г. Благосветловым, Постороннего Сатирика. – «Ответь на вопрос», письмо в редакцию Д. Минаева). – Там же. Февраль: Добросовестные мыслители и недобросовестные журналисты. – Промахи, М. Антоновича. – Литературные мелочи (Глуповцы в «Русском Слове»). Постороннего Сатирика. – Там же. Март: Современная эстетическая теория (по поводу второго издания трактата Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности») М. Антоновича. – Литературные мелочи (Барские лакеи в «Русском Слове». Г. Зайцеву). Постороннего Сатирика. – Письмо в редакцию «Современника» Варвары Писаревой. – Там же Апрель: Промахи. М. Антоновича. – Там же. Май: Литературные мелочи (к читателям). Постороннего Сатирика, – Там же. Июнь: Литературные мелочи (ученые пристрастия по поводу брошюры Кавелина «Мысли о современных научных направлениях»). Мораль г. Краевского. Заключение. – Там же. Июль: Лже-реалисты. М. Антоновича. – Там же. Август: Итоги. – «Русское Слово». 1864. Февраль: Глуповцы в «Современнике». В. Зайцева. – Цветы невинного юмора. Д. Писарева. – Там же. Апрель: Кающийся, по нераскаявшийся фельетонист «Современника». – Там же, Сентябрь: Нерешенный вопрос (статья первая). – Там же. Октябрь: Нерешенный вопрос (статья вторая). – Ответ «Современнику». – Там же. Ноябрь: Нерешенный вопрос (статья третья). – Там же. Декабрь: Г. Постороннему Сатирику. – «Русское Слово» 1865. Январь. Буря в стакане воды, или копеечное великодушие г. Постороннего Сатирика. Г. Е. Благосветлова. – Там же. Февраль: Г. Постороннему и всяким прочим Сатирикам. – Несколько слов г. Антоновичу. В. Зайцева. – Последнее объяснение с Посторонним Сатириком «Современника». Г. Благосветлова. – Там же. Март: Прогулка по садам российской словесности. Д. Писарева. – Там же. Май: Разрушение эстетики. Д. Писарева. – Там же. Сентябрь: Посмотрим. д., Писарева. – Там же. От издателя. – Там же. Ноябрь: В отмену объявления «Русского Слова». Николая Соколова и Варфоломея Зайцева. – Ответ II. Благовещенского и Г. Благосветлова и проч. – «Отечественные Записки» 1863. Март: Современная хроника России. – Там же Май: Заметка для редакции «Современника». – «Отечественные Записки» 1864. Июнь: Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме. Incognito. – Там же. Сентябрь. Покорнейшая просьба (письмо в редакцию). Провинциала. – Там же. Октябрь. Опыт о добродетели в полемике. Incognito – «Отечественные Записки» 1865. Июль, книжка первая Verba novissima. Incognito. «Современная Летопись» 1864, № 2. Роман на берегах Невы, – «День» 1865 г. Журнальные заметки. H. В. No№ 17, 27, 30 и 40. – «Космос» 1869. Фельетон Журнально-научное обозрение. (Литературное лицемерие «Отечественных Записок»), – Там же. № 8. Журнально-научное обозрение. (Литературная недобросовестность). – Литературное падение. И. Рождественского. С.-Петербург 1869.]
Статья IV
I
Медленно, но постоянно накапливались в «Современнике» материалы, послужившие причиною его полного разложения. Борьба с «Временем» и «Эпохою», разыгравшаяся в невероятно скандальное явление, изумила и смутила самых горячих его поклонников. Не подлежало сомнению, что «Современник» вступает в новый период деятельности, и что за грубыми приемами его полемики, за густыми облаками той едкой пыли, которую взбивали его расходившиеся сотрудники, уже не было ничего твердого, устойчивого, хорошо и глубоко прочувствованного. То, что было выражением свежего настроения и оригинальной мысли у Добролюбова, то, что составляло предмет пылкого и почти вдохновенного убеждения у Чернышевского, у Антоновича превратилось во что-то тяжеловесно бездушное, способное только раздражать, но не волновать умы. Мало-помалу журнал лишался своих настоящих руководителей. У «Современника» не было более ни философа, ни критика. Антонович расширял свою известность только благодаря своим скандальным промахам, благодаря своей бесцельной развязности в выборе тем, совершенно неподходящих для его литературных способностей, но вызывающих на ответ людей с настоящим талантом. С фатальным постоянством он делал себя жертвою чужого остроумия и меткости и, желая подставить ногу другим, сам летел к ним под ноги. Люди разнородных направлений уверенно переступали через него и шли своим путем, к своей определенной дели.
Одним из любопытнейших промахов Антоновича надо признать статью его об «Отцах и детях» Тургенева, относящуюся еще к 1862 году. Только-что неудачно сразившись с Юркевичем на философской почве, Антонович задумал дать реванш Тургеневу за его открытый разрыв с «Современником», разрыв, поощряемый Герценом, который, наблюдая издали за деятельностью Чернышевского и его ближайших сотрудников, никогда вполне им не сочувствовал, а некоторых из них не уважал, как людей[2 - Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, изд. 1892 г. стр. 113.]. Антонович разделывается с романом Тургенева в статье, носящей название «Асмодей нашего времени». По мнению нового критика «Современника», весь роман Тургенева представляет собою плохой, поверхностный морально-философский трактат, который, не удовлетворяя ума, тем самым производит неприятное впечатление и на наше чувство. «Негде укрыться от удушливого зноя странных рассуждений и хоть на минуту освободиться от неприятного, раздражающего впечатления, производимого общим ходом изображаемых действий и сцен», восклицает Антонович. В новом романе Тургенева нет никакого психологического анализа, и за исключением одной старушки, нет ни одного живого лица, ни одной живой души. Все личности в нем – это идеи и взгляды, наряженные в конкретную форму. К главному герою романа Тургенев питает какую-то личную ненависть. Он мстит ему на каждом шагу и мстительность Тургенева доходит до смешного, «имеет вид школьных щипков, обнаруживаясь в мелочах и пустяках». Антоновичу кажется, что Тургенев хотел изобразить в Базарове «демоническую или байроническую натуру, что-то в роде Гамлета», но, не справившись со своей задачей, романист придал своему герою черты, «по которым эта натура кажется самою дюжинною, по крайней мере весьма далекою от демонизма». Базаров в художественном изображении Тургенева не живая личность, а карикатура, «чудовище с крошечной головкой и гигантским ртом, с маленьким лицом и пребольшущим носом, и притом карикатура самая злостная». Вообще, заключает Антонович, в художественном отношении «Отцы и дети» совершенно неудовлетворительное произведение. В нем нет общей нити, общего действия, в нем «все какие-то отдельные рапсодии». Дав эту блестящую оценку одному из самых замечательных произведений русского искусства, произведению, составившему, можно сказать, целую эпоху в истории умственной культуры России и написанному с поразительною энергиею художественных красок, Антонович переходит к главной обвинительной части своей статьи, в которой доказывается, что Тургенев, своим романом, изменил делу русского прогресса. «Отцы и дети», говорит он, написаны с тенденциями, с резко очерченными теоретическими целями. В них слишком явно выступает сам автор, его симпатии, его «личная желчь» и раздражение. На всем протяжении романа вы нигде не встретите ни искры сочувствия к детям, к молодому поколению. Стараясь набросить невыгодную тень на Базарова, Тургенев слишком погорячился, «перепустил» и стал выдумывать разные небылицы. Для Антоновича ясно, что критика, видевшая в Тургеневе прогрессиста, просто ошибалась в объяснении его прежних произведений, внося в них свои собственные мысли и понятия, не свойственные их автору. Тургенев направил стрелы своего таланта, против того, чего он в сущности не понял. Он слышал разнообразные голоса, наблюдал оживленные споры, но в своем романе он умел коснуться только верхушек тех явлений, которые совершаются в современном русском обществе. Это произведение слабое во всех отношениях. Обозрев его с разных сторон, Антонович приходит к следующему решительному выводу: вот художество, которое действительно заслуживает, если не отрицания, то порицания, коль искусство, не стоящее никакого сочувствия. По силе таланта, по значительности содержания, «Отцы и дети» ничем не отличаются от романа Аскоченского Асмодей нашего времени. «Говорим совершенно искренно и серьезно и просим читателя не принимать наши слова в смысле того, часто употребляемого приема, расписывается Антонович, посредством которого многие, желая унизить какое-нибудь направление или мысль, уподобляют их направлению и мыслям Аскоченскаго»[3 - «Современник» 1862 г., Май, Асмодей нашего времени, стр. 110.]. Антонович читал Асмодея в то время, когда Аскоченский еще ничем не заявил себя в литературе и когда «Домашней Беседы» еще не существовало, и читал его с полным беспристрастием, без всяких задних мыслей. И вот теперь впечатление, произведенное на него «Отцами и детьми», поразило его чем-то давно пережитым, сам Базаров представился ему знакомою фигурою. «Отцы и дети» – это, одним словом, новый «Асмодей» шестидесятых годов.
В течение 1862 г. в «Современнике» не появлялось ничего, более характерного и интересного в литературном отношении. Несколько небольших статей Чернышевского и полемическая распря Антоновича с Юркевичем, Тургеневым и Косицею – вот и все, чем ознаменовал свое существование «Современник» в этом году. Но слава журнала была тогда еще в своем зените, его враждебные стычки с многочисленными противниками приобретали характер всероссийских событий. А время надвигалось мрачное, озаренное кровавым блеском пожаров, встревоженное суровыми угрозами молодой России. Эпоха, начавшаяся смелыми либеральными реформами, могла вдруг, не справившись с натиском новых, свежих брожений, выродиться в тяжелую, гнетущую реакцию. От печати требовался особый политический такт, чтобы дать бодрость настоящим работникам на поприще прогресса. Общество, дорожившее реформами и имевшее право надеяться на дальнейшее движение по пути либеральных усовершенствований, должно было суметь сохранить равновесие и, переработав все свои брожения, дать усиленный ход новым, точным программам. Это было время настоящего политического испытания для культурных сил русского государства. Но, к великому несчастью, не все оказалось на высоте исторического момента. Журналы, не воспитанные ни в какой серьезной политической школе, не привыкшие принимать участие в гражданской жизни страны, влияя на ход вещей вескими, продуманными и последовательными аргументами, с одной стороны холопствовали перед всякими темными силами, предостерегали правительство против увлечений широким делом освобождения, с другой стороны – неистово метались друг на друга, затевали бесцельные, безобразные полемические вакханалии и, в горячке минутных страстей, оставляли без разъяснения настоящие пункты политического разногласия. Среди дыма и огня молодого журнализма дело, темное дело, делали только те, которые разжигали заносчивыми вызовами партийные споры и пользовались ими для своих скрытых целей, чтобы в решительную минуту, круто натянув вожжи, повернуть разбежавшихся коней в глухую сторону реакции. Влияние Каткова входило в курс жизни…
Майская книга «Современника» была последней книгой журнала в 1862 г. В заключение своей ежемесячной летописи «Современная хроника России», в июньской книге «Отечественных Записок», известный в то время пылкий публицист С. Громека писал: «Окончив эту летопись, мы прочитали объявление о прекращении на восемь месяцев журналов Современник и Русское Слово. Официальное известие не объясняет, за что именно обрушилась кара на эти два журнала, оно сообщает кратко, что, на основании вновь вышедших временных цензурных правил, министр внутренних дел и управляющий министерством народного просвещения, по „взаимному соглашению, признали нужным сделать такое распоряжение“. Далее, говорит Громека, Аксаков лишен права на издание газеты „День“, и это последнее распоряжение вызвано неисполнением со стороны Аксакова цензурных правил. „Аксаков сам добровольно лишил страну своего полезного и честного голоса“. Итак, не стало трех изданий, из которых два – „Современник“ и „День“, совершенно противоположны друг другу по духу и направлению. Славянофилы, пишет Громека, могут лишиться последнего средства „открыто защищать свою теорию о любовном соглашении общества с государством и бесполезности каких-бы то ни было гарантий“, умеренные либералы и консерваторы „лишаются в течение восьми месяцев права бороться с мнениями крайних прогрессистов…“»[4 - «Отечественные Запуски», 1862 г., июнь, Современная хроника России, стр. 82-83.]. «Отечественные Записки» выразили сожаление, что два видных журнала исчезли именно в то время, когда в литературе завязалась с ними серьезная полемика, а Косица, верный своей насмешливой манере, трактует это событие в более или менее игривом тоне. Его счастливому настроению нанесен удар. При его, всем известной, любви к чтению, при его страсти к литературным наблюдениям, отсутствие двух названных журналов не могло не показаться лишением. Из солнечной системы наших журналов, пишет Косица, исчезли две планеты…[5 - Н. Страхов, Из истории литературного нигилизма, стр. 156-157.].
«Отечественные Записки», начав смелую борьбу с деятелями «Современника» в первые месяцы 1862 года, несколько сокращают и суживают ее во вторую половину этого года. Журнал открыто порицал те орудия, которыми они пользовались в борьбе за свои убеждения и, постоянно усиливая обвинения, доказывал, что политическая тактика известных журналистов должна повести к реакции. В «Отечественных Записках» стали появляться статьи, написанные в стиле «Свистка», в которых добивались главари «Современника» их же собственными средствами. В «Письмах об изучении безобразия», в сатирических фельетонах под названием «Все и ничего», в веселых «Думах Синеуса», в некоторых критических статьях на литературные темы и, наконец, в наиболее ярком отделе журнала, который составлялся под редакцией С. Громеки, «Отечественные Записки» с большою резкостью, хотя и не всегда с достаточным талантом, выдвигали свою оппозицию бестактному поведению и развращающим приемам «Современника». Многие честные люди, пишут «Отечественные Записки», горячо сочувствуя стремлениям «Современника», сильно не одобряют его балаганного тона и кривлянья. Но большинству, публике, нравится в «Современнике» именно то, что противно интересам литературы. Балаган есть народное увеселение, и «Современник» пользуется народною почвою, на которую стал твердой ногой. Нет, господа, насмешливо восклицает сотрудник «Отечественных Записок», подписавшийся Прогрессистов, с одним направлением теперь далеко не уедете, «будете-ли вы расходиться с Современником, будете ли вы совпадать или даже превосходить его направление, подобно Русскому Слову – успеха все-таки не будете иметь, пока не обратитесь на путь безобразия. В настоящее время это единственный верный путь к литературной славе и журнальному благополучию. Истинно, истинно говорю вам: глупо делаете, что не спешите на этот открытый и свободный путь»[6 - «Отечественные Записки» 1862 г., Февраль. Письма об изучении безобразия, стр. 37.]. Наглость и упрямство в большом почете у толпы, продолжает автор. Вот Громека хотел-бы вести полемику, с уважением к человеческой личности и свободе чужих мнении, и его забивают, непременно забьют. Альбертини вооружился против Чернышевского, но Чернышевский мигнул только бровью и кротко произнес: «милое дитя, избегайте полемических встреч с нами», и вся храбрость полемического обозревателя исчезла, как дым. Сотрудники «Отечественных Записок» не видят, что вне разудалой свистопляски нет спасения. Не слышат они ежеминутно возростающей силы свистунов, не чуют они, что скоро, скоро вся литература превратится в неумолкаемый свист и гам.
Гордые вершины
Наших свистунов
Стали уж и ныне
Выше облаков…
Мощны силы века,
Сила ерунды.
Подожди. Громека,
Свиснешь, брат, и ты!..
Обозревая в насмешливых стишках состояние современной литературы, веселый Синеус видит закат славы Чернышевского и роскошную зарю литературной известности Писарева[7 - Там же, Думы Синеуса, стр. 47-49.]… Вот, вот он воцарится на вакантном престоле русской критики.
Громека полемизирует с Чернышевским и его последователями в серьезном тоне, со свойственной ему горячностью. Его рассуждения носят вполне либеральный характер. Верный партизан всякого рода реформ в политической и социальной жизни страны, хотя и склонный к наивной доверчивости по отношению к бюрократической машине, человек без глубокого таланта и настоящей политической прозорливости, Громека храбро воюет с современным ему нигилизмом, постоянно выкидывая над собою, с пылкостью юноши, еще свежий флаг оптимистического либерализма. Его тирады блещут красноречием, но его доводы не задевают глубины предмета. Его воззвания к обществу и правительству не страдают деланностью или афектацией и как-бы выливаются из горячего сердца, но в них ничто не завоевывает читателя. Указывая на постоянные преувеличения нигилизма, выступающего с отрицанием почти слепым, направленным без разбору во все стороны и при этом не дорожащего своею нравственною репутациею в выборе орудий борьбы и самозащиты, Громека требует полной свободы для печатного слова. Только свежий, здоровый воздух свободы, пишет он, только широкая гражданская жизнь и свободно развивающаяся мысль в состоянии вылечить русское общество от охватившей его философской и гражданской чахотки. Нужен воздух, свобода, жизнь. Вместо двусмысленных полунамеков и скорбных вздохов должны выступить на сцену твердые умы и серьезные знания, должна выступить вся наука, все теории, все умственные силы, при полном свете которых не будет места никакому шарлатанству и отвратительному маскараду убеждений. Нужны новые идеалы для новых построек. Нигилизм уместен только, как орудие критики, как скептическое настроение, ибо как только умами овладевает мысль о новом порядке вещей, «архитекторы новых идеалов получают предпочтение перед разрушителями старых – идеалисты сменяют нигилистов»[8 - «Отечественные Записки», 1862 г., Апрель, Современная хроника России, стр. 50.]. Пусть скептицизм действует свободно, без цензуры. Сколько выиграло-бы общество, если-бы скептицизму никогда не ставили никаких преград. Вспомните, как давно раздавались на Руси сильные голоса против рабства, телесных наказаний, судебной неправды, взяточничества и чиновничьего грабежа. Вспомните все бесчисленные жертвы, принесенные русским народом крепостническому строю и полицейскому произволу. Подумайте, сколько новых сил приобрел-бы творческий дух, если-бы борьба с неправдою развивалась непрерывно, именем самого государства, при помощи всего народа, общественного мнения, всей науки. Предъявляя в такой категорической форме свои политические требования, Громека тут же, с простодушием человека, не знающего жизни и не умеющего измерить силу и глубину раздора враждующих сторон, детски-доверчиво треплет по шее притихшего зверя эгоизма и властолюбия. Ему представляется, что положительные силы общества естественным образом сложились в стройную, организованную систему, на которую можно твердо и спокойно опереться в борьбе за исторические судьбы народа. После пылких речей в приподнятом циническом тоне странно читать наивные рассуждения о непоколебимой вере и неудержимой преданности своим убеждениям людей, ведущих постоянную, оборонительно-наступательную кампанию против настоящих прогрессивных течений. Протестантский пафос перебивается у Громеки наивными, симпатическими излияниями по адресу тех, к кому, казалось-бы, должен был относиться самый его протест. В сущности, он разобрался только в одной стороне дела, и его филиппики против действующей радикальной партии гораздо более продуманы и осмыслены по содержанию, ярки и метки по форме, чем его слегка приторное заигрывание с силами и учреждениями, сообразующимися только со своими уставами и пренебрежительно равнодушными к его писательским указаниям и увещаниям. Полемизируя с «Современником», Громека не хотел-бы, однако, чтобы отпор сопровождался озлоблением против партии движения. Он негодует только на то, что эта партия двигалась до сих пор без всякого такта, повторяя вечно одни и те же фразы, одни и те же приемы. Одной и той же песней встречала она каждое событие. Одни и те же свистки посылала она, без разбору, и первому встречному будочнику, и таким людям, как Костомаров. «Так может действовать дикая орда, восклицает Громека, – но так не действуют партии, имеющие самостоятельных вождей, которые прежде, чем сделать шаг, обыкновенно взвешивают тяжесть нравственной ответственности за него перед обществом и историей»[9 - «Отечественные Зшиски» 1862 г. май. Современная хроника России, стр. 5.]. Противопоставляя людям с журнальным задором действительных работников на пользу народа, «Отечественные Записки» рассказывают целую историю, в которой А. М. Унковский явился истинно дельным, энергичным заступником крестьянских интересов в одном частном процессе: вот где настоящие борцы за право и справедливость, вот где дело, а не красноречивые слова. Без шума и фраз, скромные люди рассеялись по всей русской земле и работают в одиночку, не ожидая рукоплесканий, не гоняясь ни за какими кличками, никому и ничему не льстя и не требуя ни от кого никакой лести для себя. И сколько таких деятелей, замечает Громека, незримых для публики. Это не те храбрецы, гарцующие и джигитующие накануне битвы, которые в решительную минуту осаживают в задния шеренги, а люди робкие и краснеющие в предбитвенных оргиях, но смелые и доблестные на поле сражения[10 - Там же, стр. 17.].
После закрытия «Современника» Громека, как мы уже сказали, умеряет пыл своих нападений на свирепое и распущенное поведение некоторых журнальных ратоборцев. Мы бились с нашими противниками, пишет он, пока они были сильны и стояли лицом к лицу с нами, и мы будем биться с ними опять, когда они встанут на ноги. Но теперь мы можем только сожалеть, что последние стрелы, направленные против них, были опережены печальными событиями. «Не такой победы желали мы над ними»[11 - «Отечественные Записки». 1862 г., Октябрь, Современная хроника России, стр. 43.], замечает Громека. Объясняясь с некоторыми своими противниками, обвинявшими «Отечественные Записки» в том, что они изменили свое прежнее направление, приняв консервативный тон, подслащенный редкими аккордами дешевого либерализма, Громека с большою стремительностью отражает несправедливый и незаслуженный полемический удар. Он всегда доказывал, что нигилизм есть только орудие, а не цель. Он всегда горячо проповедывал, что есть заповедная черта, которую журналисты не должны переступать под страхом «погубить начатое дело и отдать его в жертву реакции». Преданный делу свободы, он не мог быть умерен в своей борьбе с деятелями печати, которые не умеют разрешать свою задачу надлежащим образом. Каждый неосторожный шаг, каждое лишнее движение пугает и волнует его и, стоя между двух огней, «между пылом передовых застрельщиков движения и тяжелой артиллерией консерваторов», он не мог не возбуждать против себя неудовольствие всех партий[12 - «Отечественные Записки», 1862 г., Сентябрь, Современная хроника России, стр. 3.].
Так воевали сотрудники «Отечественных Записок» с радикальными деятелями русской печати. Но при этом, как мы уже сказали, увлекшись дурным примером, солидный журнал заводит у себя легкое подобие осуждаемого им самим «Свистка» и в ряде статей выражает свое порицание литературному и жизненному нигилизму. П. Прогрессистов всеми силами старается натянуть на себя шутовскую маску, свиснуть оригинальными стихами, хлеснуть Чернышевского ехидным издевательством. Но надо сказать правду, подражательная сатира «Отечественных Записок», при отсутствии в её творцах непосредственной веселости и того разгульного, своеобразно артистического темперамента, который может сделать завлекательным для публики даже балаганный фарс, далеко отстает от комических представлений «Современника», с их раздражающим, распущенным смехом, с блестками яркого литературного таланта среди беспорядочных груд беспринципного юмористического хлама. В сатире «Отечественных Записок» не было вдохновения, внезапных вспышек обличительного творчества, того, что может ошеломить, изумить, взволновать читательское воображение, не было удалой решимости яростно шельмовать на глазах толпы самые громкия репутации, самые прославленные имена. Скользя по готовым ритмам, прилаживая старые формы к случайным сатирическим комбинациям и перезванивая чужими рифмами, фельетонисты «Отечественных Записок» делали совершенно мертвое, бесцельное дело, никого не задевающее, никого никуда не увлекающее. В сатире «Современника», при всей её разнузданности, яри всем её хищном цинизме и наездническом произволе в набегах и экзекуциях, была самобытная сила, кружившая голову своими неожиданными проявлениями. Несправедливая и наглая, она, тем не менее, представляет крупное литературное явление, с которым необходимо считаться при изучении судеб русской литературы. её влияние мы видим и доныне в хлыщеватых приемах некоторых писателей, ищущих дешевого успеха в толпе, готовой аплодировать бойкому зубоскальству и принимать за талант всякое откровенное и дерзкое паясничество. Сатира «Отечественных Записок» – эта бледная тень сатиры «Современника» – не оставила по себе никакого следа, никакого влияния.
Пылкия речи Громеки, несмотря на их вполне либеральное содержание, тоже представляют не особенное серьезное явление. Его полемика не имела истинно принципиального характера, какой могла иметь, например, полемика Юркевича с Чернышевским, полемика Лаврова с Антоновичем и Писаревым. Мы видим отчетливо, что он борется против грубых форм литературной агитации «Современника», но не знаем во имя какого самостоятельного, неразделяемого «Современником» принципа вызывает он на бой. тех, кого он считает своими противниками. Громека не выдвигает на первый план своих теоретических разногласий с «Современником», как это делал еще недавно Дудышкин. Он не подчеркивает ни научного, ни политического пункта раздора, из за которого действительно стоит биться со страстью и вдохновением. Он не выставляет ни определенной програмы политического строя, против которой должны были-бы возражать радикальные деятели «Современника», ни известного философского учения, противоположного материалистической философии Чернышевского, которое могло-бы притязать на какое-либо культурное значение в современном обществе. Весь задор Громеки был направлен исключительно против внешнего неприличия в поведении «Современника» и потому не мог сгруппировать вокруг него людей с талантом, с определенными философскими и политическими убеждениями, людей, имевших право заявить громогласный протест против свистопляски материалистов. «Отечественные Записки», имевшие совершенно независимое положение в журналистике шестидесятых годов и не избегавшие откровенной критики, направленной и против передовых застрельщиков движения, и против тяжелой артиллерии консерваторов, не поняли своей литературной задачи. Они не собрали в своей редакции настоящих, смелых, можно сказать, исторических протестантов того времени, какими могли быть Юркевич и Лавров, и весь их протест, с патетическими речами о свободе слова без цензуры, при наивном доверии к деятельности бюрократической машины, при ребяческой склонности откровенно заигрывать с мощным и злым зверем, свелся на бессильную, умеренную критику чужих приемов под флагом трезвого и уравновешенного либерализма. Эта склонность к умеренности и политической уравновешенности и погубила журнальную репутацию «Отечественных Записок» того периода. С убеждениями Чернышевского, сдавленными узким философским кругозором, носившими в себе самих язву неизбежного самоограничения в будущем, лишенными истинно-научной стройности, философской глубины и света, необходимо было бороться не во имя умеренности, не во имя того или другого примирительного шаблона, а во имя широких, самым решительным образом поставленных теоретических и практических задач. То, что имеет характер неумеренного размаха в требованиях и запросах Чернышевского, заслуживает свободной критики не само по себе, а только по отношению к его теоретическим обоснованиям и аргументам. Только люди со страстью, с смелым и независимым отношением к действительности могли-бы состязаться с Чернышевским с полным правом и надлежащим успехом. Только люди из той же партии движения и с тою же неутолимою жаждой свободного труда во всех сферах жизни, могли преодолеть Чернышевского, сразившись с ним во имя более прогрессивных и жизнеспособных философских начал. Но таких людей радикальная партия злобно и недоверчиво отгоняла от себя, а умеренно-либеральная не постигала во всю глубину и опрометчиво выпускала из рядов боевой журналистики.
А Громеке было решительно не под силу справиться с «Современником».
Остановимся еще на одном очень типичном эпизоде, характеризующем публицистический такт Громеки и отношение органа умеренного либерализма к своей журнальной задаче. В ноябре 1862 года, почти перед истечением срока приостановки «Современника» и «Русского Слова». Громека, в пылу наивного увлечения, поддавшись наплыву профессионального великодушие, побуждающего протянуть руку помощи утопающему антагонисту, совершенно неожиданно для читателей, выступает в роли ходатая перед официальными учреждениями за журналы, приостановленные в начале этого года. Он обращается с увещательной нотой к цензурному ведомству, объясняя ему в популярных выражениях, что закрытие журналов может принести вред не только литературе, но и правительству. Он убедительнейше просит выслушать его: «На душе у нас», говорит он, «давно лежит несколько слов, которые выслушать ей (цензуре) будет не бесполезно, так как дело касается лично её достоинства, а также достоинства литературы и выгод правительства». Вот уже около полугода, как литературное направление, известное под именем нигилизма, устранено вовсе из печати, хотя цензуре должно быть известно, что направление это пользуется сочувствием общества, составляет необходимое явление, которого нельзя вычеркнуть одним почерком пера. С этим направлением боролась почти вся журналистика, когда оно существовало наряду с другими литературными явлениями и фактами. Теперь оно под запретом, окружено ореолом мученичества. Как быть? Что делать тем людям, которые считали своим долгом бороться с литературным нигилизмом? «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература, пишет Громека в своем оригинальном журнальном рапорте, не может сражаться с мнениями, которые подвергаются преследованию и запрещаются цензурой. Разум не может подавать руки насилию». Когда преследуется целое литературное направление, продолжает Громека, тогда все прочия направления, бывшие с ним в споре, становятся в унизительное положение невольных доносчиков. Он не может верить, чтобы гонение на упомянутые журналы было решено продолжить. Он не может верить, чтобы правительство решилось «продлить то положение вещей, при котором в одно и то же время заботятся об улучшении крестьянского быта и запрещают частным людям защищать крестьян, даруют народу правильный суд и защиту от административного произвола и преследуют административным порядком лиц, почему-либо не нравящихся начальству, хлопочут об уничтожении произвольной цензуры и насильно выкидывают из литературы целое направление». Громека надеется, что цензура не воспрепятствует его откровенным и доброжелательным строкам дойти по назначению. Она должна понять, что нельзя скрыть от правительства опасения, разделяемого всем обществом. «Лучше ей иметь теперь дело с нашими, скромно выражаемыми мыслями, чем остаться потом вовсе без дела, когда русская литература переселится за пределы европейской и азиатской России», заключает свою красноречивую петицию пылкий, но наивно-бестактный Громека[13 - «Отечественные Записки», 1862 г., ноябрь. Современная хроника России, стр. 28-34.].
Мы увидим ниже, как отнесся к этому непрошенному заступничеству «Современник». Но нельзя не заметить, что в такое странное положение «Отечественные Записки» могли попасть только вследствие умеренного характера своего собственного образа мыслей. Желая идти в дружеском общении с правительством и, так сказать, поворачивая к официальным учреждениям свою неизменно добродушную физиономию, такой публицист, как Громека, не ставил ничего серьезного на карту. Его литературно гражданственный поступок, как и вся его журнальная деятельность этого периода, не представлял ничего особенно рискованного, не был проявлением настоящего политического мужества. Его либерализм свободно разливался в слегка риторических тирадах под хладною сенью закона и канцелярского благомыслия. Испрашивая для «Современника» свободу, Громека не обнаруживал глубокого идейного интереса, потому что, в сущности, он сам шокировался именно крайностями литературного нигилизма, неумеренностью его требований, беспощадностью его политической критики. Будучи человеком с ограниченной программой, он не мог искренно желать, чтобы направление «Современника» свободно разливало свои шумные волны, тревожа умы и взбудораживая страсти. Ослепленный оптимистическими надеждами, Громека думал, что радикальное движение, с его бурными и беспорядочными взрывами, уже приходило к концу, уступая место лойальному, умеренному, аристократически выправленному либерализму, который приведет Россию, без борьбы и натиска, к полному и безмятежному благополучию. Не разразись злосчастное запрещение над «Современником» и «Русским Словом», пылкий Громека, помахивая и поигрывая своим «кнутиком рутинного либерализма», сам выгнал бы «дикую орду» радикалов на прямую и широкую дорогу прогресса. Уступи цензура его убедительным увещаниям, и все опять направится тем же верным ходом: пройдя огонь журнальной полемики, радикальная печать очистится от своих язв и грехов, и все три органа русского прогресса – Правительство, «Отечественные Записки» и «Современник» – дружным шагом направятся к общей цели, оставив за своей спиной бессильно злобствующего, тщетно надрывающегося в патриотических иеремиадах Каткова.
Пылкий Громека в своих отношениях с «Современником», в самом деле, был в том двусмысленном положении, в каком должен был оказаться всякий умеренный либеральный деятель, ведущий борьбу с направлением, оказавшимся вне покровительства закона. Как мы уже сказали, он ничем не рисковал: ему нечем было рисковать, у него не было за душою ничего такого, чего он не мог бы твердою рукою занести в официально признанные проекты того времени. В борьбе с Чернышевским честное, твердое и недвусмысленное положение мог занять только тот, кто, отправляясь от другого философского мировоззрения, шел бы смелым, решительным путем к столь же серьезным и беспощадным выводам.
II
Каким-то особенным весельем и бодростью проникнуты первые книги «Современника» 1863 года. Редакция подобралась и, несмотря на отсутствие Чернышевского, повела работу с большою энергиею. Событием дня должен был стать роман Чернышевского «Что делать», а среди постоянных работников журнала, в качестве фактического соредактора, появился новый блестящий талант, свежий и остроумный, несмотря на свою, не всегда опрятную болтливость, несмотря на отсутствие внутреннего жара и протестантской сосредоточенности. Казалось, что «Современник» окреп окончательно. С внешней стороны он в этом году отличается изобилием литературных материалов. Но внимательно вчитываясь уже в первые книги, нельзя не почувствовать в идейной стороне дела какого-то разброда, разноголосицы, отсутствия духовно-сплоченной организации, направляющей все силы журнала по определенному пути. Фельетоны Щедрина, его многочисленные работы в разных отделах «Современника», – статьи о театре, письма из Москвы, многочисленные библиографические и полемические заметки, наконец обширный вклад, сделанный им в стихотворной и прозаической форме в № 9 «Свистка» – все это, конечно, придавало журналу оживление, яркость, силу. Но, несмотря на все это, «Современник» уже утратила, тот характер прямолинейной фанатической убежденности, какой он имел при Добролюбове и Чернышевском. В прежнем «Современнике» все кипело злобной нетерпимостью политического сектантства. Смех его сатиры звучал ехидно, вызывающе, задорно. Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам и другие лицедеи «Свистка», несмотря на бледность и сухость сатирических талантов, несмотря на неразборчивость в выборе своих жертв, умели добиваться своими средствами определенно поставленной цели. Свист их, оглашая журнальное поле, так или иначе собирал людей под определенные знамена. Сатира возрожденного, иди, вернее говоря, перерожденного «Современника», с юным Щедриным во главе, при всей её сочной и богатой талантливости, не заключала в себе элементов истинно злого, непримиримого обличения. Вместо режущих слух свистков, в ней слышались взрывы задорного, зубоскального, порою распутного хохота, привлекающего публику новизною и неожиданностью хлестких и разухабистых словечек и оборотов, но отучающего от серьезного отношения к обличительной литературе вообще. Все то, что придает настоящей сатире глубоко серьезный и даже трагический характер, все то, что зреет в душе всякого талантливого писателя с годами жизни, вся та горечь, которая ощущается в позднейших произведениях Щедрина, совершенно отсутствует в его первых фельетонах. Здесь бросается в глаза бойкий и ядовитый ум, разлагающий жизнь в разных её пластах и направлениях, беспокойный юмор, мечущийся из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке, почти неисчерпаемый, вечно живой балагурный талант, превращающий в ряд интересных, художественно-законченных эпизодов всякую бесформенную жизненную канитель. Но высокого настроения, духа, творящего в художественных образах смелые и значительные идеи, не видно в этих блестящих, но часто совершенно бесплодных писаниях молодого Щедрина. Россия неудержимо смеялась, читая небывало самобытные рассуждения о «дураковой плеши» и «дураковом болоте», о «Ване – белые перчатки» и «Маше – дырявое рубище», о «Цензоре в попыхах» и «Сеничкином яде», но смех этот не был очищающим, отрезвляющим смехом. Читатели сбегались послушать забавного рассказчика, умеющего коварно подмигивать и ехидно поддразнивать тех, про кого нельзя сказать открытой правды, но самая обличительная тенденция автора, расплывчатая и неуловимая, никого в сущности не язвила, не убивала ничьей репутации. Имя Щедрина скоро стало греметь, как имя нового таланта, щедро разбрасывающего ходкую и звонкую монету анекдотического остроумия. Но люди с настоящими духовными страстями и серьезным отношением к задаче журналистики знали, что в этом виде влияние Щедрина не глубоко, и слава его не прочна. Мы уже видели, с какою силою предостерегал Щедрина Достоевский, призывая его на новый, более ответственный и более достойный путь. Ниже мы увидим, как отнесся к нему молодой Писарев, не разглядевший даже за его юмористическими ужимками серьезного и многообещающего таланта. Для того, чтобы выйти на другую литературную дорогу и возвести свою сатиру на степень важного общественного и художественного явления, Щедрину нужно было многое пережить и перестрадать. В тяжелых нравственных испытаниях, от которых конвульсивно сжималась, трепетала и замирала вся русская жизнь, должна была отпасть от Щедрина вся та скверная накипь, с которою он вышел из провинциальных, чиновно-дворянских трущоб… Но при всех своих недостатках, при всей бессодержательности своих ранних обличений, Щедрин все-таки, с самого начала своей деятельности, заблистал в «Современнике», как звезда первой величины. Рядом с бездушными и мертвыми писаниями Антоновича, его фельетоны, его публицистические и критические заметки, каждый штрих его молодого пера дышат жизнью, играют свободным остроумием.
В кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев «Совре ленник» отмечает все то, что случилось без него на сцене русской литературы. Сличая минувшее с настоящим, журнал находит, что в короткое время с точностью определились главные направления, господствующие в современной печати, её настоящие виды и стремления. Журналы действуют теперь под определенными знаменами, каждый на своей территории. Было время, когда «Современник» имел виды на сердечное примирение с «Русским Вестником», но теперь все его надежды на этот счета пропали. Физиономия «Русского Вестника» определилась, характер его установился окончательно. Отказавшись от своих преданий, Катков стал говорить без аллегорий и либеральных прикрас, «произносить свои панегирики и катилиниады твердым и резким голосом, не конфузясь и не мигая глазом». «Русский Вестник» укрепился в своей позиции, и теперь уже нет никакой возможности поколебать его, остановить и урезонить. «Отечественные Записки» затеяли усердную борьбу с нигилизмом, и на этом поле Громека, их виднейший сотрудник, приобрел себе широкую известность. Его хроники производят сенсацию, их читают. Но пылкий публицист не имеет ни малейшего основания гордиться своим положением среди действующих журналистов. Упомянув об известном ходатайстве Громеки перед цензурным ведомством, «Современник» восклицает с раздражением: «Какое великодушие и какая храбрость!.. Хроникер отважился ходатайствовать за Современник, который часто враждебно относился к нему». Что сказать на это ходатайство? Кто посылал Громеку адвокатом в правительственные учреждения отстаивать интересы того направления, к которому он сам не принадлежит? «Современник» гнушается заступничеством «Отечественных Записок», и в их ходатайстве видит только фарс, ловкий фарс, искусно рассчитанный на то, чтобы уронить противника и возвысить себя. О журнале Достоевского «Современник» отзывается с полным пренебрежением. «Время» любит похвастать собственными своими достоинствами. В хвастовстве оно доходит до виртуозности, до настоящей хлестаковщины. Его сотрудники простые фразеры, перебивающиеся небольшим запасом постоянно повторяемых метафор. Их исходная мысль ложна, их статьи – вздор и болтовня. Косица в отсутствии «Современника» не находил сюжета для своих писаний…[14 - «Современник» 1863, № 1-2, Краткий обзор журналов, стр. 226-256.].
Та же мысль проводится и в статье Антоновича «Литературный кризис». Недавно еще казалось, пишет он, будто все органы печати проникнуты одним духом, будто все её деятели идут к одной цели и преследуют одинаковые интересы. Но вот в литературе совершился кризис, и единство в целях и стремлениях её выдающихся представителей исчезло. Возникли несогласия в вопросах, прежде никого не смущавших, вражда вышла за пределы литературного круга. Обличения и бичевания раздаются реже и реже, в журнальных исполинах и пигмеях заметен большой упадок храбрости. Прежде литература находилась, можно сказать, в эмбриональном состоянии. Трудно было заметить разницу между отдельными её направлениями, во всем господствовал хаос и вавилонское столпотворение. Но вот подошло время, когда общие места оказались недостаточными, когда потребовались прямые и определенные суждения, и тогда, вместо бойких речей, потекли благоразумные фразы и резонерство. Журналы сняли свои маски. Один только «Современник» остался во главе настоящего прогрессивного движения общества и теперь больше, чем когда-нибудь, его программа приобретет литературную и политическую яркость. Антоновичу, вместе с другими сотрудниками журнала, казалось, что «Современник» теперь, как и прежде, пойдет путем авторитетного руководителя интеллигентных масс.
Однако, перебирая главные статьи, напечатанные в первых книжках «Современника», мы не находим в них определенной политической программы. Между рассуждениями различных авторов нет полной солидарности в политическом тоне, нет гармонии в отдельных оттенках публицистического обсуждения текущих жизненных вопросов. Некоторые статьи могли-бы по своей корректности в отношении к правительственным реформам появиться в журнале с более умеренными либеральными запросами, другие страдают отсутствием настоящей юридической критики. Общие теоретические места, всплывающие в статьях Антоновича, отличаются крайнею ограниченностью правовых представлений. Как-бы в оправдание своих узких реалистических требований, Антонович проводит в упомянутой статье своей следующий странный взгляд на роль теоретических идей в культурном процессе всякого общественного развития. Можно принять за правило, пишет он, что теоретическая высота какого-нибудь учения совершенно не соответствует практическим требованиям, выводимым из него. Теоретически-возвышенные идеи ослабляли энергию в людях, отвлекали их мысли от действительного мира, обращали их к безжизненным и мечтательным сферам. Проповедуя пассивное терпение и рабскую покорность, они брали под свое покровительство все, что стремилось к преобладанию и незаконному господству над людьми. Ими оправдывались и освящались всякие насилия, притеснения и угнетения. Только учения, с виду не очень возвышенные, занимавшиеся реальными предметами действительной жизни, говорит Антонович, были всегда учениями протестующими, заступались за слабых и угнетенных. Обойдите весь свет, восклицает он, просмотрите все отделы жизни, и вы найдете оправдание этим мыслям. Кто защищает розгу, рабство, тот держится теоретически высоких понятий. Кто защищает свободу и другие священные права человека, тот не держится возвышенных теоретических понятий[15 - «Современник», 1863 г., № 1 и 2, Литературный кризис, стр. 105.]. В другой статье, написанной по поводу книги Чичерина «Несколько современных вопросов», Антонович глубокомысленно рассуждает на тему о свободе и власти. При всей кажущейся солидности и либеральной безукоризненности этих рассуждений, в них нельзя усмотреть веяния настоящей свободной мысли, которую Антонович мог-бы с правом противопоставить несколько узким, слегка лойальным тенденциям Чичерина. По мнению Антоновича, «свобода и власть с законом вещи согласные и тождественные». Элементы власти и закона, говорит он, действительно необходимы для свободы, для всего, «как пища для человека»: они служат выражением свободы, ограждением и утверждением её. Приведя некоторые мысли Чичерина, что только свобода, подчиняющаяся закону, может установить прочный порядок, что повиновение закону не должно быть сужено степенью его внутренних достоинств, что, во избежание анархии, обязанность повиновения распространяется на все юридические уставы страны, радикальный критик «Современника», желая быть практичным во что-бы то ни стало и не заноситься в облака слишком возвышенных теорий, прибавляет следующее: «Требование справедливое, в практике без него жить нельзя и неисполнение этого требования есть преступление»[16 - «Современник», 1863 г. март, Неуважение к науке, стр. 98.]. Наука имеет право на критику, она может заявлять еще и другие требования, но в жизни приходится исполнять всякий закон, каков-бы он ни был по существу.
Настоящей радикальной политической программы, с решительным анализом предпринимаемых правительством реформ, мы в «Современнике» этого периода не найдем нигде. Иногда в какой-нибудь статье промелькнет дельное и дальновидное юридическое замечание, загорится в намеке смелое требование, но в общем, как это и было верно отмечено Громекою в мартовской книге «Отечественных Записок» 1863 г.[17 - «Отечественные Записки» 1863 г., март: Современная хроника России, стр. 26.], «Современник» в политическом отношении потерял ту боевую окраску, которую он имел при Чернышевском. Он порою ярок в словах, но его содержание потускнело, дух его утратил свой полет. В том же томе «Современника», где, в прекрасной статье Унковского «Новые основания судопроизводства», мы находим отголосок более глубоких запросов серьезной части русского общества, где, среди обстоятельного и вполне компетентного разбора новых принципов процесса, мы встречаем твердое заявление, что начала и правила, соблюдение которых не обставлено никаким действительным обеспечением, на практике не имеют никакого серьезного значения[18 - «Современник» 1863 г., № 1, Новые основания судопроизводства, стр. 392.], – в другой статье, принадлежащей редакции, во «Внутреннем Обозрении», журнал высказывает свою полную солидарность с правительственными действиями. Мы стоим, говорится в этом редакционном отделе., за привитие к народу русскому европейской цивилизации во всей её широте, с сохранением нашего общинного устройства и с устранением тех ошибок, которые сделали в своем развитии европейские общества. Но затем, приступая к разбору правительственных мероприятий, «Современник» заявляет: «этим путем привития к нашей жизни европейской цивилизации идет и наше правительство». Перечислив все главные реформы последнего времени, автор заключает: «Из неполного перечня поименованных нами реформ читатель видит, что наша жизнь обнята и тронута ими сполна. Если бы только половина их совершилась с желанным успехом, Россия сделала бы огромный шаг вперед на пути своего развития»[19 - «Современник» 1863 г., № 1 и 2, Внутреннее обозрение, стр. 292.]. Радикальный журнал, заодно с «Отечественными Записками», расписывается в своем полном удовлетворении, не пускаясь ни в какую серьезную экономическую или политическую критику. От всестороннего, но часто беспредметного юношеского протеста времен Добролюбова и Чернышевского, «Современник» перешел к ординарному, умеренно либеральному, бесцветному резонерству в униссон с благожелательными канцелярскими проектами общегосударственного блага. Но как бы не сознавая совершившихся в журнале, по воле судеб, роковых внутренних перемен, разжигаясь соблазнительными традициями крайней передовитости, «Современник», в том же «Внутреннем Обозрении», стараясь разогреть свою связь с молодым поколением, заводит направленский разговор о нигилизме и постепеновщине. Признав, что даже части правительственных преобразований, которые очевидно могли иметь только характер политической постепенности, было бы достаточно, чтобы подвинуть Россию далеко по пути развития, автор тут же начинает доказывать, что в постепеновщине нет никакой определенной меры постепенности и что только нигилизм «силен своим единством внутренним, как в целой партии, так и в каждом её члене». в другой статье, принадлежащей перу Щедрина, мы находим сильно выраженное осуждение внешней истории русского общества «со всем её мишурным блеском, со всем театральным громом». В то самое время, когда журналы распевают дифирамбы событиям дня, внутри России пишется другая история, история своеобразная, не связанная с внешнею даже механически. «Эта история пишется втихомолку, говорит Щедрин, и не ярко. Она не представляет собою сплошного рапорта о благосостоянии и преуспеянии, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах. Содержание её раскрывается перед нами туго и скорее поражает абсентизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы. Но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в пучину безвестности»[20 - «Современник» 1863 г., май, Наша общественная жизнь, стр. 230-231.].
Среди таких отрывков из различных теорий о народном прогрессе и различных политических программ, умеренно-либеральных, радикальных и народнических, шумным потоком, бурля и вскипая на встречных камнях, несется несколько буфонствующая сатира молодого Щедрина. Чуткий ко всякой современности, художник с огромным и своеобразным талантом, человек обширного ума и беспощадной наблюдательности, Щедрин, по привычке русских либеральных журналистов с особенным уважением относиться к литературному критику, не побрезгал разделить с неряшливым в своих суждениях Антоновичем его неосмысленную антипатию к классическому произведению Тургенева «Отцы и дети». Антонович говорил: «Базаровщина есть, может быть, чистая клевета на литературное направление»[21 - «Современник», 1863 г., № 1-2. Русская литература, стр. 98.], – и Щедрин тоже в бойкой статейке о петербургских театрах, написанной с веселым ехидством, почти издевается над романом Тургенева. Базаров, по его мнению, не есть что-нибудь серьезное. Тургенев написал свою повесть на тему о том, как «некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важною барыней, – и что из этого произошло». Все остальное в романе: «словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста» – не больше, как эпизоды, которые «искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа». Разбирая далее пьесу Устрялова «Слово и дело», служившую как-бы ответом Тургеневу на его роман, Щедрин язвительно упрекает автора за то, что он искал в произведении Тургенева какого-то особенного, сокровенного смысла. Этого смысла в нем нет, говорит Щедрин, и вот почему «сочинение, имеющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочинение мнимое, сочинение, выступающее с целым запасом смертоносных орудий затем, чтобы умертвить клопа»[22 - «Современник», 1863 г., № 1-2, Петербургские театры, стр. 183.]. Никаких серьезных оговорок. Щедрин вместе с Антоновичем является своеобразным истолкователем замечательнейшего литературного явления, в котором отразилась богатая, полная сил жизнь молодого русского общества, Журнал не усвоил определенного отношения к нигилизму, подготовленному всею деятельностью Добролюбова и Чернышевского, и, увидав его в художественном отражении, сделанном с могучим талантом, накинулся на него с совершенно неожиданными для сотрудников «Современника» протестами. Даже беллетристическая эпопея Чернышевского, с её явно нигилистическими героями и романтическими подробностями, навеянными мечтою о новых людях и нравах, не возбудила в преемниках Чернышевского того сочувствия к базаровскому типу, которое сразу овладело Писаревым и подняло его на высоту исторического момента. Ум без системы, с пестрыми художественными интересами, с природною склонностью видеть все в игривом освещении, с раздраженным недоверием ко всему, что может быть названо русскою действительностью, Щедрин не сумел удержать Антоновича от бестактного глумления над романом Тургенева, а также над Теми реальными течениями, которые были захвачены в «Отцах и детях». Русская жизнь узнавала себя в новом типе, выкованном первоклассным художником с скульптурной рельефностью, поставленном перед глазами со всею отчетливостью действительного, всем известного факта, Но критика журнала, которая, казалось-бы, сразу должна была стать в сочувственное отношение к новому явлению, в чем-то усомнилась, увлеклась пустыми придирками и, вдавшись в совершенно бессмысленные по своей развязности эстетические рассуждения и сближения между Тургеневым и Аскоченским, пошла в разрез с наиболее передовою и могущественною в то время жизненною волною. В фельетонах 1863 и 1864 годов яркий талант Щедрина, не проложивший себе определенного русла, не овладевший своими более глубокими трагическими нотами, легкомысленно, стихийно, безыдейно плещется между противоположными явлениями, не проникая во внутрь их, с балагурным хохотом скользя по их внешним очертаниям. Но мутные волны неопределенной юмористической болтливости иногда вдруг, бурно разыгравшись и закружась, выбрасывают на своих хребтах легкую, блестящую пену настоящего остроумия. Среди расплывчатых, мучительно повторяющихся публицистических рассуждений, пересыпанных разными заковыристыми словцами, моментами вспыхивают грустно-юмористические образы настоящей, художественно-воспринятой русской действительности, и фельетоны, написанные ради временных целей, при случайных перспективах, приобретают живой литературный характер. В ежемесячные хроники Щедрина события современной жизни заносятся какими-то пестро-раскрашенными обрывками, не освещенными одною властною, ярко-пылающею идеею. По своему характеру, по тону своего сатирического обличения, эти фельетоны стоять в полном противоречии с тенденциозно-прямолинейною сатирою Добролюбова, с фанатически резкими, яростными обличениями Чернышевского.
Уже в первом фельетоне 1863 г. мы находим ту двойственность сатирического настроения, которая дала впоследствии повод сотрудникам «Русского Слова», при более ярком случае, накинуться на Щедрина с негодующим направленским протестом. Бросив в публику несколько язвительных намеков на тему о «дураковой плеши» и «дураковом болоте», посмеявшись над русскою благонамеренностью, начинающей свой день с чтения «Северной Пчелы» и заканчивающей его блистательным образом «на бале у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга», мимолетно задев современную «сирену в виц-мундире» и рассказав маленькую сатирическую быль о «Сеничкином яде», Щедрин заводит речь на нескольких страницах о нигилистах. Нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего, пишет он. Тявкнет-ли на улице шавка, благонамеренные люди кричат: это нигилисты подучили ее. Пойдет-яи без времени дождь, благонамеренные люди кричат: это нигилисты заговаривают стихии. Случились в Петербурге пожары, пошли слухи о поджогах, благонамеренные патриоты пустили в ход свою ненависть к нигилистам. «Образовалась какая-то неслыханная, потаенная литература, благонамеренные возопили: это они, это нигилисты». Но сатирик готов заступиться за нигилистов. «Я нахожу, пишет он, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек – очень почетное сословие». Самая остервенелость вражды против них доказывает, что к ним надо относиться серьезно. Не будь мальчишества, не держи оно общество в состоянии постоянной тревоги новых запросов и требований, Россия уподобилась-бы «заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь». Выразив в таких словах явное сочувствие к молодому поколению, Щедрин тут же, подходя к некоторым конкретным явлениям из той же нигилистической волны, срывается с своей прогрессивной позиции и, уступая потребности в сатирической карикатуре при виде стриженой девицы, разражается вульгарным смехом и площадным остроумием. По временам, говорит он, фельетонист должен возвышаться до гражданской скорби. Например, он встречает в обществе очень молоденькую и миловидную девицу, до того молоденькую, что еще вчера родители «выводили ее в панталонцах». Начинается разговор. Фельетонист, натурально, спрашивает девицу, читала-ли она произведение Анны Дараган и как оно ей понравилось? Девица отвечает, что недавно вышло в переводе новое сочинение Шлейдена, и что Тургенев, написавши «Отцов и детей», тем самым доказал, что он ретроград. Фельетонисту делается весело. «Какой милый пузырь! И как ведь все это бойко. Ах, черт побери! Ах, чорт тебя побери!» Но сообразив хорошенько, с каким явлением он имеет дело, фельетонист вдруг чувствует, что он обязан отнестись к девице с меньшею игривостью и что, говоря о девице, обзывающей Тургенева ретроградом, он должен принять тон торжественный и даже скорбеть: «торжествовать по случаю девицы, а скорбеть по случаю Тургенева»[23 - «Современник», 1863, № 1-2, Наша общественная жизнь, стр. 359.]… Этот коротенький эпизод, стоящий по соседству с самобытными остротами о «дураковом болоте» и о «сирене в виц-мундире», но находящийся в тесной связи с рассуждениями «Современника» о некотором хвастунишке и болтунишке из проходимцев – Базарове, сразу освещает некоторую путаницу во взглядах на современные явления. Быть может, Щедрин понимал в глубине души, что о ретроградстве Тургенева по поводу «Отцов и детей» нельзя было говорить в серьез. Его забавляет девица, идущая в своих рассуждениях по стопам Антоновича, он рисует ее, без всякого сомнения, в грубо-комическом свете… Впрочем, тут все нелепо, вздорно и перепутано. Нельзя понять, к чему собственно относится этот цинический и высокомерный хохот: может быть, Щедрин смеется над наивностью рассуждений о ретроградстве Тургенева, а, может быть, его просто разбирает пошловатый смешок при виде молоденькой стриженой девицы-пузыря, рассуждающей не хуже Антоновича!
С каждым новым фельетоном сатира Щедрина все более и более разгуливается, теряя определенность содержания, но приобретая свой особый специфический колорит. Рядом с публицистическими и полемическими рассуждениями, фельетонист дает ход своему художественному таланту, воспроизводя отрывочными штрихами, в юмористическом свете, фигуры и факты из современной жизни. Нигде не договаривая своей руководящей мысли, Щедрин не жалеет примеров и анекдотов, чтобы представить русскую действительность в её непривлекательном виде. Образы, носящие отпечаток разнородных комических типов, не расположены в определенном порядке, не сгруппированы так, чтобы передать цельный художественный замысел. Смех сатирика сквозит главным образом во внешних описаниях, своеобразных по стилю, ярких и смелых, но лишенных глубокого психологического содержания. И повсюду, в каждом новом фельетоне Щедрина, так сказать направленская разработка текущих вопросов страдает невыдержанностью и едва заметными, но несомненно существующими противоречиями. Художник с ограниченным духовным горизонтом, с пристрастием к внешним комическим рисункам, постоянно пересекает дорогу тенденциозно-обличительному журналисту, взявшему на себя задачу продолжать дело Добролюбова и Чернышевского. Его фельетоны, составляя наиболее яркое место, в «Современнике» этого периода, являются лучшим доказательством, что этот журнал сбился с своего определенного пути и, шатаясь, бродит перепутанными окольными дорогами, без ясно поставленной цели, без отчетливо сознаваемого руководящего идеала.
Щелкнув мимоходом стриженую девицу, Щедрин в следующем фельетоне весело глумится над «благородными чувствами и хорошими мыслями, грозящими затопить русскую литературу в такой же степени, в какой, с другой стороны, затопляет ее сильно действующая благонамеренность». Если благонамеренность, говорит Щедрин, отвратительна «вследствие своей цинически-легкой удовлетворяемости», то благородные мысли и чувства «поражают своей бестактностью и сухостью, режут глаза своим бессилием и ограниченностью». Точно издеваясь над заветом Добролюбова и предписаниями Чернышевского, Щедрин с явной иронией задает следующие вопросы, подкапывающиеся под всякую тенденциозную литературу: «возможно-ли, спрашивает он, написать благородную арифметику, похвальную химию и не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию?» Конечно, невозможно: там, где есть настоящее дело, там никто не станет заботиться ни о чем, кроме правильного и точного его исполнения. Благородство чувств укоренилось только в русской беллетристике. Явились целые фаланги повествователей, романистов, фельетонистов, драматургов, которые решили раз навсегда, что талант – вздор, что знание жизни – нелепость и что главное заключается в благородстве чувств, – не то иронизирует, не то раздраженно брюзжит сатирик. В пояснение своей мысли Щедрин тут же набрасывает проспект идей, пригодных для бесталанного тенденциозного искусства, прилагая к нему несколько веселых пародий на современные обличительные произведения: «Маша – дырявое рубище», «Полуобразованность и жадность – родные сестры», «Сын откупщика»[24 - «Современник», 1863, март, Наша общественная жизнь.] и т. п.
В апрельской книге «Современника» молодой сатирик схватывается на публицистической почве с помещиком Фетом и тут же, в девятом и последнем номере «Свистка», дает несколько образцов – в стихах и в прозе – своей разгульной юмористики. Под новым псевдонимом Ших. Змиев-Младенцев, он пишет «Московские песни об искушениях и невинности», «Гимн публицистов», «Элегию». Затем он сочиняет «Три письма отца к сыну», знаменитый «неблаговонный анекдот о г. Юркевиче», комедию в четырех сценах, представляющую Каткова, Леонтьева и Павлова за чтением первой книги возобновленного «Современника» и, в заключение, разражается обличительным сообщением о новой секте «Сопелковцы», возникшей в Москве, сатирическими угрозами относительно содержания будущих номеров «Свистка» и еще небывалой в русской литературе «Песней Московского дервиша». Эта песня соединяет в себе едкую соль лучших вдохновений Конрада Лилиеншвагера и шумиху поддельного юродства Кузьмы Пруткова, но в ней чувствуется какой-то осатанелый разгул воображения, ощущается сила стихийного таланта, мощно управляющего богатым и упругим языком сатирических намеков и чисто литературных эффектов. Эта песня звучит, как отголосок каких-то старых и диких татарских напевов, дремлющих под пластами культурных преобразований и вдруг пробуждающихся, среди торжествующих патриотов Москвы XIX века, чтобы заглушить расплывчатый мотив русской национальной песни. Исступленный припляс азиатского деспота, бешено топчущего нежные всходы молодой жизни, слышится в этих отрывочных строках, с их пронзительными вскриками и монотонным гудением до неожиданности ярких слов. Не выражая никакого определенного, ясно продуманного обличительного протеста, стихотворение это, по своей силе и колоритности, является лучшим произведением «Свистка» за все годы его существования и служит характерным финалом в этом ряде сатирических вакханалий.
Песнь Московского дервиша.
(Начинает робко, тихим голосом).
Уж я русскому народу
Показал-бы воеводу.
Только дали-бы мне ходу,
Ходу! ходу! ходу! ходу!
(Постепенно разгорячается).
Покатался-б! Наигрался-б!
Наломался-б! Наплясался-б!
Наругался-б! Насосался-б!
Насосался-б! Насосался-б!
(Разгорячается окончательно и, видя, что никто ему не возражает, из условной формы переходит в утвердительную).
Я российскую реформу,
Как негодную проформу,
Литературные заметки.
Вылью в пряничную форму!
Форму! форму! форму! форму!
Нигилистов строй разрушу,
Уязвлю им всладце душу:
Поощрили-б лишь – не струшу!
Нет, не струшу! Нет, не струшу!