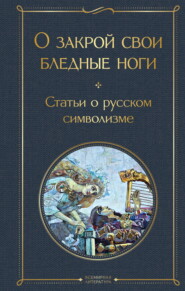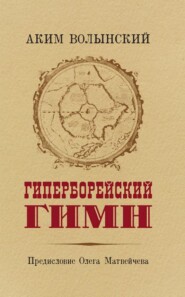По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
Аким Львович Волынский
Библиографические заметки Писарева в журнале «Рассвет». – Эмансипация женщины. – Три статьи о Гончарове, Тургеневе и Толстом. – Эстетические, моральные и религиозные взгляды Писарева в этом периоде его литературной деятельности. – Первые шаги его в «Русском Слове». – Бесплодное обличение нравов. – Книжки для народа. – Идеи Платона пред судом Писарева. – Схоластика XIX века. – Торжество материализма. – Компилятивные статьи по естествознанию. – Характеристики Писемского, Тургенева, Гончарова. – Нападки на Фета и Полонского. – Базаров. – Ошибка Писарева в характеристике этого типа. – Падение и смерть Базарова. – Статья Н. Страхова об «Отцах и детях».
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
I
Свои первые литературные шаги Писарев сделал, как мы уже знаем, в журнале «Рассвет», предназначенном для взрослых девиц. Выпуская первую книгу этого нового издания, В. Кремпин изложил свою программу в отдельной заметке «От редакции», написанной витиеватым слогом, с некоторою наивностью юного ратоборца в совершенно новой для него области литературного служения обществу. Современная русская жизнь рисуется Креминну в чрезвычайно ярких красках. Исторический момент, в который ему пришлось выступить на поприще журналистики, кажется ему преисполненным великих задач, для разрешения которых уже имеются необходимые умственные и нравственные силы. Гений преобразования парит над русскою землею, с пафосом восклицает редактор «Рассвета». Плавным, неторопливым полетом он проникает в толпы народа, стряхнувшего с себя прежнюю умственную инерцию, закоснелую отсталость известных привычек и пристрастий. Носясь над огромным пространством России, он заглядывает повсюду. Шире растворил он двери высших учебных заведений, повсюду разбросал он многочисленные сети новых путей. Желая связать в одно духовное целое высшие и низшие классы, заглянул он и в крестьянскую избу. Наконец, на рассвете нового дня, добрый гений разбудил и спящую русскую женщину, указав ей на тот путь, по которому она должна идти, чтобы сделаться гражданкою и приготовить себя к высокому долгу – «быть воспитательницею нового, возрождающегося поколения». Кремпин считает своим долгом громко провозгласить, что главная цель «Рассвета» – возбудить сочувствие молодых читательниц к тому направлению, которое приняло русское общество в последнее время и которое слило в одно живое учение новейшие идеи и христианскую философию. Он не смеет думать, что журнал его будет иметь сильное влияние на женское образование, но он будет твердо проводить только известные мысли, не уклоняясь в сторону и не вдаваясь ни в какие посторонние для педагогического издания стремления и цели… Дав затем самую краткую характеристику важнейших отделов «Рассвета», Кремпин в заключение объявляет, в немногих строках, что в его журнале будет помещаться подробная библиография, предназначенная впрочем, не для девиц, а для родителей и наставников, чтобы, во-первых, сообщить им новые педагогические идеи о женском воспитании и, во-вторых, чтобы дать им возможность руководить чтением и развитием своих дочерей[1 - «Рассвет», журнал наук, искусств и литературы для девиц, 1859 г., стр. I–VI.]…
В этом библиографическом отделе «Рассвета» Писарев и начал свою журнальную деятельность. В ряде кратких, сжатых и метких рецензий он сразу обнаружил свой природный литературный талант, широко развернувшийся, однако, только впоследствии, на страницах «Русского Слова», вне узкой, стесняющей рамки журнала с чисто педагогическими целями и сокращенною программою издания, предназначенного для ограниченного круга читателей. Писарев быстро освоился с предоставленным ему делом. Откликаясь на прогрессивные запросы времени, он в груде литературных материалов, приходивших в редакцию, постоянно выбирает все то. что может дать повод с большею или меньшею полнотою обсудить увлекательный и важный вопрос о женской эмансипации. С чуткостью партийного бойца, он улавливает каждый прогрессивный намек, который под его красноречивым пером развертывается в ряд стремительных, смелых рассуждений, отличающихся удивительною прямотою. Повсюду в его рецензиях виден живой ум, не склонный к уступкам, редко загорающийся сектантским огнем, но нигде не теряющий власти над собою, ум решительный и упорный в каждом из своих отчетливых и ясных доказательств. Овладев существом предмета, Писарев в своих многочисленных библиографических заметках является убежденным поборником самого широкого взгляда на задачу женского воспитания и образования. В наше время, говорит он, большинство женщин, при самых благородных стремлениях, при самом теплом, искреннем желании принести пользу обществу, часто не имеет никаких средств благотворно воздействовать даже на свой домашний круг. Не получив основательного образования, они не могут воспитать своих детей сообразно с требованиями и духом времени. Все виды гражданской деятельности, наука, литература, искусство, при современных условиях жизни, почти недоступны женщине. Все воспитание женщины направлено к тому, чтобы поставить ее в полную, безответную зависимость от внешних обстоятельств. Но справедливо-ли такое положение вещей? Почему женщине не заняться наукою для науки? Почему ей не посвятить себя искусству, если она чувствует к нему внутреннее призвание? Излагая в одном месте взгляды Фенелона, Писарев высказывается за полное расширение гражданской и человеческой деятельности женщины. Для государственного и частного благосостояния необходимо совокупное, согласное действие обоих полов. Только правильное развитие мужчины и женщины может быть прочным залогом прогресса. Имея свои специальные обязанности, женщина должна, тем не менее, наравне с мужчиною получать прочное систематическое образование – в интересах самого общества, которому нельзя служить с пользою без настоящего просвещения. Но выступая борцом за женскую эмансипацию, Писарев не хочет однако замалчивать тех фактов, которые он считает порождением исторических обстоятельств. «Больно и грустно видеть, пишет он, что часто лучшие наши женщины не умеют мыслить, не проводят даже на словах ни одной идеи до конца, строят странные силлогизмы, увлекаются воображением и чувством и часто, совершенно не кстати, дают им перевес над логическими доводами ума[2 - «Рассвет», 1859, № 8. Библиография, стр. 61.]». Отсутствие гармонии между чувством и умом составляет печальный признак женского характера, как он сложился в условиях современного социального быта, носящего на себе печать прошлого деспотизма и варварства. Женщине, как и мужчине, с горячностью протестует Писарев, дана одинаковая сумма прирожденных способностей. Но воспитание женщины, не упражняя её критических способностей, с молодых лет усыпляет её мысль и доводит в ней чувство до болезненных, колоссальных размеров. Это воспитание надо переделать в принципе. Уравновесив в женщине ум и чувство, надо приучить ее к самостоятельному анализу сложных жизненных явлений, надо приучить ее «последовательно, без увлечения, но с искренним и глубоким чувством проводить в жизнь добытые убеждения». Вот в чем заключается настоящая эмансипация женщины. Внесите в женское воспитание науку во всем её строгом величии, и дело эмансипации двинется по верному пути. Дайте женщине убеждения, и она завоюет себе подобающее положение в обществе. Откройте ей доступ к умственному свету, и верная своим природным силам, впечатлительная к красоте, легкая и гибкая при самых тяжелых обстоятельствах, она внесет движение и живые страсти в стоячие воды семейного и общественного быта.
Среди этих убежденных рассуждений о женском вопросе, имеющих строго теоретический характер и изложенных с обычною простотою литературных выражений, местами в рецензиях Писарева мелькнет невольное замечание, выдающее юношескую грезу о личном счастье – безбурном, спокойном, ровном. Роман с Раисою был еще в полном разгаре. Не умея прятать свои настроения, он иногда, среди общих рассуждений на данную тему, открывает мечту своего сердца в простых и трогательных фразах, без прогрессивного задора, почти не заботясь о том, чтобы сгладить сентиментальные оттенки своего чувства. Самая идея женской эмансипации часто выступает у него в скромных словах без всякого звона и даже с оговорками, которые едва-ли отвечали радикальным запросам времени. Он не разрушает в корне старых представлений об этом предмете. Выступая под новым, прогрессивным знаменем, он хотел бы только восполнит пробел в современной ему системе женского воспитания, расширить самое понятие о женской личности и тем как бы наметить программу необходимых реформ в социальной жизни русского общества. Его смелая критика, воюя с предрассудками, не трогает некоторых святынь, с которыми неразрывно связаны высшие духовные интересы человека. Прокладывая новые пути в этом важном социальном вопросе, он нигде не доводит своего анализа до крайних пределов, нигде не обнаруживает настоящей революционной страсти, обращенной на самые основы семейной жизни. Самостоятельность женщины, говорит в одном месте Писарев, состоит в разумном употреблении тех способностей, которые вложила в нее природа, а не в пустом нарушении «безвредных условий общественности»[3 - «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 15.]. Эмансипация женщины, пишет он в другом месте, «состоит не в бесплодном ниспровержении общественных приличий, а в реформе женского воспитания»[4 - «Рассвет», 1859, № 11, Русские периодические издания, стр. 51-52.]. Жорж-Занд отнеслась к вопросу о самостоятельности женщины не так, как следовало. Она обратила преимущественное внимание на стеснительные законы света, ограничивающие круг её независимой и самостоятельной деятельности. Не имея власти над своими крайними идеями, она потребовала уничтожения этих неосмысленных законов и сама же первая их нарушила. В этой области вся агитационная работа Жорж-Занд не могла дать благих результатов. Она впала в роковую ошибку, потребовав независимости для женщины,– «тогда как следовало сначала требовать для женщины серьезного образования». Нападая на внешние стеснения, «основанные на внутренней слабости и неразвитости самой женщины», Писарев хотел бы, чтобы вопрос о женском воспитании и образовании был подвергнут спокойному и хладнокровному обсуждению. Не увлекаясь никакой теорией, надо понять истинное назначение женщины, чтобы незыблемыми доводами оградить её лучшие права подруги своего мужа, матери и воспитательницы своих детей. «Женщина, близкая к идеалу, развитая во всех отношениях, всегда будет и хорошею женою и примерною матерью», – с догматическою твердостью изрекает отважный, блестящий, но не глубокий Писарев. Муж имеет право, говорит он в одной рецензии, требовать от жены не только любви, но и дружбы, «а для дружбы необходимо взаимное уважение и одинаковое развитие». Муж должен найти в жене сочувствие. Имея высшие духовные потребности, он должен удовлетворять их в семейном кругу, при содействии развитой жены, «способной мыслить и усваивать себе отвлеченные идеи». От этой догмы, обоснованной по новому, но построенной в старом, ортодоксальном стиле, Писарев не уходит ни на шаг. Меняя подчас аргументы в борьбе за эмансипационную идею, он никогда не изменяет главному, как он его понимает, принципу женского воспитания. Старая догма остается неприкосновенною. При всем публицистическом размахе, рассуждения Писарева, парят не высоко над землею, не освещая глубин вопроса, не открывая никаких новых умственных горизонтов. Передовая тенденция, по плечу самому среднему читателю, нередко вспыхивает у него между двумя прозаическими по содержанию, но зажигательными по форме тирадами о женской самостоятельности – в простодушной, наивной мечте о каком то особенной! семейном строе, с интеллигентною, прогрессивною женою у кормила правления. Какие светлые перспективы! Какое широкое поприще открыто для передовой женщины! О муже не приходится говорить, – его дело ясно, его служение обществу, какие бы формы оно ни приняло, историческими силами выведено на верную дорогу. Все дело в ней. Как она устроится при новых понятиях, подучивших осуществление в прогрессивной системе воспитания? Чем наполнит она часы, свободные от прямых я самых важных для неё обязанностей? Писарев с юношеским увлечением набрасывает следующую картину, которая в свое время, конечно, подхватывала и уносила всякое живое, пылкое воображение. В прогрессивной семье женщина имеет свое определенное дело. Она занимается журнальными переводами, и при этом она вовсе не теряет своей материнской нежности. Сидя «над денежными работами», она ни на минуту не забывает о своем ребенке, и светлые мысли, одна увлекательнее другой, возбуждают в ней энергию в тяжелые минуты труда, нужды, физической или умственной усталости. Осмысленная деятельность развивает в ней силу ума, не уничтожая естественных чувств и побуждений, вложенных в нее природою…[5 - «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 14.].
В двенадцати книгах «Рассвета» 1859 года библиографический отдел, руководимый Писаревым, был одним из самых ярких и живых в журнале. Кремпин не мог найти для себя лучшего сотрудника, чем Писарев, в среде студенческой молодежи, которая постоянно, во все эпохи, высылала на журнальное поле своих бойких, смелых ратоборцев и застрельщиков передового движения. Добролюбов тоже начал свою литературную карьеру еще на скамье Педагогического института и начал с полным успехом, сразу возбудив своим острым, ядовитым пером журнальные страсти и сразу же сделавшись блестящею надеждою «Современника», товарищем и другом Чернышевского. Подобно Добролюбову, Писарев выступает с небольшими на первых порах рецензиями, написанными в сдержанном, но смелом тоне, закругленными, безупречно литературными периодами, отражающими светлое и ровное настроение. Не вдаваясь в настоящую критику, Писарев постоянно заботится о логической полноте проводимой им публицистической мысли и лишь моментами, уступая порывам прирожденного таланта и внутренней потребности писать изящными красками, он бросает на ходу отдельные, частные замечания, обличающие тонкий вкус незаурядного литератора и ценителя художественных произведений. Три рецензии Писарева об «Обломове», «Дворянском гнезде» и «Трех смертях», напечатанные в последних книгах «Рассвета», должны были обратить на себя всеобщее внимание – по своему тону, по меткости и сжатости отдельных художественных характеристик, по богатству литературных выражений для передачи чисто поэтических впечатлений. В этих заметках нельзя было не увидеть прямого критического дарования с эстетическим чутьем к красоте, с уменьем проникаться художественными идеями. Для молодого студента, который только еще испытывал свои литературные силы, эта блистательная проба пера над тремя замечательными произведениями русского искусства была настоящим триумфом. Мы уже знаем, что Гончаров отдал рецензии Писарева предпочтение перед многими другими статьями о его романе. В статейке о «Дворянском гнезде» попадаются психологические определения, рисующие оригинальные особенности Тургеневского художественного письма выразительно, с полной рельефностью. С убеждением умного эстетика, легко и свободно разбирающегося в самых тонких, внутренних движениях художественной идеи, Писарев, под конец своей статьи, воздает Тургеневу справедливую хвалу за то, что он не держит в своем романе открыто перед всеми никакой внешней тенденции. «Чем менее художественное произведение, говорит он, сбивается на поучение, чем беспристрастнее художник выбирает фигуры и положения, которыми он намерен обставить свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достигнет ею желанного действия»[6 - «Рассвет» 1859. № 11, Русские книги, стр. 10.]. В романе нет ни тени дидактизма, а между тем встающая в нем картина русской жизни полна высокого поучительного смысла я отражает в себе целую эпоху. При этом на всем произведении лежит печать определенной национальности, переданной с настоящею глубиною художественного понимания, очищенной и осмысленной огромною силою поэтического таланта.
В разборе «Трех смертей» Писарев открывает типические особенности художественного творчества Толстого. Его определения психологических приемов молодого писателя кратки и полны содержания. Еще не имея перед собою настоящего Толстого, во всей громадности его беллетристического таланта и сложных внутренних страстей, выведших его на путь морального и религиозного проповедничества, Писарев, тем не менее, с прозорливостью тонкого критика, улавливает главные признаки этого исключительного, титанического дарования. На немногих страницах образ молодого Толстого встает в правдивых и смелых чертах, с ярким выражением поэтической вдохновенности. Поэтические достоинства «Трех смертей», глубокий философский смысл этого произведения, его скрытый пафос, который дает себя чувствовать за эпически спокойными чертами простого рассказа – все это отмечено с полным знанием дела, в ярких фразах, чуждых всякой искусственности. Пересказывая важнейшие части этого произведения, Писарев делает по пути некоторые замечания, бросающие критический свет на его внутренний смысл. Как-бы сравнивая мысленно Гончарова, Тургенева и Толстого, рецензент с особенною силою подчеркивает характерные свойства разбираемого им писателя. Никто, говорит Писарев, не простирает далее Толстого своего анализа. Никто так глубоко не заглядывает в душу человека. У какого автора мы найдем такую упорную, неумолимую последовательность в разборе самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, по-видимому, случайных движений души? Читая произведения Толстого, мы видим, как развивается и формируется в уме человека известная мысль, через какие видоизменения она проходит, как накипает в груди определенное чувство, как вдруг просыпается и разыгрывается воображение и как, в самом разгаре мечтаний, грубая жизненная действительность разбивает самые пылкие надежды. Таинственные, неясные влечения передаются у него в словах, не рассеивающих фантастического тумана. Некоторые картины возникают у него как-бы внезапно, от единого взмаха пера. Природа и человек живут у него одною жизнью, выступающею в линиях и контурах, доступных осязанию. Желая дать своим читателям непосредственное представление о таланте Толстого, Писарев делает несколько выписок из его рассказа, которые должны говорить сами за себя. Этим способом он наглядно показывает настоящие достоинства этого художественного произведения, достоинства, которые заключаются «не во внешнем плане, не в нити сюжета, а в способе его обработки, в группировании подмеченных частностей, дающих целому жизнь и определенную физиономию»[7 - «Рассвет» 1859. № 12. Русские периодические издания, стр. 74.].
Вот с какими критическими взглядами подходил к литературным произведениям Писарев в 1859 году, на страницах «Рассвета», можно сказать, накануне жаркой, но бесплодной битвы с Пушкиным. В этих эстетических и по содержанию и по тону рассуждениях еще нельзя открыть будущего Писарева, стремительного диалектика с блестящими, но фальшивыми парадоксами, с разрушительным задором против всякого искусства, с мятежными страстями, направленными в ложную сторону поддельною и жалкою философиею бурной эпохи журнальных препирательств. Он оценивает художественные произведения, прислушиваясь к своему природному эстетическому чутью или следуя внушениям своего неглубокого, но ясного смысла. Не воспитав своего ума ни в какой философской школе, он не делает никаких серьезных обобщений, не роняет ни единой мысли из более или менее цельной системы понятий, руководящих его критическими суждениями. В отрывочных фразах, никогда не поражающих ни парадоксальностью, ни глубиною теоретического анализа, можно проследить наиболее известные, наиболее популярные истины, составляющие азбуку всякого критического мышления, но ни в одной из ранних заметок Писарева мы не найдем и слабого отблеска устойчивой доктрины, владеющей всеми его настроениями и убеждениями. Его отдельные взгляды отличаются логическою простотою, не требующей серьезной критики, но и эти взгляды, без сомнения, могли бы блестяще развернуться с течением времени, если бы Писарев так быстро не изменил своему природному таланту, если бы он не отравил своего ума эстетическим учением, не заключающим в себе никакой глубокой мысли, хотя и выраженным с необычайными претензиями на полную философскую непогрешимость. Молодой Писарев стоял на верном пути, когда изготовлял свои небольшие, но всегда талантливые рецензии для журнала Кремшина. Собираясь давать постоянные отчеты о прочитанных им произведениях, он прямо заявляет, к чему будут по преимуществу тяготеть его симпатии. «Литературные произведения, повести, романы, говорит он, в которых светлая, живая мысль представлена в живых образах, займут бесспорно первое место в нашем обзоре. На это есть причина. Прекрасная мысль, представленная в художественном рассказе, проведенная в жизнь, сильнее, глубже подействует на молодую душу, оставит более благотворные и прочные следы, нежели отвлеченное рассуждение»[8 - «Рассвет» 1859. № 1. Библиография, стр. 2.]. Его задача, как литературного критика, должна заключаться в том, чтобы уловить идею художественного произведения и затем, оценив её верность, проследить, каким образом «она вложилась в образы», соответствующие её содержанию. От каждой повести он считает себя в праве требовать верности характеров, живости действия и, при более или менее серьезном замысле писателя, художественной комбинаций событий, проводящих определенную мысль без всякой натяжки и тенденциозного усилия. «Повесть, по нашим современным понятиям, решительно заявляет Писарев, – должна быть не нравоучением в лицах, а живым рассказом, взятым из жизни». Рука автора должна быть для нас совершенно незаметна.
О самом эстетическом наслаждении художественным произведением Писарев выражается постоянно с пылким сочувствием. Человеку свойственно стремление к прекрасному, пишет он в одной рецензии, и настоящее эстетическое образование должно приучать его любить и понимать красоту. Говоря о русской лирической поэзии, этот будущий враг искусства в его лучших образцах не находит никаких слов для определения наиболее сильных её сторон. «Никакая характеристика, заявляет он, не может дать полного понятия о поэзии Пушкина или юморе Гоголя, не может заменить того эстетического наслаждения, которое доставляет чтение их произведений»[9 - «Рассвет» 1859. № 1. Русские книги, стр. 13.]…
Между этими отрывочными, но несомненно эстетическими суждениями в рецензиях «Рассвета» рассеяно множество замечаний, выражающих симпатию Писарева к нравственным и религиозным идеям. Нежными словами отмечает он «теплую веру» и глубокое чувство «истинного христианина» в связи с несколькими замечаниями о «великом, священном событии нашего искупления[10 - «Рассвет» 1859. № 1. Русские книги, стр. 3.]». В разных местах говорится с полным убеждением о святости долга, о том, что каждый человек сам управляет своею судьбою, что истинное развитие ведет человека к нравственному совершенству, научая его находить счастье «в самом процессе самосовершенствования[11 - «Рассвет», 1858, № 11. Русские книги, стр. 35.]». Надо отыскивать истину ради истины, ибо только этим способом человек развивает свои умственные силы, делается нравственнее и чище, говорит с увлечением Писарев. «Безкорыстный труд, пишет он, приносит с собою самую прекрасную награду: он дает человеку тихое внутреннее удовлетворение, сознание исполненного долга, он вырабатывает в нем твердость убеждений и самостоятельный, бесстрастный и, в то же время, полный теплого сочувствия взгляд на людей и на жизнь». В наше время, прибавляет Писарев в другом месте, наука не ведет ни к отрицанию законов нравственности, ни к отрицанию истин религии. Ратуя за лучшее воспитание молодого женского поколения, Писарев бросает на страницы следующие красноречивые фразы: «Благотворное влияние природы на молодую душу может только тогда достигнуть полного своего развития, когда влияние это будет, по возможности, осмыслено, когда наставники поставят воспитанниц лицом к лицу с природою, когда они укажут им на её вечные красоты, когда научат их дорожить тем святым чувством радости и благоговения, которое возбуждают в нас простор, свет, чистый воздух, зелень, леса, поля, – словом, все то, что живет, в чем проявляется вечная премудрость Творца»…[12 - «Рассвет», 1859. № 8. Русские периодические издания, стр. 79.]
II
В декабрьской книге «Русского Слова» за 1860 год впервые появляется имя Писарева под двумя литературными произведениями. Он выступает в качестве переводчика поэмы Гейне «Атта Троль» и автора злой, но местами справедливой рецензии, написанной по поводу вышедшего в Москве «Сборника стихотворений иностранных поэтов» В. Костомарова и Ф. Берга. Стихотворный перевод Писарева не отличается никакими особенными достоинствами и, несмотря на полную верность подлиннику, совершенно не передает его великолепных, поэтических красок, озаренных удивительным сатирическим остроумием. Разбор небольшой московской книжки занимает несколько печатных страниц и, по сравнению с рецензиями «Рассвета», производит впечатление чересчур сурового литературного приговора, в котором собственно эстетическая идея играла второстепенную роль. Через полтора года по напечатании этой рецензии Писареву пришлось вернуться к переводам Костомарова и Берга, и тогда он в гневной статейке, напечатанной в мае месяце 1862 года, беспощадно раскритиковал новый сборник стихотворений под названием «Поэты всех времен и народов». Но, несмотря на быстрое развитие Писарева в известном направлении, обе эти рецензии образуют одно согласное целое без малейшего внутреннего противоречия между отдельными мыслями и суждениями. То, что в менее решительных фразах только намечено в рецензии 1860 г., то в критической заметке, появившейся через восемнадцать месяцев, выражено в самых энергических, смелых словах, без всякой оговорки, с явным презрением к каким бы то ни было чисто эстетическим или поэтическим красотам. В короткий промежуток времени, наполненный многочисленными литературными трудами самого разнообразного содержания, Писарев успешно овладевает настроением эпохи и, недавний моралист и эстетик, он вдруг выступает ярым фанатиком самой крайней реалистической философии. Его богатая, плавная речь, прежде сверкавшая в патетические минуты красивыми образами, охлажденная новыми понятиями, приобрела особенную резкость. Его полемическая насмешка, проникнутая непримиримою злобою, звучит обидно, дерзко, вызывая ответное раздражение. Наслаждение самим искусством, прежде имевшее такое большое значение в глазах Писарева, теперь уже признано вредною забавою, недостойною серьезного, мыслящего человека. Писарев быстро переродился в новой журнальной атмосфере, насыщенной эстетическими и философскими идеями Чернышевского, статьи которого в то время волновали весь литературный мир. Он сделался партизаном известного литературного движения и критика в его руках стала мало-по-малу превращаться в орудие публицистической агитации, совершенно не считающейся с самостоятельными задачами и целями художественного творчества. Его литературные суждения, выиграв в резкости тона, приняли направление, прямо враждебное тонкому, чуткому восприятию поэтических впечатлений. Уже в рецензии, написанной о «Сборнике стихотворений иностранных поэтов», слышится неудовольствие по поводу литературных произведений, в которых свободно развивается чисто-лирическое содержание, без малейшего оттенка гражданственной сатиры. В библиографической заметке о том же предмете в «Русском Слове» 1862 года это неудовольствие, как мы уже говорили, приобретает характер явного протеста с сатирическим издевательством над разными «цветистыми» определениями поэтического искусства. Писарев глумится не только над невинными переводчиками, но совершенно откровенно, не чувствуя комизма своих слов, бьет полемическою насмешкою даже Карлейля – критика с неподражаемым талантом и пламенным красноречием пророка. В. Костомаров приводит в предисловии, предшествующем переводу некоторых стихотворений английского поэта Бэрнса, отдельные определения и выражения из критической статьи о нем, написанной Карлейлем. По блеску ярких уподоблений, – это искры настоящей поэзии, какие постоянно вылетали из под огненного пера великого писателя. Карлейль оставил в английской литературе целый ряд бесподобных характеристик и между ними статья его о Бэрнсе занимает одно из самых видных мест. Он родился поэтом, пишет Карлейль, и поэзия была «небесным элементом его существа[13 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 45.]». На её крыльях он уносился в область чистейшего эфира, чтобы только не унизить себя и не осквернить свое чистейшее искусство. «Низко под его ногами лежали гордость и страсти света. Он одинаково смотрел вниз и на благородных, и на рабов, и на князей, и на нищих, – смотрел своим ясным взглядом, с братскою любовью, с сочувствием и с состраданием[14 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 46.]». Цитируя эти фразы из статьи Костомарова, Писарев ехидно смеется над их «цветистым» содержанием. Карлейль облек в поэтическую ризу самую простую мысль, которую можно было бы передать следующими прозаическими словами: «Роберт Бэрнс был честный человек, никого не обманывал и ни перед кем не подличал». В другом месте, делая параллельную характеристику Бэрнса и Байрона, Карлейль говорит: «Байрон и Бэрнс были оба миссионеры своего времени. Цель их миссии была одна и та же – научить людей чистейшей истине. Они должны были исполнить цель своего призвания – тяжко лежало на них это божественное повеление. Они изнывали в тяжелой болезненной борьбе, потому что не знали её точного смысла: они предугадывали его в каком-то таинственном предчувствии, но должны были умереть, не высказавши его ясно[15 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 47.]». Эти вдохновенные фразы, отражающие целую историческую философию, не возбуждают в Писареве ничего, кроме желания отшутиться ироническим замечанием. Карлейль верит в какие-то исторические миссии! Он не только пишет красиво, но и думает красиво, так что «вы, при всех усилиях, не дороетесь ни до какой простой человеческой мысли!..»
Рецензия о «Сборнике стихотворений иностранных поэтов» была только первым дебютом Писарева в критическом отделе «Русского Слова». За нею последовали две небольших статьи, довольно близких по содержанию, об «Уличных типах» А. Голицынского и разных книжках для простого народа. Обе эти статьи написаны с литературным жаром. Писарев возмущается, в заметке о книге Голицынского, всяким бесплодным обличением нравов, если оно не проникнуто живою любовью к человеку, если оно не обнаруживает уменья разглядывать настоящую физиономию народа за его случайною, «историческою маскою». Необходимо, чтобы обличение не было клеветою на жизнь, говорит Писарев. Необходимо, чтобы оно было не «камнем, брошенным в грешника, а осторожным и бережным раскрытием раны, на которую мы не имеем права смотреть с ужасом и отвращением». Если писатель смеется над тем, что в каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, сострадания или ужаса, тогда мы в праве сказать, что такой смех – кощунство. «Это – гаерство, которому нужен канат и дурацкая шапка, чтобы развлекать публику, а не любовь и симпатия к народу». В статейке о народных книжках он выступает горячим поборником самого широкого народного образования и полного сближения интеллигенции с простою массою. Он хотел-бы, чтобы велась разумная поэтическая и педагогическая пропаганда в среде народа – такая пропаганда, которая без всякого грубого насилия освободила-бы простого русского человека от угнетающего его невежества. Мы можем возвратить себе доверие народа, говорит он с полным убеждением, «только тогда, когда станем к нему снисходительными братьями». При этом Писарев не возлагает никаких надежд на разные дешевые издания, за которые берутся обыкновенно люди без настоящего таланта. Грошовою книжкою, говорит он, нельзя вылечить народ от вековых предрассудков. Пересмотрев целый десяток брошюр, он пришел к твердому, но мало утешительному убеждению. Это – «топорные произведения промышленного пера», которые не могут принести никому никакой пользы. Но дело русской народности не стоит однако на одном месте: его двигают не грошовые издания, его выносят на своих плечах настоящие публицисты, ученые и художники, вырабатывающие и проводящие в общественное сознание новые понятия и новые идеалы[16 - «Русское Слово», 1861, март Русская Литература, стр. 111.]…
Две статьи: «Идеализм Платона» и «Схоластика XIX века» открывают перед нами в первый раз настоящего Писарева. В них он является перед читателем во всеоружии своего молодого диалектического таланта, с цельным и законченным мировоззрением, писателем, горячо симпатизирующим философским идеям Чернышевского, но не лишенным и своей собственной оригинальной черты. С этими статьями «Русское Слово» вышло на новую дорогу и, при видимом согласии с некоторыми либеральными журналами, заняло совершенно особое место среди других органов петербургской и московской печати. В резких фразах Писарев провозглашает свое вероучение. Не преклоняясь ни перед какими авторитетами, он уверенно и твердо ставит свои собственные теоремы рядом с философией Платона, неудовлетворяющею современного человека. Он проповедует индивидуализм и эгоизм, как решительное средство выйти на свежий воздух и сбросить с себя невыносимую тиранию «общего идеала». Его учение основано на неискоренимых требованиях живой человеческой личности. Прогрессивные стремления должны быть выражением индивидуальной воли, освобожденной от ненужных цепей какой-бы то ни было нравственной философии. С неустрашимою смелостью Писарев защищает свою мысль на сотню различных ладов. Не отступаясь ни перед какими теоретическими трудностями, он каждым новым своим доводом стремится придать своим словам рельефность и яркость настоящего литературного манифеста. С какой-то дикою силою он обрушивается на Платона и, даже не изучив серьезно его системы, имея о ней самое поверхностное, школьническое представление, по бесцветным компиляциям русских популяризаторов, он подвергает ее жестокому бичеванию за отсутствие логической простоты и убедительных научных доказательств. Легендою веков Сократ и Платон поставлены на высокий пьедестал перед всем человечеством. Их идеи считаются святынею, их философия служит предметом благоговейного изучения для множества ученых. Писарев не намерен развенчивать «почтенных стариков», но он не пойдет и по следам разных немецких критиков, которые не могут говорить об этих «генералах от философии» иначе, как с самыми низкими поклонами. «Доктринерство» Платона возмущает его душу. Именно Платон воспел в своих философских сочинениях болезненный разлад между материей и духом, между низшими и высшими потребностями человека, ту самую болезнь, которая, спустя много веков, породила «наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными способностями и с бесконечными стремлениями»[17 - «Русское Слово», 1861, апрель, Русская Литература, стр. 46.]. Платон говорит о какой-то абсолютной, для всех обязательной истине, об идеях, стоящих выше земной жизни, но «пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки, или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку»[18 - «Русское Слово», 1861, апрель, Русская Литература, стр. 48.]. Вся философия Платона не вытекла живою струею из его непосредственного чувства, не была вызвана условиями и обстановкою его жизни, а выработана путем одних только логических умозаключений. Он не был верен своему учению. Грек, гражданин свободного народа, «здоровый и красивый мужчина, к которому по первому призыву соберутся на роскошный пир друзья и гетеры», он старался доказать в своих сочинениях, что в этом мире все зло. Он говорил против очевидности. Воздвигая гонение на земное начало, он платил обильную дань не только наслаждениям, но и порокам своего времени. В этом мире все есть зло? А полная чаша вина при звуках нежной лиры? А ласка женщины? А звучный гекзаметр? А дружба, которая, но мнению греков, была выше и чище любви? Нет, Платон грубо ошибался в своих отвлеченных философских рассуждениях, выдавая «фантастические бредни» за вечную истину. Он брался за решение практических вопросов, даже не умея их поставить как следует, и его политические размышления «распадаются в прах от самого легкого прикосновения критики». Он вдавался в заблуждения, которых нельзя было-бы простить теперь «любому студенту»[19 - «Русское Слово», 1861, апрель, стр. 41, 58.].
Разделавшись с Платоном, Писарев печатает обширную статью, направленную против современной русской журналистики и критики. Первая половина этой статьи появилась в майской книге «Русского Слова», вторая – в сентябрьской. Но обе части связаны между собою единством основной мысли, при чем последние главы статьи имеют чисто полемический характер. Мы уже касались этих шумных страниц в наших прежних работах. Вмешавшись в борьбу Чернышевского с «Отечественными Записками», Писарев на практике показал, какие выводы можно получить, если приложить его теорию индивидуализма и эгоизма к живым фактам современной литературы. Статья Чернышевского об «Антропологическом принципе» показалась ему неразрушимою в своих научных доводах и, не говоря вслух об источнике, он в немногих рассуждениях набрасывает целое материалистическое учение в тех самых скандально-грубых чертах, в каких оно выражено было знаменитым публицистом «Современника». Возражения Юркевича, конечно, ничего не стоят в глазах Писарева. Материализм неопровержим, потому что за него простая, незамысловатая логика здравого смысла. В практической жизни мы все материалисты, все идем в разлад с нашими теориями. Самый крайний идеалист, садясь за письменный стол, сразу попадает в условия, имеющие очевидно материальный характер. Осмотревшись кругом, он ищет начатую работу, шарит по разным углам, и если тетрадь или книга не попадется на глаза, отправляется искать в другое место, хотя-бы сознание говорило ему, что он положил ее именно на письменный стол. Самое твердое убеждение разрушается при столкновении с очевидностью, потому что свидетельству наших чувств мы всегда придаем больше значения, нежели соображениям рассудка. «Проведите это начало, говорит Писарев, во все сферы мышления, начиная от низших до высших, и вы получите полнейший материализм: я знаю только то, что вижу или вообще в чем могу убедиться свидетельством моих чувств». Повторив в этих фразах знаменитые в своем роде аргументы Чернышевского, Писарев затевает легкий философский спор с Лавровым и затем, в последней половине статьи, горячо схватывается с сотрудниками «Отечественных Записок», которые усомнились в достоинствах и солидности «Полемических красот».
В первых главах «Схоластики XIX века» Писарев с большою подробностью вычерчивает те самые взгляды, которые развиты им в статье об «Идеализме Платона». Он решительно против всяких общих теорий, превращающих, по его мнению, живые факты в отвлеченные, безжизненные и бесцветные понятия. Орган постоянно прогрессирующего сознания, литература, а с нею и журнальная критика, не должны задаваться никакими однообразными принципами, которые мешают улавливать явления жизни в их настоящем колорите и пестроте природных красок. «Нас заели фразы, восклицает Писарев вслед за Катковым. Мы пустились в диалектику, воскресили схоластику и вращаемся в заколдованном кругу слов и отвлеченностей, которые мешают нам делать настоящее дело». Следуя за готовыми учениями, люди без оригинального таланта довели литературную критику до полного падения. они заставили ее тратить силы в бесплодных отвлеченных рассуждениях в то самое время, когда жизнь шумела за их окном. Надо откинуть всякую схоластику, и тогда возрождение станет возможным. Пусть литература, чуткая к потребностям дня и не раболепствующая ни перед какими общими теориями, займется фактами жизни, и тогда она откроется для целого потока свежих и новых впечатлений. Пусть наша критика рассматривает «отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником» – все это её настоящее дело. Чем меньше в ней будет отвлеченностей и общих взглядов, чем внимательнее она будет обсуживать «отдельные случаи вседневной жизни», тем она будет плодотворнее.
Эта точка зрения получила, наконец, в статьях Писарева перевес над прежними эстетическими взглядами. Индивидуализм, не имеющий другого принципа, кроме безусловной веры в личный порыв и личное впечатление, оригинальность мнения, заключающаяся в полной отрешенности от всякой общей умственной дисциплины, живое слияние с конкретною историческою жизнью, без малейшей попытки подвергнуть ее серьезной критике на основании высших, отвлеченных начал – вот те новые идеи, которые захватили и увлекли Писарева почти с самого начала его литературной деятельности на страницах «Русского Слова». Вооружившись против деспотической власти внешних жизненных обрядов и привычек, управляемых шаблоном, Писарев, заодно с пошлою рутиною социальных нравов, стал разрушать и неизменные законы общечеловеческой логики. Ненависть ко всему, что стесняет свободную личную работу извне, вдруг раздулась у него в слепую, страстную вражду против всякого общего принципа, против высших идей, направляющих нашу деятельность в известную сторону. Живое протестантское чувство перелилось у него через свои естественные границы. Дух свободного индивидуализма принял, под пером Писарева, поистине уродливую форму, совершенно заслонив высокую мысль о возможной нравственной и умственной солидарности между людьми. Увлеченный собственною диалектикою, Писарев как-бы забыл, что самое оригинальное учение, в своих последних выводах и конечных стремлениях, всегда сливается с общечеловеческими понятиями. Его оригинальность имеет вершину, на которой оно останавливает свой полет – подобно струе фонтана, которая, взлетев на известную высоту, срывается и всею своею светлою тяжестью падает вниз, в общий бассейн…
III
Убеждения Писарева определились во всех важнейших подробностях. Материалист в области философии и проповедник безграничной личной свободы в практической области, он будет отныне работать в двух направлениях, проводя в каждом из них свои излюбленные мысли. Статьи его, написанные вплоть до заключения в крепость, могут быть разделены по теме на две группы, хотя их внутренний смысл и тут и там один и тот же. Собственно критическая работа, как понимал ее Писарев во дни сотрудничества в «Рассвете», с глубокими требованиями художественности, отошла на задний план, уступив место публицистической агитации по поводу произведений искусства. Не занимаясь серьезно ни наукою, ни философиею, часто компилируя лишь по двум, трем сочинениям, Писарев умел, однако, придавать каждой своей статье законченный характер самостоятельного рассуждения. Он с уверенностью защищает чужие мысли, обставляет их множеством известных примеров и, непомерно растягивая изложение, захватывает в свои статьи как можно больше доказательств из самых разнообразных областей. Но давая легкую и бойкую популяризацию научных вопросов, Писарев при этом никогда не забывает своих агитационных целей. Подробное и всегда добросовестное изложение разных научных истин самого примитивного свойства он постоянно пересыпает публицистическими замечаниями, вносящими оживление и фосфорический блеск в сухую по содержанию журнальную работу. Над рассуждениями, следующими по стонам новейших европейских авторитетов, витает самостоятельная философская идея, выработанная совокупными силами двух радикальных петербургских редакций. Освещая жизнь с разных сторон, она не даст заблудиться писателю в дебрях схоластики. Пренебрегая разными иностранными книжками, Чернышевский сам, собственными силами, воздвиг обширное философское здание, а Писарев, его смелый соратник, с недюжинным литературным талантом, последовательно доведет его идеи до самых крайних положений, призвав на помощь ходячие афоризмы новейшего естествознания. Только что окончив статьи о Платоне и схоластике XIX века, Писарев печатает популярное изложение «Физиологических эскизов» Молешота и «Физиологических писем» Карла Фохта. К этим двум литературным работам он присоединяет в февральской книге «Русского Слова» 1862 года пространную популяризацию «Физиологических картин» Людвига Бюхнера, чтобы авторитетом этого известного в русском обществе имени подкрепить грубые парадоксы двух других немецких ученых. Не обладая никакими самостоятельными знаниями в этой сфере, Писарев передает физиологические рассуждения трех писателей с необычайною пунктуальностью, часто говоря их словами, пользуясь их образами и открывая свободный полет собственным мыслям только там, где кончается точное исследование и начинается мир широких философских выводов. Все факты научного наблюдения и опыта только подтверждают, в глазах Писарева, материалистическое учение Чернышевского. Строгое изучение человека, рассеяв бредни людей, одержимых «узколобым мистицизмом», привело к твердому убеждению, что в мире нет ничего таинственного, загадочного. В природе существует только материя с её физическими и химическими свойствами. «Надо полагать и надеяться, изрекает Писарев, что понятия психическая жизнь, психологическое явление будут со временем разложены на свои составные части. Их участь решена. Они пойдут туда же, куда пошел философский камень, жизненный эликсир, квадратура круга, чистое мышление и жизненная сила. Слова и иллюзии гибнут, – факты остаются». Что такое чувство? В нем нет ничего психического, неразложимого на определенные материальные факты. Следуя за Фохтом, Писарев дает свое собственное научное определение. «Чувство, говорит он, есть такое раздражение в мозговых нервах, которое мгновенно, по крайней мере, быстро и притом непроизвольно проходит через все нервы нашего тела и через эти нервы так или иначе действует на обращение крови»[20 - «Русское Слово» 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 14.]. Вот что такое чувство. Определив с удивительным успехом одно психическое явление, Писарев предлагает нам не менее блистательное объяснение и другого. Что такое мысль? «Мысль, говорит Писарев, есть такое раздражение мозговых нервов, которое распространяется в них медленно и не действует на нервы тела. Оно совершается в известном порядке, за которым мы сами можем проследить и для которого у нас есть даже готовое название – логическая последовательность»[21 - «Русское Слово» 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 15.]. Вот что такое мысль. Это – раздражение мозговых нервов, не действующее на нервы тела. Вся беда философов старой школы, по мнению Писарева, заключается в том, что они смотрели на вещи не телесными, а «умственными очами». Они задавались неосуществимыми задачами – открыть общие свойства естества, основные начала жизни, объяснить конечные цели природы и человека. На этом пути их могло ожидать только полное фиаско. Занимаясь подобною «дребеденью», они теряли способность обращаться как следует с микроскопом и с анатомическим ножом. Настоящий мыслитель только тот, кто видят вещи в их полной простоте, кто жизнь человеческую изучает не с высоты отвлеченных философских теорий, а с помощью анатомического ножа или химического и физиологического опыта. Мы похожи на ходячие печи, говорил Либих, – вот научный взгляд на человека. Измените пищу человека, и мало-помалу он изменится весь. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движение души могут быть приведены «в некоторую зависимость от неправильного или недостаточного питания». Мы рождены из материи и живем материею. «Черты нашего лица и мысли нашего мозга имеют такую же географию, как и растения»[22 - «Русское Слово», 1861, июль, Иностранная Литература, стр. 49.]. Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизменяются, кружатся и движутся без цели и без остановки, проходят через наше тело, порождая новые тела – вот наша жизнь, вот наша история. Вот открытие новейшей науки, не увлекающейся больше никакою дребеденью. Факты физиологического процесса, не объединенные никакою отвлеченною мыслью, не сложенные в определенную систему под руководством известной философской идеи – вот обширное поле для научного исследования. Откинув всякие бредни, естествознание не ставит себе никаких заманчивых, но вредных для науки целей. «Цель естественных наук – никак не формирование миросозерцания, а просто увеличение удобств жизни, расширение и расчищение того русла, в котором текут наши интересы, занятия, наслаждения»[23 - «Русское Слово», 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 4.]. Для естествоиспытателя, говорит Писарев, нет ничего хуже, как иметь миросозерцание…
Придя с помощью Молешота, Фохта и Бюхнера к этим превосходным выводам, Писарев обращается к прогрессивной части русской публики с несколькими юношески самодовольными словами. Он надеется, что эти новые идеи будут иметь благотворное влияние на молодое поколение, сбрасывающее с себя «оковы рутинного фразерства и подавляющего мистицизма». Легче дышать, когда вместо призраков видишь «осязательные явления». Веселее жить, когда знаешь, с какими силами приходится считаться, над какими фактами надо получить господство. «Я беру в руки топор и знаю, что могу этим топором срубить себе дом или отрубить себе руку. Я держу в руке бутылку и знаю, что налитое вино может доставить мне умеренное наслаждение, или довести меня до уродливых нелепостей». В каждой частице материи лежит и наслаждение и страдание. Все дело в том, чтобы пользоваться её свойствами так, как мы пользуемся топором и вином…
За статьями, излагающими разные популярные книги по естествознанию, последовал ряд критических очерков о Писемском, Тургеневе и Гончарове. С развернутым знаменем убежденного индивидуалиста Писарев кинулся в горячую битву с отживающими, консервативными элементами русской жизни. Разбирая произведения новейшей литературы, он уже не вдается более ни в какие эстетические оценки, но пользуется богатым художественным материалом для того, чтобы в резких выражениях заклеймить пошлую рутину житейских обычаев и взглядов. Не сосредоточиваясь на поэтической картине, созданной творческим талантом, он обсуживает самую жизнь, в её нестройном виде, с её действительными изъянами и пороками. Законы искусства его не интересуют. Отражение жизни в художественном зеркале, психологические и нравственные мотивы творческого процесса, великая тайна выражения идей в определенных поэтических формах – все то, на чем по преимуществу останавливается настоящая литературная критика, совершенно отодвинуто Писаревым в сторону. Он анализирует только взаимные отношения между мужем и женою, между родителями и детьми, и в этом анализе он видит свою прямую задачу. Самыми ядовитыми словами бичует он старые поколения за их ретроградные тенденции в вопросах личной морали. С холодною злостью предает он открытому поруганию бессильные, дряхлые понятия полуинтеллигентной черни – в целом потоке фраз, отличающихся удивительною яркостью. Агитатор, настоящий агитатор проснулся в Писареве, и никогда еще русская журналистика не оглашалась таким удалым призывом к полной нравственной и умственной эмансипации. Отбросив всякие условные стеснения, Писарев заговорил с читателем теми словами, которые должны быть понятны всем и каждому. Ненавидя полумеры, он потребовал коренной ломки тех условий жизни, в которых развиваются молодые поколения. Ничто не избегло его беспощадной критики. Отдаваясь прогрессивному течению времени, он, без ярких философских идей, с ограниченным запасом научных сведений, инстинктивно стал наносить меткие удары русскому патриархальному быту во всех его типических проявлениях. Его публицистические тирады, озаренные огнем, в статьях предназначенных дать критическое освещение важнейшим произведениям русской литературы, производят сильное и продолжительное впечатление, несмотря на то, что часто не только не облегчают, но даже затрудняют понимание того художественного явления, о котором идет речь. Мешая правильному критическому анализу, они, тем не менее, органически сливаются с другими его рассуждениями, образуя наиболее патетические места в его лучших статьях, написанных в этот период его литературной деятельности.
Такой характер имеют важнейшие очерки Писарева, напечатанные в «Русском Слове» 1861 и 1862 годов. Совершенно извратив свою критическую задачу, он наполнил их публицистическими размышлениями на самые передовые темы. Только иногда, давая передышку утомленным силам оратора, Писарев в немногих фразах старается показать типические свойства разбираемого писателя, и тогда перед нами, как молнии, вспыхивают смелые, яркие метафоры, говорящие о настоящем критическом таланте. Все внимание Писарева сосредоточено на публицистической теме, которую он разрабатывает с полным увлечением. Вопросы поэзии вдруг получили у него иную постановку, и до неожиданности новая эстетическая теория, представляющая однако прямой логический вывод из философских идей Чернышевского, стала с необычайною помпою развертываться в его критических статьях, угрожая разрушительными парадоксами и целым, небывалым еще в русской литературе, походом на искусство.
Рассмотрим по порядку эти критические очерки Писарева и отметим все то, что выдается в них по литературному таланту или блеску публицистического красноречия. В октябре месяце Писарев напечатал обширный разбор одного из лучших произведений Писемского «Тюфяк». О самом Писемском мы находим в этой статье только несколько отрывочных фраз, удачно передающих характерные особенности его огромного дарования. Это – неполное, мимолетное определение его художественной манеры, но, мелькая между многочисленными и слегка монотонными рассуждениями о любви и женской самостоятельности, счастливая характеристика писательской личности производит отрадное, богатое впечатление. Сопоставляя Писемского с Гончаровым, Писарев указывает на яркое различие этих двух художников. Между ними очень мало сходства. При всей своей объективности, Гончаров должен быть назван лириком но сравнению с Писемским. В произведении Писемского нет ни единой черты субъективного отношения автора к своим героям. Грязь жизни остается у него грязью, сырой факт – бьет в глаза. Он рисует не выдающихся людей, стоящих над уровнем массы, а дюжинных лицедеев русской жизни, задыхающихся в её смрадной атмосфере. Этим Писемский отличается между прочим и от Тургенева. Читая Тургенева, мы забываем ту почву, на которой выросли второстепенные лица его повестей и романов и следим с особенным вниманием за самостоятельным развитием его главных героев. У Писемского мы ни на минуту не можем забыть, где происходит действие. «Почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают, куда деваться, действующие лица, от которого порою и читателю становится тяжело на душе[24 - «Русское Слово» 1831, октябрь, Стоячая вода, стр. 16.]». Вот и все, что мы находим по части эстетического объяснения таланта Писемского в статье Писарева, носящей название «Стоячая вода». Все прочее в ней – сплошная публицистика, с постоянными взрывами злого смеха над современными житейскими нравами. Писарев возмущается тем обществом, которое не выносит ничего яркого – ни ярких пороков, ни проявлений сильной страсти, ни живых движений мысли. Горячее слово, сказанное в защиту женской личности, может упрочить за вами, в глазах этого общества, репутацию развратного и опасного человека. Ни одна идея не доступна ему в полном своем объеме. Все истинно широкое и прекрасное встречает его тупое недоверие и наглую насмешку. Пресмыкаясь в ничтожестве, общество это живет по правилам своего узкого, мещанского кодекса, удовлетворяясь мелким либерализмом, эмансипирующим личность до известных пределов, мелким скептицизмом, допускающим критику ума только в известных границах. Излагая различные перипетии рассказа, Писарев повсюду выдвигает на первый план мысль, что женщина должна быть совершенно свободна в своей любви и привязанностях, и с пафосом молодого демагога накидывается на лицемерную житейскую мораль, которая угрожает ей позором за малейшее уклонение от бездушных правил устарелого семейного устава. Он не видит в русской жизни ничего достойного пощады в этом отношении. Надо сжечь все корабли, чтобы не было возврата к прошедшему, восклицает Писарев. Надо идти смелее вперед, шагая через развалины «прежних симпатий, верований, воздушных замков». Надо идти вперед без оглядки, без сожаления, не унося с собою «никаких пенатов и реликвий, не раздваивая своего нравственного существа между воспоминаниями и стремлениями[25 - Стоячая вода, стр. 17.]». Герои Писемского возбуждают в Писареве негодование своим безволием и неумением выйти из под гнета патриархального строя. В них нет настоящего прогрессивного духа, того протестующего эгоизма, который ведет к полному освобождению личности.
В ноябрьской книге «Русского Слова» мы находим другую огромную статью Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров», разрешающую по своему, в самом начале, несколько чрезвычайно важных теоретических вопросов и затем представляющую анализ художественных произведений трех названных писателей. Особенно подробно Писарев останавливается на Гончарове, которому дает совершенно новую, по сравнению со статьею в «Рассвете», характеристику, противоречащую всем его прежним эстетическим убеждениям, фальшивую по содержанию и мелкую по своей крикливой придирчивости к некоторым чертам этого замечательного художественного таланта. Но еще не занявшись настоящим предметом статьи, Писарев для эффектного начала бросает грубое осуждение людям с выдающимся поэтическим талантом, на том единственном основании, что в их произведениях он не видит прямого ответа на требования современной эпохи. По его мнению, молодое поколение, которое должно считаться высшею инстанциею при разрешении серьезных литературных вопросов, имеет право остановиться в полном недоумении перед деятельностью таких писателей, как Фет, Полонский, Мей. Они ничего не внесли в сознание русского общества. Ни одним своим произведением они не шевелили протестантского чувства своих читателей. Прогрессивная молодежь, прикинув к их сочинениям новое критическое мерило, в праве задать «этим господам» ряд очень важных вопросов, на которые она наверно не получит никакого ответа. «Сказали-ли вы теплое слово за идею? может спросить их молодое поколение. Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблуждение? Стояли-ли вы сами хоть в каком-нибудь отношении выше воззрений вашего времени»[26 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 2.]. На все эти вопросы такие версификаторы, как Мей, Фет, Полонский, подобно Щербине и Грекову, не в праве откликнуться ни единым положительным словом. Шлифуя русский стих, они только усыпляли общество своими «тихими мелодиями» и воспевали на тысячу ладов «мелкие оттенки мелких чувств». Их стихотворения не оставляют в памяти почти никаких следов, содержание их улетучивается с такою же быстротой, как забывается докуренная сигара. Интересоваться их деятельностью нет почти никакого смысла, потому что чтение их поэтических писании «действительно хорошо только в гигиеническом отношении, после обеда», а самые стихи полезны в очень ограниченном смысле слова – для верстки листов, «для пополнения белых полос, т. е. страниц между серьезными статьями и художественными произведениями, помещающимися в журналах»[27 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 5.]. «Попробуйте, милостивый государь, обращается Писарев с коварным подмигиванием к читателю, переложить два, три хорошеньких стихотворения Фета, Полонского, Щербины или Бенедиктова в прозу и прочтите их таким образом. Тогда всплывут наверх, подобно деревянному маслу, два драгоценные свойства этих стихотворений: во-первых, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторых – колоссальная напыщенность формы»[28 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 5.]. При внимательном изучении, в них не оказывается совершенно того внутреннего содержания, которого нельзя заменить никакими «фантастическими арабесками». Авторы этих стихотворений не настолько развиты, чтобы стать в один уровень с требованиями века, и не настолько умны, чтобы силою собственного здравого смысла выхватить новые идеи из воздуха эпохи. «Они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с её бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного, узенького психического мира». Из всех современных лириков Писарев выделяет только Майкова и Некрасова. Некрасова он уважает «за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного», Майкова – «как умного и совершенно развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего определенное, трезвое миросозерцание». Но у Фета и Полонского нет ни мировоззрения, ни простого сочувствия людским страданиям. Три писателя, имена которых перейдут в потомство в неразрывном союзе, которые постоянно тяготели друг к другу и, несмотря на упорный свист журнальной критики, сумели твердо устоять на своих местах, не принося бессмысленных жертв никаким капризным богам, оказались почему-то не заслуживающими общего суда и приговора. Судьба, странным образом воплотившаяся в суждениях Писарева, нашла нужным пощадить одного только Майкова от публичного посрамления на глазах передовой толпы. Даже Фету Писарев отказывает в настоящем поэтическом таланте, хотя талант этот бьет в глаза и моментами играет удивительными красками. Двумя годами раньше Писарев, наверно не решился-бы поставить так низко писателя, который с редким искусством описал целый мир новых и свежих впечатлений, обнаружив при этом поразительную отзывчивость на самые нежные движения человеческой души. Но под конец 1861 года Писарев, обуреваемый стремлениями эпохи, с её гражданственною страстью, не нашедшею для себя настоящих теоретических оправданий, с её грубыми философскими предрассудками, широко распространявшимися в окружающей атмосфере, должен был пойти в разрез с своим собственным критическим чутьем в угоду новому шаблону. Перед его строгим трибуналом Фет оказался каким-то умственным ничтожеством, а Полонский поэтическим пигмеем, с которым легко разделаться несколькими пренебрежительными фразами – тот самый Полонский, которого Майков еще в 1855 году воспел в следующих звучных стихах, прекрасно передающих лучшие особенности его лирического таланта, полного огня и вдохновения:
Твой стих, росой и ароматом
Родной и небу и земле,
Блуждает странником косматым
Между миров, светя во мгле.
Люблю в его кудрях я длинных
И пыль от млечного пути,
И желтый лист дубрав пустынных,
Где отдыхал он в забытьи.
Стремится речь его свободно.
Как в звоне стали чистой, в ней
Закал я слышу благородной,
Души возвышенной твоей.
Но оценка русской лирической поэзии, сделанная Писаревым, прямо вытекает из его общих поэтических положений, выраженных с обычною смелостью, не знающею никаких границ, не останавливающееся даже перед явными логическими абсурдами. Упрощая смысл самого поэтического творчества до степени нехитрого проявления известной нервной впечатлительности, соединенной с «техническим» умением отливать готовую идею в определенную, виртуозную форму, Писарев не мог уже отнестись с сочувствием к тем произведениям, в которых нет открытой, бьющей в глаза, современной тенденции. Там, где поэтический образ органически неотделим от идеи, где внешняя форма, облекая творческую мысль художника во всех её подробностях, не может быть искусственно оторвана от неё, не может открыть своего глубокого внутреннего содержания иначе, как в широком критическом истолковании по эстетическим законам красоты, там Писарев уже не видит теперь ничего, кроме пустых слов и фантастических арабесок. Надо, чтобы мысль висела над произведением, как ярко размалеванная вывеска. Читатель, «платящий за произведение деньги», в праве требовать, чтобы художник точно определил, в выражениях, не порождающих никакого сомнения, свои симпатии и антипатии, потому что лирика, занятая только «любовными похождениями» и «нежными чувствованиями», не имеет права серьезно претендовать на видную роль в развитии общества. Кому какое дело, спрашивает Писарев, до того, что чувствует тот или другой поэт, при виде любимой им женщины? Кому охота вооружаться терпением и микроскопом, чтобы следить за мелкими движениями мелких душ Фета, Мея или Полонского…
Характеристика Гончарова, представленная в этой статье и дополненная через месяц в критическом очерке, под названием «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», дает прекрасный образчик тех заблуждений, в которые часто впадала мысль Писарева, несмотря на его природную чуткость к поэтическим и художественным красотам. Как мы уже говорили, Писарев разошелся в этой характеристике с своей собственной заметкой о Гончарове, написанной для «Рассвета». Горячая симпатия к таланту Гончарова, сказавшаяся тогда в немногих, но смелых рассуждениях, сменилась теперь какою-то странною враждою, упорным чувством неудовольствия всею его художественною манерою, лучшими сторонами его творческого процесса. На писательскую личность Гончарова брошен здесь другой свет, и все, что прежде вменялось ему в особую заслугу, теперь призвано к ответу перед обличительной критикой нового направления.
Бойко перебирая наиболее яркие стороны в произведениях Гончарова, Писарев не находит нигде ни одной черты, ни одного образа, которым мог бы подарить свое сочувствие. Все в них вдруг оказалось ничтожным, мелким, фальшивым. Еще недавно великий художник, сумевший разгадать, понять и отразить в совершенном образе одну из типических особенностей русского национального характера, писатель с огромным умом, никогда не уклоняющимся в сторону от настоящего искусства, с его полным, цельным и свободным творчеством, Гончаров в новой характеристике Писарева вышел каким-то жалким педантом без определенного взгляда на вещи, без художественного пафоса, без умения проникаться внутренними мотивами русской жизни. Своею опрометчивою резкостью эти страницы Писарева о Гончарове непосредственно примыкают к его статьям о Пушкине и вместе с ними, останутся навсегда неопровержимым доказательством полной логической несостоятельности его основных теоретических положений.
Писарев не может найти у Гончарова ни одной новой и свежей мысли. Его «микроскопический анализ» останавливается только на мелочах, не проникая глубоко в суть предмета. Великий мастер обрабатывать разные безделушки, он никогда не поднимается до созидания настоящих живых типов. «Гончаров, как художник, говорит Писарев, то же самое, что Срезневский, как ученый[29 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Русская литература, стр. 14.]». Он творит для процесса творчества, не заботясь о важности сюжета, не спрашивая себя о том, высекает-ли он своим резцом великолепную статую, или вытачивает ничтожное украшение для письменного стола. Ни одно из созданий Гончарова не вносит никакого света в окружающую жизнь, и потому «мы можем взглянуть на всю его деятельность, как на явление чрезвычайно оригинальное, но вместе с тем в высокой степени бесполезное». Даже «Обломов» показался теперь молодому критику ничтожной, клеветнической выдумкой на русскую действительность[30 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Русская литература, стр. 23.]. В этом романе действующие лица вращаются в безразличной атмосфере, ничем не обнаруживающей своего чисто русского колорита. Отделайтесь от обаяния великолепного языка, отбросьте аксессуары, мало относящиеся к делу, обратите внимание на те фигуры, в которых сосредоточивается мысль романа, и вы увидите, что во всем произведении нет ничего русского, нет ничего типичного. Даже Ольга, та самая Ольга, которую так недавно Писарев оценил с увлечением в своей студенческой рецензии, кажется ему теперь только красивою марионеткою…
Объективное творчество Гончарова, не обнаруживающее его личных взглядов, являющееся перед читателем в образах и картинах без всякого партийного клейма, произвело замешательство в критических суждениях Писарева. Огромная идея Обломова, обнимающая целую национальную психологию, но не дающая никаких конкретных указаний, пригодных для данной минуты, не могла не подвергнуться критическим нападкам с его стороны. Произведениями Тургенева можно было воспользоваться для целей журнальной агитации. Его художественное дарование, никогда не перестававшее следить за веяниями эпохи, постоянно давало материал для публицистических рассуждений на живые темы. Новые люди, выступавшие у Тургенева в ярком освещении, раздражавшем и поднимавшем нервы, не могли не сделаться предметом самых горячих дебатов в литературе и жизни. Но в эпическом творчестве Гончарова Писарев не нашел этой волнующей стихии живой современности, и потому он, открыто покаявшись в своих прошлых ошибках, в резко написанной характеристике развенчал и низверг того бога, которому недавно пропел почти восторженный гимн. И эта новая оценка выдающегося художника, наглядно показавшая воинствующий дух молодого писателя, произвела в свое время огромную сенсацию, хотя для понимающих людей не оставалось никакого сомнения в том, что в литературном отношении Писарев сделал очень грубый промах…
В последней статье этого года – «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» – Писарев опять выступает пламенным защитником полной женской эмансипации. С настоящим красноречием, он, не щадя обличительных красок, рисует всю ненормальность того положения, которое занимает женщина в современном обществе. Своею свежею наивностью многие страницы этой статьи производят впечатление увлекательных монологов, вырванных из превосходного художественного произведения. Писарев сам набрасывает ряд картин, в которых личная и семейная жизнь старого поколения расходится с идеальными формами бытовых и нравственных отношений, рисующимися его пылкому воображению. Привязывая свои рассуждения к случайным образам, взятым из романов Тургенева, Писемского и Гончарова, он совершенно не стесняется находящеюся перед его глазами художественною рамкою и дает свободный полет своей собственной фантазии. Он как бы вмешивается в события интересного романа или повести, и где его личное убеждение не сходится с настроением изображенных героев, обращается к ним с внушительными речами, выражающими горячее чувство протеста. Тирады, проникнутые рыцарскою готовностью биться до последней возможности за нрава русской женщины, чередуются со страницами, на которых преступление мужчин рисуется в ужасающих фразах. «Посмотрим, что мы даем нашим женщинам, восклицает Писарев. Посмотрим – и покраснеем от стыда! Порисоваться перед женщиною изяществом чувств, огорошить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смелостью честного порыва – это наше дело. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить – мы на попятный двор, мы начинаем делаться благоразумными, мы стараемся залить тот пожар, который сами раздули. Да, вот мы каковы»[31 - «Русское Слово» 1861, Декабрь, Женские типы, стр. 6.]. И среди таких рассуждений на эмансипационную тему Писарев вдруг, по старой памяти, бросает несколько замечаний, относящихся к делу и, вернее самых смелых монологов, выводящих его на широкую литературную дорогу. В рассматриваемой статье есть одна страница, на которой в немногих словах дается прекрасная характеристика Писемскому, характеристика уже намеченная, как мы видели, в предыдущем очерке. Сравнивая Тургенева с Писемским, Писарев говорит: «у Тургенева мы находим разнообразие женских характеров, у Писемского разнообразие положений. Тургенев входит своим тонким анализом во внутренний мир выводимых личностей, Писемский останавливается на ярком изображении самого действия. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы, романы Писемского плотнее и крепче построены». Тургенев иногда мудрит над жизнью, у Писемского букет нашей жизни, «как крепкий запах дегтя, конопляника и тулупа», поражает нервы читателя с огромною силою. Общая атмосфера нашего быта схвачена у Писемского полнее, чем у Тургенева. Он лепит прямо с натуры, и некрасивые, грубые, «кряжистые» создания его таланта передают русскую действительность без малейшей тенденции в ту или другую сторону[32 - «Русское Слово» 1861, Декабрь, Русская Литература, стр. 23.].
Несмотря на некоторое преувеличение, в этой параллельной характеристике фигура Писемского встает, как живая. В минуты, свободные от публицистических тревог, Писарев умел показывать себя настоящим критиком. Поэтические сравнения возникали у него с необычайною легкостью, и надо было с сектантским упорством постоянно загонять свои рассуждения на готовые рельсы, чтобы светлое дарование вдруг не изменило в нем убеждениям партийного бойца, презирающего всякие праздные забавы искусства…
IV
«Отцы и дети» появились в февральской книге «Русского Вестника» 1862 года, а в марте месяце Писарев уже печатает свой критический разбор этого романа. По силе таланта – это одна из лучших его статей. Произведение Тургенева глубоко захватило его, взволновало и очаровало. Не поддавшись никаким партийным соображениям, он с пылом и жаром оценил его художественные достоинства, его огромное литературное значение и, несмотря на враждебное настроение передовой печати, усмотревшей в романе лукавую мысль осмеять лучших героев современного общества, Писарев отнесся к Тургеневу с полным уважением за широкую и смелую постановку важного вопроса о новом поколении. Он не уличает Тургенева ни в каких ретроградных тенденциях, как это делал Антонович, и главный герой произведения, Базаров, очерченный художником с необычайною силою таланта, кажется ему не пародией на новых русских людей, а их лучшим и совершеннейшим оправданием, хотя между Базаровым в романе и Базаровыми в жизни есть, по мнению критика, существенная разница. Писарев согласен допустить, что Тургенев не сочувствует вполне ни «отцам», ни «детям», что его отрицание гораздо глубже и серьезнее «отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они – соль земли и чистейшее выражение полной человечности». Но, не угождая никому, Тургенев в главном, в самом существенном не погрешил против фактов действительной жизни, и Базаров, с его крупным умом, железною волею, со всеми привлекательными чертами его яркой индивидуальности, стоит перед нами, как живой человек, как героический характер, не изменивший себе с начала до конца романа ни единым поступком, ни единым словом. Взглянув на Базарова со стороны, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который вырабатывается опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству, удостоверил его силу, признал его перевес над окружающими людьми. «Этого слишком достаточно, говорит Писарев, для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий, могущий возникнуть, упрек в отсталости направления, этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени». Вся статья Писарева имеет одну только цель: объяснить Базарова как можно полнее, выставить его главные принципы в самом ярком освещении, показать его живую связь с новыми стремлениями русского общества. Шаг за шагом следит он за движением рассказа, и повсюду он видит блеск идеи, воплощенной в сильной, художественной фигуре. Какова эта идея? Что в ней нового по сравнению с старыми понятиями «отцов?» Какие новые пути она открывает молодым силам, не желающим идти старыми путями? Базаров – чистый эмпирик. Прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил в нем природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения. Опыт сделался для него единственным источником научного познания, личное ощущение – точкою опоры для всякого доказательства. Как эмпирик, Базаров «признает только то, что можно ощущать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств». Для Базарова не существует никаких идеалов и, кроме непосредственного влечения, он может руководиться в жизни только еще расчетом. «Ни над собою, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди – никакой высокой цели, в уме – никакого высокого помысла, и при всем этом – сила огромная»[33 - «Русское Слово» 1862, март, Базаров, стр. 6.]. Его можно назвать убежденным циником в самом широком смысле слова. Он циник по складу своего ума и по резкости своих внешних манер, и, несмотря на этот двойной цинизм, приводящий постоянно в замешательство его знакомых, он обладает непонятною силою притягивать к себе людей. К нему тянутся все, в каждом обществе он быстро делается центром внимания, ум его производит возбуждающее действие на людей различных классов… Дав такую общую характеристику Базарову, Писарев приступает к подробному анализу важнейших событий романа. Отношение Базарова к Аркадию Кирсанову, к родителям, к представителям старого поколения, в особенности к Павлу Петровичу Кирсанову, отношение Базарова к народу, любовь к Одинцовой и, наконец, потрясающая по художественной силе картина смерти Базарова, – все это Писарев изучает и освещает до мельчайших подробностей. Он как бы живет мыслями и чувствами Базарова. В художественном образе Базарова он увидел черты своей собственной умственной и нравственной физиономии, отражение своих лучших симпатий и влечений. Некоторые фразы Базарова звучат в его ушах, как выражение его личной мысли. Непримиримое отрицание, с которым он относится к патриархальному строю русской жизни, могло бы показаться блестящим поэтическим комментарием к его собственным идеям, изложенным в некоторых его статьях. Писареву не кажется трудным объяснить самые мелкие проявления его натуры и, становясь на место Базарова, проникаться его духом, говорить его афоризмами, продолжать его деятельность в фантастических условиях грядущей эпохи. Между ним и Базаровым нет никакого разногласия, в их главных, принципиальных убеждениях, хотя он видит некоторые его грубые заблуждения в несущественных, второстепенных вопросах. Человек с изысканно аристократическими манерами, с привычками утонченного внешнего изящества, Писарев недоволен угловато-резкими приемами Базарова в обращении с людьми, приемами, которые, очевидно, должны уронить и опошлить его в глазах фешенебельных читателей. «Можно быть крайним материалистом, заявляет Писарев, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом». Еще не дойдя до явного и безусловного отрицания искусства, Писарев упрекает Базарова за опрометчивые суждения в эстетической области. Базаров «завирается». Он отрицает с плеча вещи, которых не знает. Поэзия, по мнению Базарова, ерунда, читать Пушкина – потерянное время, заниматься музыкою – смешно, наслаждаться природою – нелепо. Затертый трудовою жизнью, Базаров потерял или не успел развить в себе «способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумные основания отрицать или осмеивать эту способность в других»[34 - Базаров, стр. 23.]. Здесь Базаров не верен своим собственным убеждениям, и решительно отвергая всякое значение за эстетическими удовольствиями, он этим самым вдается в некоторый умственный деспотизм и, во всяком случае, уклоняется с пути чистого эмпиризма. «Последовательные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам употребление наркотических веществ, – отчего же, спрашивает Писарев, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок?»[35 - Базаров, стр. 25.]. Базаров с ненужною подозрительностью ищет проявлений романтизма там, где его никогда не было. Он хотел-бы предписывать человеку законы. Он хотел-бы запретить ему известные удовольствия – вопреки здравой и верной, теории личных ощущений, имеющих в его собственных глазах высший авторитет пред всеми другими, старыми критериями.
От Писарева не ускользнули некоторые тонкие, едва заметные черты, обнаруживающие смущенное состояние духа Базарова после любовной неудачи с Одинцовою. Ему понятно, что, несмотря на всю свою убежденность, Базаров в глубине души затаил стремления и чувства, выходящие из рамки нигилизма, Увлеченный до фанатизма известною мыслью, целою системою теоретических понятий, Базаров постоянно сковывал свою богатую природу в определенном направлении. Никогда он не пошел-бы в разрез не только с своими убеждениями, но и привычками, пока он мог твердо держаться на холодной высоте своих сознательных, рассудочных требований. Но вот случилось несчастье. Базаров умирает, и в минуту смерти он как-бы сбрасывает с себя всякие оковы и показывает свою натуру такою, какою никто не видел ее в обыкновенное время, в суматохе жизни, с её вечною борьбою желаний, предрассудков, с её никогда не умолкающим гулом препирательств из-за каждого пустяка, Перед смертью Базаров становится естественнее, человечнее, непринужденнее и, открывшись весь, возбуждает к себе такое сочувствие, какого никогда не вызывал в минуты полного здоровья, когда «он холодным рассудком контролировал каждое свое движение и постоянно ловил себя на романтических поползновениях»…
На последних страницах своей статьи Писарев следующим образом формулирует главную идею «Отцов и детей». Смысл романа, пишет он, такой: «Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум. Эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни[36 - Базаров, стр. 54.]»… Вот как понял Писарев замечательное произведение Тургенева. Сличая идеи Базарова с собственными мыслями и настроениями, он пришел к убеждению, что у Тургенева все намерения, вольные и невольные, склонились к тому, чтобы не только оправдать, но и возвеличить новое движение умов в русском обществе. Если откинуть некоторые ничтожные логические погрешности Базарова, то окажется, что он прав перед всеми окружающими его людьми, что определенные убеждения проникают все его существо, что в его характере нет ни малейшей трещины. Суждения Базарова об искусстве можно оставить в стороне, как совершенно ничтожный промах, нисколько не влияющий на все его другие понятия. Его внешняя неделикатность и даже чрезмерная резкость в обращении с людьми не имеет никакого серьезного значения и вовсе не вытекает из его общих понятий. Это все случайные черты в художественной фигуре, выхваченной непосредственно из жизни, но не во всем пользующейся сочувствием самого Тургенева. Базаров мог-бы быть и человеком с изящными манерами, а к искусству он мог-бы относиться с тем же снисходительным одобрением, с каким известные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, относятся к чарке водки, выпиваемой рабочим человеком в минуты отдохновения от тяжелого труда…
Но характер Базарова глубже и решительнее, чем это показалось Писареву. Базаров отрицает искусство, Пушкина, Рафаэля, как пустую и ничтожную романтику, не по ошибке, а по строгому и ясному для него убеждению. Его отрицание простирается на все, что поднимается выше обычного жизненного опыта с его нехитрою системою простых и постоянно повторяющихся ощущений. Шире Писарева понимает он высокую цель искусства и, не желая изменить своему эмпирическому взгляду на задачу человеческой жизни, он решительно и твердо отвергает его, как ненужную и даже вредную забаву. В этом отрицании высших проявлений человеческого духа Базаров обнаруживает честную прямоту своих непреклонных убеждений и, как мыслящий ум, бесконечно поднимается над жалкими уподоблениями Писарева, который не видит никакой разницы между «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов» и самыми глубокими поэтическими впечатлениями. Он не верит не только в искусство, но и в науку, хотя он готов признать, что порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. «Я уже доложил вам, говорит он, обращаясь к Павлу Петровичу Кирсанову, – что ни во что не верю. Что такое наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания, а науки вообще не существует вовсе». Он отрицает даже эстетическое наслаждение природою, потому что и она постигается вовсе не одними простыми ощущениями. Глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные лучами заходящего солнца, Аркадий Кирсанов спрашивает Базарова:
– И природа пустяки?
– И природа пустяки, отвечает Базаров, в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
В решительной схватке с Павлом Петровичем Кирсановым он смело отрекается от всякой солидарности с ним в чем-бы то ни было.
– Мы действуем, – говорит он ему, – в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.
Аким Львович Волынский
Библиографические заметки Писарева в журнале «Рассвет». – Эмансипация женщины. – Три статьи о Гончарове, Тургеневе и Толстом. – Эстетические, моральные и религиозные взгляды Писарева в этом периоде его литературной деятельности. – Первые шаги его в «Русском Слове». – Бесплодное обличение нравов. – Книжки для народа. – Идеи Платона пред судом Писарева. – Схоластика XIX века. – Торжество материализма. – Компилятивные статьи по естествознанию. – Характеристики Писемского, Тургенева, Гончарова. – Нападки на Фета и Полонского. – Базаров. – Ошибка Писарева в характеристике этого типа. – Падение и смерть Базарова. – Статья Н. Страхова об «Отцах и детях».
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
I
Свои первые литературные шаги Писарев сделал, как мы уже знаем, в журнале «Рассвет», предназначенном для взрослых девиц. Выпуская первую книгу этого нового издания, В. Кремпин изложил свою программу в отдельной заметке «От редакции», написанной витиеватым слогом, с некоторою наивностью юного ратоборца в совершенно новой для него области литературного служения обществу. Современная русская жизнь рисуется Креминну в чрезвычайно ярких красках. Исторический момент, в который ему пришлось выступить на поприще журналистики, кажется ему преисполненным великих задач, для разрешения которых уже имеются необходимые умственные и нравственные силы. Гений преобразования парит над русскою землею, с пафосом восклицает редактор «Рассвета». Плавным, неторопливым полетом он проникает в толпы народа, стряхнувшего с себя прежнюю умственную инерцию, закоснелую отсталость известных привычек и пристрастий. Носясь над огромным пространством России, он заглядывает повсюду. Шире растворил он двери высших учебных заведений, повсюду разбросал он многочисленные сети новых путей. Желая связать в одно духовное целое высшие и низшие классы, заглянул он и в крестьянскую избу. Наконец, на рассвете нового дня, добрый гений разбудил и спящую русскую женщину, указав ей на тот путь, по которому она должна идти, чтобы сделаться гражданкою и приготовить себя к высокому долгу – «быть воспитательницею нового, возрождающегося поколения». Кремпин считает своим долгом громко провозгласить, что главная цель «Рассвета» – возбудить сочувствие молодых читательниц к тому направлению, которое приняло русское общество в последнее время и которое слило в одно живое учение новейшие идеи и христианскую философию. Он не смеет думать, что журнал его будет иметь сильное влияние на женское образование, но он будет твердо проводить только известные мысли, не уклоняясь в сторону и не вдаваясь ни в какие посторонние для педагогического издания стремления и цели… Дав затем самую краткую характеристику важнейших отделов «Рассвета», Кремпин в заключение объявляет, в немногих строках, что в его журнале будет помещаться подробная библиография, предназначенная впрочем, не для девиц, а для родителей и наставников, чтобы, во-первых, сообщить им новые педагогические идеи о женском воспитании и, во-вторых, чтобы дать им возможность руководить чтением и развитием своих дочерей[1 - «Рассвет», журнал наук, искусств и литературы для девиц, 1859 г., стр. I–VI.]…
В этом библиографическом отделе «Рассвета» Писарев и начал свою журнальную деятельность. В ряде кратких, сжатых и метких рецензий он сразу обнаружил свой природный литературный талант, широко развернувшийся, однако, только впоследствии, на страницах «Русского Слова», вне узкой, стесняющей рамки журнала с чисто педагогическими целями и сокращенною программою издания, предназначенного для ограниченного круга читателей. Писарев быстро освоился с предоставленным ему делом. Откликаясь на прогрессивные запросы времени, он в груде литературных материалов, приходивших в редакцию, постоянно выбирает все то. что может дать повод с большею или меньшею полнотою обсудить увлекательный и важный вопрос о женской эмансипации. С чуткостью партийного бойца, он улавливает каждый прогрессивный намек, который под его красноречивым пером развертывается в ряд стремительных, смелых рассуждений, отличающихся удивительною прямотою. Повсюду в его рецензиях виден живой ум, не склонный к уступкам, редко загорающийся сектантским огнем, но нигде не теряющий власти над собою, ум решительный и упорный в каждом из своих отчетливых и ясных доказательств. Овладев существом предмета, Писарев в своих многочисленных библиографических заметках является убежденным поборником самого широкого взгляда на задачу женского воспитания и образования. В наше время, говорит он, большинство женщин, при самых благородных стремлениях, при самом теплом, искреннем желании принести пользу обществу, часто не имеет никаких средств благотворно воздействовать даже на свой домашний круг. Не получив основательного образования, они не могут воспитать своих детей сообразно с требованиями и духом времени. Все виды гражданской деятельности, наука, литература, искусство, при современных условиях жизни, почти недоступны женщине. Все воспитание женщины направлено к тому, чтобы поставить ее в полную, безответную зависимость от внешних обстоятельств. Но справедливо-ли такое положение вещей? Почему женщине не заняться наукою для науки? Почему ей не посвятить себя искусству, если она чувствует к нему внутреннее призвание? Излагая в одном месте взгляды Фенелона, Писарев высказывается за полное расширение гражданской и человеческой деятельности женщины. Для государственного и частного благосостояния необходимо совокупное, согласное действие обоих полов. Только правильное развитие мужчины и женщины может быть прочным залогом прогресса. Имея свои специальные обязанности, женщина должна, тем не менее, наравне с мужчиною получать прочное систематическое образование – в интересах самого общества, которому нельзя служить с пользою без настоящего просвещения. Но выступая борцом за женскую эмансипацию, Писарев не хочет однако замалчивать тех фактов, которые он считает порождением исторических обстоятельств. «Больно и грустно видеть, пишет он, что часто лучшие наши женщины не умеют мыслить, не проводят даже на словах ни одной идеи до конца, строят странные силлогизмы, увлекаются воображением и чувством и часто, совершенно не кстати, дают им перевес над логическими доводами ума[2 - «Рассвет», 1859, № 8. Библиография, стр. 61.]». Отсутствие гармонии между чувством и умом составляет печальный признак женского характера, как он сложился в условиях современного социального быта, носящего на себе печать прошлого деспотизма и варварства. Женщине, как и мужчине, с горячностью протестует Писарев, дана одинаковая сумма прирожденных способностей. Но воспитание женщины, не упражняя её критических способностей, с молодых лет усыпляет её мысль и доводит в ней чувство до болезненных, колоссальных размеров. Это воспитание надо переделать в принципе. Уравновесив в женщине ум и чувство, надо приучить ее к самостоятельному анализу сложных жизненных явлений, надо приучить ее «последовательно, без увлечения, но с искренним и глубоким чувством проводить в жизнь добытые убеждения». Вот в чем заключается настоящая эмансипация женщины. Внесите в женское воспитание науку во всем её строгом величии, и дело эмансипации двинется по верному пути. Дайте женщине убеждения, и она завоюет себе подобающее положение в обществе. Откройте ей доступ к умственному свету, и верная своим природным силам, впечатлительная к красоте, легкая и гибкая при самых тяжелых обстоятельствах, она внесет движение и живые страсти в стоячие воды семейного и общественного быта.
Среди этих убежденных рассуждений о женском вопросе, имеющих строго теоретический характер и изложенных с обычною простотою литературных выражений, местами в рецензиях Писарева мелькнет невольное замечание, выдающее юношескую грезу о личном счастье – безбурном, спокойном, ровном. Роман с Раисою был еще в полном разгаре. Не умея прятать свои настроения, он иногда, среди общих рассуждений на данную тему, открывает мечту своего сердца в простых и трогательных фразах, без прогрессивного задора, почти не заботясь о том, чтобы сгладить сентиментальные оттенки своего чувства. Самая идея женской эмансипации часто выступает у него в скромных словах без всякого звона и даже с оговорками, которые едва-ли отвечали радикальным запросам времени. Он не разрушает в корне старых представлений об этом предмете. Выступая под новым, прогрессивным знаменем, он хотел бы только восполнит пробел в современной ему системе женского воспитания, расширить самое понятие о женской личности и тем как бы наметить программу необходимых реформ в социальной жизни русского общества. Его смелая критика, воюя с предрассудками, не трогает некоторых святынь, с которыми неразрывно связаны высшие духовные интересы человека. Прокладывая новые пути в этом важном социальном вопросе, он нигде не доводит своего анализа до крайних пределов, нигде не обнаруживает настоящей революционной страсти, обращенной на самые основы семейной жизни. Самостоятельность женщины, говорит в одном месте Писарев, состоит в разумном употреблении тех способностей, которые вложила в нее природа, а не в пустом нарушении «безвредных условий общественности»[3 - «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 15.]. Эмансипация женщины, пишет он в другом месте, «состоит не в бесплодном ниспровержении общественных приличий, а в реформе женского воспитания»[4 - «Рассвет», 1859, № 11, Русские периодические издания, стр. 51-52.]. Жорж-Занд отнеслась к вопросу о самостоятельности женщины не так, как следовало. Она обратила преимущественное внимание на стеснительные законы света, ограничивающие круг её независимой и самостоятельной деятельности. Не имея власти над своими крайними идеями, она потребовала уничтожения этих неосмысленных законов и сама же первая их нарушила. В этой области вся агитационная работа Жорж-Занд не могла дать благих результатов. Она впала в роковую ошибку, потребовав независимости для женщины,– «тогда как следовало сначала требовать для женщины серьезного образования». Нападая на внешние стеснения, «основанные на внутренней слабости и неразвитости самой женщины», Писарев хотел бы, чтобы вопрос о женском воспитании и образовании был подвергнут спокойному и хладнокровному обсуждению. Не увлекаясь никакой теорией, надо понять истинное назначение женщины, чтобы незыблемыми доводами оградить её лучшие права подруги своего мужа, матери и воспитательницы своих детей. «Женщина, близкая к идеалу, развитая во всех отношениях, всегда будет и хорошею женою и примерною матерью», – с догматическою твердостью изрекает отважный, блестящий, но не глубокий Писарев. Муж имеет право, говорит он в одной рецензии, требовать от жены не только любви, но и дружбы, «а для дружбы необходимо взаимное уважение и одинаковое развитие». Муж должен найти в жене сочувствие. Имея высшие духовные потребности, он должен удовлетворять их в семейном кругу, при содействии развитой жены, «способной мыслить и усваивать себе отвлеченные идеи». От этой догмы, обоснованной по новому, но построенной в старом, ортодоксальном стиле, Писарев не уходит ни на шаг. Меняя подчас аргументы в борьбе за эмансипационную идею, он никогда не изменяет главному, как он его понимает, принципу женского воспитания. Старая догма остается неприкосновенною. При всем публицистическом размахе, рассуждения Писарева, парят не высоко над землею, не освещая глубин вопроса, не открывая никаких новых умственных горизонтов. Передовая тенденция, по плечу самому среднему читателю, нередко вспыхивает у него между двумя прозаическими по содержанию, но зажигательными по форме тирадами о женской самостоятельности – в простодушной, наивной мечте о каком то особенной! семейном строе, с интеллигентною, прогрессивною женою у кормила правления. Какие светлые перспективы! Какое широкое поприще открыто для передовой женщины! О муже не приходится говорить, – его дело ясно, его служение обществу, какие бы формы оно ни приняло, историческими силами выведено на верную дорогу. Все дело в ней. Как она устроится при новых понятиях, подучивших осуществление в прогрессивной системе воспитания? Чем наполнит она часы, свободные от прямых я самых важных для неё обязанностей? Писарев с юношеским увлечением набрасывает следующую картину, которая в свое время, конечно, подхватывала и уносила всякое живое, пылкое воображение. В прогрессивной семье женщина имеет свое определенное дело. Она занимается журнальными переводами, и при этом она вовсе не теряет своей материнской нежности. Сидя «над денежными работами», она ни на минуту не забывает о своем ребенке, и светлые мысли, одна увлекательнее другой, возбуждают в ней энергию в тяжелые минуты труда, нужды, физической или умственной усталости. Осмысленная деятельность развивает в ней силу ума, не уничтожая естественных чувств и побуждений, вложенных в нее природою…[5 - «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 14.].
В двенадцати книгах «Рассвета» 1859 года библиографический отдел, руководимый Писаревым, был одним из самых ярких и живых в журнале. Кремпин не мог найти для себя лучшего сотрудника, чем Писарев, в среде студенческой молодежи, которая постоянно, во все эпохи, высылала на журнальное поле своих бойких, смелых ратоборцев и застрельщиков передового движения. Добролюбов тоже начал свою литературную карьеру еще на скамье Педагогического института и начал с полным успехом, сразу возбудив своим острым, ядовитым пером журнальные страсти и сразу же сделавшись блестящею надеждою «Современника», товарищем и другом Чернышевского. Подобно Добролюбову, Писарев выступает с небольшими на первых порах рецензиями, написанными в сдержанном, но смелом тоне, закругленными, безупречно литературными периодами, отражающими светлое и ровное настроение. Не вдаваясь в настоящую критику, Писарев постоянно заботится о логической полноте проводимой им публицистической мысли и лишь моментами, уступая порывам прирожденного таланта и внутренней потребности писать изящными красками, он бросает на ходу отдельные, частные замечания, обличающие тонкий вкус незаурядного литератора и ценителя художественных произведений. Три рецензии Писарева об «Обломове», «Дворянском гнезде» и «Трех смертях», напечатанные в последних книгах «Рассвета», должны были обратить на себя всеобщее внимание – по своему тону, по меткости и сжатости отдельных художественных характеристик, по богатству литературных выражений для передачи чисто поэтических впечатлений. В этих заметках нельзя было не увидеть прямого критического дарования с эстетическим чутьем к красоте, с уменьем проникаться художественными идеями. Для молодого студента, который только еще испытывал свои литературные силы, эта блистательная проба пера над тремя замечательными произведениями русского искусства была настоящим триумфом. Мы уже знаем, что Гончаров отдал рецензии Писарева предпочтение перед многими другими статьями о его романе. В статейке о «Дворянском гнезде» попадаются психологические определения, рисующие оригинальные особенности Тургеневского художественного письма выразительно, с полной рельефностью. С убеждением умного эстетика, легко и свободно разбирающегося в самых тонких, внутренних движениях художественной идеи, Писарев, под конец своей статьи, воздает Тургеневу справедливую хвалу за то, что он не держит в своем романе открыто перед всеми никакой внешней тенденции. «Чем менее художественное произведение, говорит он, сбивается на поучение, чем беспристрастнее художник выбирает фигуры и положения, которыми он намерен обставить свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достигнет ею желанного действия»[6 - «Рассвет» 1859. № 11, Русские книги, стр. 10.]. В романе нет ни тени дидактизма, а между тем встающая в нем картина русской жизни полна высокого поучительного смысла я отражает в себе целую эпоху. При этом на всем произведении лежит печать определенной национальности, переданной с настоящею глубиною художественного понимания, очищенной и осмысленной огромною силою поэтического таланта.
В разборе «Трех смертей» Писарев открывает типические особенности художественного творчества Толстого. Его определения психологических приемов молодого писателя кратки и полны содержания. Еще не имея перед собою настоящего Толстого, во всей громадности его беллетристического таланта и сложных внутренних страстей, выведших его на путь морального и религиозного проповедничества, Писарев, тем не менее, с прозорливостью тонкого критика, улавливает главные признаки этого исключительного, титанического дарования. На немногих страницах образ молодого Толстого встает в правдивых и смелых чертах, с ярким выражением поэтической вдохновенности. Поэтические достоинства «Трех смертей», глубокий философский смысл этого произведения, его скрытый пафос, который дает себя чувствовать за эпически спокойными чертами простого рассказа – все это отмечено с полным знанием дела, в ярких фразах, чуждых всякой искусственности. Пересказывая важнейшие части этого произведения, Писарев делает по пути некоторые замечания, бросающие критический свет на его внутренний смысл. Как-бы сравнивая мысленно Гончарова, Тургенева и Толстого, рецензент с особенною силою подчеркивает характерные свойства разбираемого им писателя. Никто, говорит Писарев, не простирает далее Толстого своего анализа. Никто так глубоко не заглядывает в душу человека. У какого автора мы найдем такую упорную, неумолимую последовательность в разборе самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, по-видимому, случайных движений души? Читая произведения Толстого, мы видим, как развивается и формируется в уме человека известная мысль, через какие видоизменения она проходит, как накипает в груди определенное чувство, как вдруг просыпается и разыгрывается воображение и как, в самом разгаре мечтаний, грубая жизненная действительность разбивает самые пылкие надежды. Таинственные, неясные влечения передаются у него в словах, не рассеивающих фантастического тумана. Некоторые картины возникают у него как-бы внезапно, от единого взмаха пера. Природа и человек живут у него одною жизнью, выступающею в линиях и контурах, доступных осязанию. Желая дать своим читателям непосредственное представление о таланте Толстого, Писарев делает несколько выписок из его рассказа, которые должны говорить сами за себя. Этим способом он наглядно показывает настоящие достоинства этого художественного произведения, достоинства, которые заключаются «не во внешнем плане, не в нити сюжета, а в способе его обработки, в группировании подмеченных частностей, дающих целому жизнь и определенную физиономию»[7 - «Рассвет» 1859. № 12. Русские периодические издания, стр. 74.].
Вот с какими критическими взглядами подходил к литературным произведениям Писарев в 1859 году, на страницах «Рассвета», можно сказать, накануне жаркой, но бесплодной битвы с Пушкиным. В этих эстетических и по содержанию и по тону рассуждениях еще нельзя открыть будущего Писарева, стремительного диалектика с блестящими, но фальшивыми парадоксами, с разрушительным задором против всякого искусства, с мятежными страстями, направленными в ложную сторону поддельною и жалкою философиею бурной эпохи журнальных препирательств. Он оценивает художественные произведения, прислушиваясь к своему природному эстетическому чутью или следуя внушениям своего неглубокого, но ясного смысла. Не воспитав своего ума ни в какой философской школе, он не делает никаких серьезных обобщений, не роняет ни единой мысли из более или менее цельной системы понятий, руководящих его критическими суждениями. В отрывочных фразах, никогда не поражающих ни парадоксальностью, ни глубиною теоретического анализа, можно проследить наиболее известные, наиболее популярные истины, составляющие азбуку всякого критического мышления, но ни в одной из ранних заметок Писарева мы не найдем и слабого отблеска устойчивой доктрины, владеющей всеми его настроениями и убеждениями. Его отдельные взгляды отличаются логическою простотою, не требующей серьезной критики, но и эти взгляды, без сомнения, могли бы блестяще развернуться с течением времени, если бы Писарев так быстро не изменил своему природному таланту, если бы он не отравил своего ума эстетическим учением, не заключающим в себе никакой глубокой мысли, хотя и выраженным с необычайными претензиями на полную философскую непогрешимость. Молодой Писарев стоял на верном пути, когда изготовлял свои небольшие, но всегда талантливые рецензии для журнала Кремшина. Собираясь давать постоянные отчеты о прочитанных им произведениях, он прямо заявляет, к чему будут по преимуществу тяготеть его симпатии. «Литературные произведения, повести, романы, говорит он, в которых светлая, живая мысль представлена в живых образах, займут бесспорно первое место в нашем обзоре. На это есть причина. Прекрасная мысль, представленная в художественном рассказе, проведенная в жизнь, сильнее, глубже подействует на молодую душу, оставит более благотворные и прочные следы, нежели отвлеченное рассуждение»[8 - «Рассвет» 1859. № 1. Библиография, стр. 2.]. Его задача, как литературного критика, должна заключаться в том, чтобы уловить идею художественного произведения и затем, оценив её верность, проследить, каким образом «она вложилась в образы», соответствующие её содержанию. От каждой повести он считает себя в праве требовать верности характеров, живости действия и, при более или менее серьезном замысле писателя, художественной комбинаций событий, проводящих определенную мысль без всякой натяжки и тенденциозного усилия. «Повесть, по нашим современным понятиям, решительно заявляет Писарев, – должна быть не нравоучением в лицах, а живым рассказом, взятым из жизни». Рука автора должна быть для нас совершенно незаметна.
О самом эстетическом наслаждении художественным произведением Писарев выражается постоянно с пылким сочувствием. Человеку свойственно стремление к прекрасному, пишет он в одной рецензии, и настоящее эстетическое образование должно приучать его любить и понимать красоту. Говоря о русской лирической поэзии, этот будущий враг искусства в его лучших образцах не находит никаких слов для определения наиболее сильных её сторон. «Никакая характеристика, заявляет он, не может дать полного понятия о поэзии Пушкина или юморе Гоголя, не может заменить того эстетического наслаждения, которое доставляет чтение их произведений»[9 - «Рассвет» 1859. № 1. Русские книги, стр. 13.]…
Между этими отрывочными, но несомненно эстетическими суждениями в рецензиях «Рассвета» рассеяно множество замечаний, выражающих симпатию Писарева к нравственным и религиозным идеям. Нежными словами отмечает он «теплую веру» и глубокое чувство «истинного христианина» в связи с несколькими замечаниями о «великом, священном событии нашего искупления[10 - «Рассвет» 1859. № 1. Русские книги, стр. 3.]». В разных местах говорится с полным убеждением о святости долга, о том, что каждый человек сам управляет своею судьбою, что истинное развитие ведет человека к нравственному совершенству, научая его находить счастье «в самом процессе самосовершенствования[11 - «Рассвет», 1858, № 11. Русские книги, стр. 35.]». Надо отыскивать истину ради истины, ибо только этим способом человек развивает свои умственные силы, делается нравственнее и чище, говорит с увлечением Писарев. «Безкорыстный труд, пишет он, приносит с собою самую прекрасную награду: он дает человеку тихое внутреннее удовлетворение, сознание исполненного долга, он вырабатывает в нем твердость убеждений и самостоятельный, бесстрастный и, в то же время, полный теплого сочувствия взгляд на людей и на жизнь». В наше время, прибавляет Писарев в другом месте, наука не ведет ни к отрицанию законов нравственности, ни к отрицанию истин религии. Ратуя за лучшее воспитание молодого женского поколения, Писарев бросает на страницы следующие красноречивые фразы: «Благотворное влияние природы на молодую душу может только тогда достигнуть полного своего развития, когда влияние это будет, по возможности, осмыслено, когда наставники поставят воспитанниц лицом к лицу с природою, когда они укажут им на её вечные красоты, когда научат их дорожить тем святым чувством радости и благоговения, которое возбуждают в нас простор, свет, чистый воздух, зелень, леса, поля, – словом, все то, что живет, в чем проявляется вечная премудрость Творца»…[12 - «Рассвет», 1859. № 8. Русские периодические издания, стр. 79.]
II
В декабрьской книге «Русского Слова» за 1860 год впервые появляется имя Писарева под двумя литературными произведениями. Он выступает в качестве переводчика поэмы Гейне «Атта Троль» и автора злой, но местами справедливой рецензии, написанной по поводу вышедшего в Москве «Сборника стихотворений иностранных поэтов» В. Костомарова и Ф. Берга. Стихотворный перевод Писарева не отличается никакими особенными достоинствами и, несмотря на полную верность подлиннику, совершенно не передает его великолепных, поэтических красок, озаренных удивительным сатирическим остроумием. Разбор небольшой московской книжки занимает несколько печатных страниц и, по сравнению с рецензиями «Рассвета», производит впечатление чересчур сурового литературного приговора, в котором собственно эстетическая идея играла второстепенную роль. Через полтора года по напечатании этой рецензии Писареву пришлось вернуться к переводам Костомарова и Берга, и тогда он в гневной статейке, напечатанной в мае месяце 1862 года, беспощадно раскритиковал новый сборник стихотворений под названием «Поэты всех времен и народов». Но, несмотря на быстрое развитие Писарева в известном направлении, обе эти рецензии образуют одно согласное целое без малейшего внутреннего противоречия между отдельными мыслями и суждениями. То, что в менее решительных фразах только намечено в рецензии 1860 г., то в критической заметке, появившейся через восемнадцать месяцев, выражено в самых энергических, смелых словах, без всякой оговорки, с явным презрением к каким бы то ни было чисто эстетическим или поэтическим красотам. В короткий промежуток времени, наполненный многочисленными литературными трудами самого разнообразного содержания, Писарев успешно овладевает настроением эпохи и, недавний моралист и эстетик, он вдруг выступает ярым фанатиком самой крайней реалистической философии. Его богатая, плавная речь, прежде сверкавшая в патетические минуты красивыми образами, охлажденная новыми понятиями, приобрела особенную резкость. Его полемическая насмешка, проникнутая непримиримою злобою, звучит обидно, дерзко, вызывая ответное раздражение. Наслаждение самим искусством, прежде имевшее такое большое значение в глазах Писарева, теперь уже признано вредною забавою, недостойною серьезного, мыслящего человека. Писарев быстро переродился в новой журнальной атмосфере, насыщенной эстетическими и философскими идеями Чернышевского, статьи которого в то время волновали весь литературный мир. Он сделался партизаном известного литературного движения и критика в его руках стала мало-по-малу превращаться в орудие публицистической агитации, совершенно не считающейся с самостоятельными задачами и целями художественного творчества. Его литературные суждения, выиграв в резкости тона, приняли направление, прямо враждебное тонкому, чуткому восприятию поэтических впечатлений. Уже в рецензии, написанной о «Сборнике стихотворений иностранных поэтов», слышится неудовольствие по поводу литературных произведений, в которых свободно развивается чисто-лирическое содержание, без малейшего оттенка гражданственной сатиры. В библиографической заметке о том же предмете в «Русском Слове» 1862 года это неудовольствие, как мы уже говорили, приобретает характер явного протеста с сатирическим издевательством над разными «цветистыми» определениями поэтического искусства. Писарев глумится не только над невинными переводчиками, но совершенно откровенно, не чувствуя комизма своих слов, бьет полемическою насмешкою даже Карлейля – критика с неподражаемым талантом и пламенным красноречием пророка. В. Костомаров приводит в предисловии, предшествующем переводу некоторых стихотворений английского поэта Бэрнса, отдельные определения и выражения из критической статьи о нем, написанной Карлейлем. По блеску ярких уподоблений, – это искры настоящей поэзии, какие постоянно вылетали из под огненного пера великого писателя. Карлейль оставил в английской литературе целый ряд бесподобных характеристик и между ними статья его о Бэрнсе занимает одно из самых видных мест. Он родился поэтом, пишет Карлейль, и поэзия была «небесным элементом его существа[13 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 45.]». На её крыльях он уносился в область чистейшего эфира, чтобы только не унизить себя и не осквернить свое чистейшее искусство. «Низко под его ногами лежали гордость и страсти света. Он одинаково смотрел вниз и на благородных, и на рабов, и на князей, и на нищих, – смотрел своим ясным взглядом, с братскою любовью, с сочувствием и с состраданием[14 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 46.]». Цитируя эти фразы из статьи Костомарова, Писарев ехидно смеется над их «цветистым» содержанием. Карлейль облек в поэтическую ризу самую простую мысль, которую можно было бы передать следующими прозаическими словами: «Роберт Бэрнс был честный человек, никого не обманывал и ни перед кем не подличал». В другом месте, делая параллельную характеристику Бэрнса и Байрона, Карлейль говорит: «Байрон и Бэрнс были оба миссионеры своего времени. Цель их миссии была одна и та же – научить людей чистейшей истине. Они должны были исполнить цель своего призвания – тяжко лежало на них это божественное повеление. Они изнывали в тяжелой болезненной борьбе, потому что не знали её точного смысла: они предугадывали его в каком-то таинственном предчувствии, но должны были умереть, не высказавши его ясно[15 - Поэты всех времен и народов, Москва, 1862, стр. 47.]». Эти вдохновенные фразы, отражающие целую историческую философию, не возбуждают в Писареве ничего, кроме желания отшутиться ироническим замечанием. Карлейль верит в какие-то исторические миссии! Он не только пишет красиво, но и думает красиво, так что «вы, при всех усилиях, не дороетесь ни до какой простой человеческой мысли!..»
Рецензия о «Сборнике стихотворений иностранных поэтов» была только первым дебютом Писарева в критическом отделе «Русского Слова». За нею последовали две небольших статьи, довольно близких по содержанию, об «Уличных типах» А. Голицынского и разных книжках для простого народа. Обе эти статьи написаны с литературным жаром. Писарев возмущается, в заметке о книге Голицынского, всяким бесплодным обличением нравов, если оно не проникнуто живою любовью к человеку, если оно не обнаруживает уменья разглядывать настоящую физиономию народа за его случайною, «историческою маскою». Необходимо, чтобы обличение не было клеветою на жизнь, говорит Писарев. Необходимо, чтобы оно было не «камнем, брошенным в грешника, а осторожным и бережным раскрытием раны, на которую мы не имеем права смотреть с ужасом и отвращением». Если писатель смеется над тем, что в каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, сострадания или ужаса, тогда мы в праве сказать, что такой смех – кощунство. «Это – гаерство, которому нужен канат и дурацкая шапка, чтобы развлекать публику, а не любовь и симпатия к народу». В статейке о народных книжках он выступает горячим поборником самого широкого народного образования и полного сближения интеллигенции с простою массою. Он хотел-бы, чтобы велась разумная поэтическая и педагогическая пропаганда в среде народа – такая пропаганда, которая без всякого грубого насилия освободила-бы простого русского человека от угнетающего его невежества. Мы можем возвратить себе доверие народа, говорит он с полным убеждением, «только тогда, когда станем к нему снисходительными братьями». При этом Писарев не возлагает никаких надежд на разные дешевые издания, за которые берутся обыкновенно люди без настоящего таланта. Грошовою книжкою, говорит он, нельзя вылечить народ от вековых предрассудков. Пересмотрев целый десяток брошюр, он пришел к твердому, но мало утешительному убеждению. Это – «топорные произведения промышленного пера», которые не могут принести никому никакой пользы. Но дело русской народности не стоит однако на одном месте: его двигают не грошовые издания, его выносят на своих плечах настоящие публицисты, ученые и художники, вырабатывающие и проводящие в общественное сознание новые понятия и новые идеалы[16 - «Русское Слово», 1861, март Русская Литература, стр. 111.]…
Две статьи: «Идеализм Платона» и «Схоластика XIX века» открывают перед нами в первый раз настоящего Писарева. В них он является перед читателем во всеоружии своего молодого диалектического таланта, с цельным и законченным мировоззрением, писателем, горячо симпатизирующим философским идеям Чернышевского, но не лишенным и своей собственной оригинальной черты. С этими статьями «Русское Слово» вышло на новую дорогу и, при видимом согласии с некоторыми либеральными журналами, заняло совершенно особое место среди других органов петербургской и московской печати. В резких фразах Писарев провозглашает свое вероучение. Не преклоняясь ни перед какими авторитетами, он уверенно и твердо ставит свои собственные теоремы рядом с философией Платона, неудовлетворяющею современного человека. Он проповедует индивидуализм и эгоизм, как решительное средство выйти на свежий воздух и сбросить с себя невыносимую тиранию «общего идеала». Его учение основано на неискоренимых требованиях живой человеческой личности. Прогрессивные стремления должны быть выражением индивидуальной воли, освобожденной от ненужных цепей какой-бы то ни было нравственной философии. С неустрашимою смелостью Писарев защищает свою мысль на сотню различных ладов. Не отступаясь ни перед какими теоретическими трудностями, он каждым новым своим доводом стремится придать своим словам рельефность и яркость настоящего литературного манифеста. С какой-то дикою силою он обрушивается на Платона и, даже не изучив серьезно его системы, имея о ней самое поверхностное, школьническое представление, по бесцветным компиляциям русских популяризаторов, он подвергает ее жестокому бичеванию за отсутствие логической простоты и убедительных научных доказательств. Легендою веков Сократ и Платон поставлены на высокий пьедестал перед всем человечеством. Их идеи считаются святынею, их философия служит предметом благоговейного изучения для множества ученых. Писарев не намерен развенчивать «почтенных стариков», но он не пойдет и по следам разных немецких критиков, которые не могут говорить об этих «генералах от философии» иначе, как с самыми низкими поклонами. «Доктринерство» Платона возмущает его душу. Именно Платон воспел в своих философских сочинениях болезненный разлад между материей и духом, между низшими и высшими потребностями человека, ту самую болезнь, которая, спустя много веков, породила «наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными способностями и с бесконечными стремлениями»[17 - «Русское Слово», 1861, апрель, Русская Литература, стр. 46.]. Платон говорит о какой-то абсолютной, для всех обязательной истине, об идеях, стоящих выше земной жизни, но «пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки, или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку»[18 - «Русское Слово», 1861, апрель, Русская Литература, стр. 48.]. Вся философия Платона не вытекла живою струею из его непосредственного чувства, не была вызвана условиями и обстановкою его жизни, а выработана путем одних только логических умозаключений. Он не был верен своему учению. Грек, гражданин свободного народа, «здоровый и красивый мужчина, к которому по первому призыву соберутся на роскошный пир друзья и гетеры», он старался доказать в своих сочинениях, что в этом мире все зло. Он говорил против очевидности. Воздвигая гонение на земное начало, он платил обильную дань не только наслаждениям, но и порокам своего времени. В этом мире все есть зло? А полная чаша вина при звуках нежной лиры? А ласка женщины? А звучный гекзаметр? А дружба, которая, но мнению греков, была выше и чище любви? Нет, Платон грубо ошибался в своих отвлеченных философских рассуждениях, выдавая «фантастические бредни» за вечную истину. Он брался за решение практических вопросов, даже не умея их поставить как следует, и его политические размышления «распадаются в прах от самого легкого прикосновения критики». Он вдавался в заблуждения, которых нельзя было-бы простить теперь «любому студенту»[19 - «Русское Слово», 1861, апрель, стр. 41, 58.].
Разделавшись с Платоном, Писарев печатает обширную статью, направленную против современной русской журналистики и критики. Первая половина этой статьи появилась в майской книге «Русского Слова», вторая – в сентябрьской. Но обе части связаны между собою единством основной мысли, при чем последние главы статьи имеют чисто полемический характер. Мы уже касались этих шумных страниц в наших прежних работах. Вмешавшись в борьбу Чернышевского с «Отечественными Записками», Писарев на практике показал, какие выводы можно получить, если приложить его теорию индивидуализма и эгоизма к живым фактам современной литературы. Статья Чернышевского об «Антропологическом принципе» показалась ему неразрушимою в своих научных доводах и, не говоря вслух об источнике, он в немногих рассуждениях набрасывает целое материалистическое учение в тех самых скандально-грубых чертах, в каких оно выражено было знаменитым публицистом «Современника». Возражения Юркевича, конечно, ничего не стоят в глазах Писарева. Материализм неопровержим, потому что за него простая, незамысловатая логика здравого смысла. В практической жизни мы все материалисты, все идем в разлад с нашими теориями. Самый крайний идеалист, садясь за письменный стол, сразу попадает в условия, имеющие очевидно материальный характер. Осмотревшись кругом, он ищет начатую работу, шарит по разным углам, и если тетрадь или книга не попадется на глаза, отправляется искать в другое место, хотя-бы сознание говорило ему, что он положил ее именно на письменный стол. Самое твердое убеждение разрушается при столкновении с очевидностью, потому что свидетельству наших чувств мы всегда придаем больше значения, нежели соображениям рассудка. «Проведите это начало, говорит Писарев, во все сферы мышления, начиная от низших до высших, и вы получите полнейший материализм: я знаю только то, что вижу или вообще в чем могу убедиться свидетельством моих чувств». Повторив в этих фразах знаменитые в своем роде аргументы Чернышевского, Писарев затевает легкий философский спор с Лавровым и затем, в последней половине статьи, горячо схватывается с сотрудниками «Отечественных Записок», которые усомнились в достоинствах и солидности «Полемических красот».
В первых главах «Схоластики XIX века» Писарев с большою подробностью вычерчивает те самые взгляды, которые развиты им в статье об «Идеализме Платона». Он решительно против всяких общих теорий, превращающих, по его мнению, живые факты в отвлеченные, безжизненные и бесцветные понятия. Орган постоянно прогрессирующего сознания, литература, а с нею и журнальная критика, не должны задаваться никакими однообразными принципами, которые мешают улавливать явления жизни в их настоящем колорите и пестроте природных красок. «Нас заели фразы, восклицает Писарев вслед за Катковым. Мы пустились в диалектику, воскресили схоластику и вращаемся в заколдованном кругу слов и отвлеченностей, которые мешают нам делать настоящее дело». Следуя за готовыми учениями, люди без оригинального таланта довели литературную критику до полного падения. они заставили ее тратить силы в бесплодных отвлеченных рассуждениях в то самое время, когда жизнь шумела за их окном. Надо откинуть всякую схоластику, и тогда возрождение станет возможным. Пусть литература, чуткая к потребностям дня и не раболепствующая ни перед какими общими теориями, займется фактами жизни, и тогда она откроется для целого потока свежих и новых впечатлений. Пусть наша критика рассматривает «отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником» – все это её настоящее дело. Чем меньше в ней будет отвлеченностей и общих взглядов, чем внимательнее она будет обсуживать «отдельные случаи вседневной жизни», тем она будет плодотворнее.
Эта точка зрения получила, наконец, в статьях Писарева перевес над прежними эстетическими взглядами. Индивидуализм, не имеющий другого принципа, кроме безусловной веры в личный порыв и личное впечатление, оригинальность мнения, заключающаяся в полной отрешенности от всякой общей умственной дисциплины, живое слияние с конкретною историческою жизнью, без малейшей попытки подвергнуть ее серьезной критике на основании высших, отвлеченных начал – вот те новые идеи, которые захватили и увлекли Писарева почти с самого начала его литературной деятельности на страницах «Русского Слова». Вооружившись против деспотической власти внешних жизненных обрядов и привычек, управляемых шаблоном, Писарев, заодно с пошлою рутиною социальных нравов, стал разрушать и неизменные законы общечеловеческой логики. Ненависть ко всему, что стесняет свободную личную работу извне, вдруг раздулась у него в слепую, страстную вражду против всякого общего принципа, против высших идей, направляющих нашу деятельность в известную сторону. Живое протестантское чувство перелилось у него через свои естественные границы. Дух свободного индивидуализма принял, под пером Писарева, поистине уродливую форму, совершенно заслонив высокую мысль о возможной нравственной и умственной солидарности между людьми. Увлеченный собственною диалектикою, Писарев как-бы забыл, что самое оригинальное учение, в своих последних выводах и конечных стремлениях, всегда сливается с общечеловеческими понятиями. Его оригинальность имеет вершину, на которой оно останавливает свой полет – подобно струе фонтана, которая, взлетев на известную высоту, срывается и всею своею светлою тяжестью падает вниз, в общий бассейн…
III
Убеждения Писарева определились во всех важнейших подробностях. Материалист в области философии и проповедник безграничной личной свободы в практической области, он будет отныне работать в двух направлениях, проводя в каждом из них свои излюбленные мысли. Статьи его, написанные вплоть до заключения в крепость, могут быть разделены по теме на две группы, хотя их внутренний смысл и тут и там один и тот же. Собственно критическая работа, как понимал ее Писарев во дни сотрудничества в «Рассвете», с глубокими требованиями художественности, отошла на задний план, уступив место публицистической агитации по поводу произведений искусства. Не занимаясь серьезно ни наукою, ни философиею, часто компилируя лишь по двум, трем сочинениям, Писарев умел, однако, придавать каждой своей статье законченный характер самостоятельного рассуждения. Он с уверенностью защищает чужие мысли, обставляет их множеством известных примеров и, непомерно растягивая изложение, захватывает в свои статьи как можно больше доказательств из самых разнообразных областей. Но давая легкую и бойкую популяризацию научных вопросов, Писарев при этом никогда не забывает своих агитационных целей. Подробное и всегда добросовестное изложение разных научных истин самого примитивного свойства он постоянно пересыпает публицистическими замечаниями, вносящими оживление и фосфорический блеск в сухую по содержанию журнальную работу. Над рассуждениями, следующими по стонам новейших европейских авторитетов, витает самостоятельная философская идея, выработанная совокупными силами двух радикальных петербургских редакций. Освещая жизнь с разных сторон, она не даст заблудиться писателю в дебрях схоластики. Пренебрегая разными иностранными книжками, Чернышевский сам, собственными силами, воздвиг обширное философское здание, а Писарев, его смелый соратник, с недюжинным литературным талантом, последовательно доведет его идеи до самых крайних положений, призвав на помощь ходячие афоризмы новейшего естествознания. Только что окончив статьи о Платоне и схоластике XIX века, Писарев печатает популярное изложение «Физиологических эскизов» Молешота и «Физиологических писем» Карла Фохта. К этим двум литературным работам он присоединяет в февральской книге «Русского Слова» 1862 года пространную популяризацию «Физиологических картин» Людвига Бюхнера, чтобы авторитетом этого известного в русском обществе имени подкрепить грубые парадоксы двух других немецких ученых. Не обладая никакими самостоятельными знаниями в этой сфере, Писарев передает физиологические рассуждения трех писателей с необычайною пунктуальностью, часто говоря их словами, пользуясь их образами и открывая свободный полет собственным мыслям только там, где кончается точное исследование и начинается мир широких философских выводов. Все факты научного наблюдения и опыта только подтверждают, в глазах Писарева, материалистическое учение Чернышевского. Строгое изучение человека, рассеяв бредни людей, одержимых «узколобым мистицизмом», привело к твердому убеждению, что в мире нет ничего таинственного, загадочного. В природе существует только материя с её физическими и химическими свойствами. «Надо полагать и надеяться, изрекает Писарев, что понятия психическая жизнь, психологическое явление будут со временем разложены на свои составные части. Их участь решена. Они пойдут туда же, куда пошел философский камень, жизненный эликсир, квадратура круга, чистое мышление и жизненная сила. Слова и иллюзии гибнут, – факты остаются». Что такое чувство? В нем нет ничего психического, неразложимого на определенные материальные факты. Следуя за Фохтом, Писарев дает свое собственное научное определение. «Чувство, говорит он, есть такое раздражение в мозговых нервах, которое мгновенно, по крайней мере, быстро и притом непроизвольно проходит через все нервы нашего тела и через эти нервы так или иначе действует на обращение крови»[20 - «Русское Слово» 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 14.]. Вот что такое чувство. Определив с удивительным успехом одно психическое явление, Писарев предлагает нам не менее блистательное объяснение и другого. Что такое мысль? «Мысль, говорит Писарев, есть такое раздражение мозговых нервов, которое распространяется в них медленно и не действует на нервы тела. Оно совершается в известном порядке, за которым мы сами можем проследить и для которого у нас есть даже готовое название – логическая последовательность»[21 - «Русское Слово» 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 15.]. Вот что такое мысль. Это – раздражение мозговых нервов, не действующее на нервы тела. Вся беда философов старой школы, по мнению Писарева, заключается в том, что они смотрели на вещи не телесными, а «умственными очами». Они задавались неосуществимыми задачами – открыть общие свойства естества, основные начала жизни, объяснить конечные цели природы и человека. На этом пути их могло ожидать только полное фиаско. Занимаясь подобною «дребеденью», они теряли способность обращаться как следует с микроскопом и с анатомическим ножом. Настоящий мыслитель только тот, кто видят вещи в их полной простоте, кто жизнь человеческую изучает не с высоты отвлеченных философских теорий, а с помощью анатомического ножа или химического и физиологического опыта. Мы похожи на ходячие печи, говорил Либих, – вот научный взгляд на человека. Измените пищу человека, и мало-помалу он изменится весь. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движение души могут быть приведены «в некоторую зависимость от неправильного или недостаточного питания». Мы рождены из материи и живем материею. «Черты нашего лица и мысли нашего мозга имеют такую же географию, как и растения»[22 - «Русское Слово», 1861, июль, Иностранная Литература, стр. 49.]. Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизменяются, кружатся и движутся без цели и без остановки, проходят через наше тело, порождая новые тела – вот наша жизнь, вот наша история. Вот открытие новейшей науки, не увлекающейся больше никакою дребеденью. Факты физиологического процесса, не объединенные никакою отвлеченною мыслью, не сложенные в определенную систему под руководством известной философской идеи – вот обширное поле для научного исследования. Откинув всякие бредни, естествознание не ставит себе никаких заманчивых, но вредных для науки целей. «Цель естественных наук – никак не формирование миросозерцания, а просто увеличение удобств жизни, расширение и расчищение того русла, в котором текут наши интересы, занятия, наслаждения»[23 - «Русское Слово», 1861, сентябрь, Иностранная Литература, стр. 4.]. Для естествоиспытателя, говорит Писарев, нет ничего хуже, как иметь миросозерцание…
Придя с помощью Молешота, Фохта и Бюхнера к этим превосходным выводам, Писарев обращается к прогрессивной части русской публики с несколькими юношески самодовольными словами. Он надеется, что эти новые идеи будут иметь благотворное влияние на молодое поколение, сбрасывающее с себя «оковы рутинного фразерства и подавляющего мистицизма». Легче дышать, когда вместо призраков видишь «осязательные явления». Веселее жить, когда знаешь, с какими силами приходится считаться, над какими фактами надо получить господство. «Я беру в руки топор и знаю, что могу этим топором срубить себе дом или отрубить себе руку. Я держу в руке бутылку и знаю, что налитое вино может доставить мне умеренное наслаждение, или довести меня до уродливых нелепостей». В каждой частице материи лежит и наслаждение и страдание. Все дело в том, чтобы пользоваться её свойствами так, как мы пользуемся топором и вином…
За статьями, излагающими разные популярные книги по естествознанию, последовал ряд критических очерков о Писемском, Тургеневе и Гончарове. С развернутым знаменем убежденного индивидуалиста Писарев кинулся в горячую битву с отживающими, консервативными элементами русской жизни. Разбирая произведения новейшей литературы, он уже не вдается более ни в какие эстетические оценки, но пользуется богатым художественным материалом для того, чтобы в резких выражениях заклеймить пошлую рутину житейских обычаев и взглядов. Не сосредоточиваясь на поэтической картине, созданной творческим талантом, он обсуживает самую жизнь, в её нестройном виде, с её действительными изъянами и пороками. Законы искусства его не интересуют. Отражение жизни в художественном зеркале, психологические и нравственные мотивы творческого процесса, великая тайна выражения идей в определенных поэтических формах – все то, на чем по преимуществу останавливается настоящая литературная критика, совершенно отодвинуто Писаревым в сторону. Он анализирует только взаимные отношения между мужем и женою, между родителями и детьми, и в этом анализе он видит свою прямую задачу. Самыми ядовитыми словами бичует он старые поколения за их ретроградные тенденции в вопросах личной морали. С холодною злостью предает он открытому поруганию бессильные, дряхлые понятия полуинтеллигентной черни – в целом потоке фраз, отличающихся удивительною яркостью. Агитатор, настоящий агитатор проснулся в Писареве, и никогда еще русская журналистика не оглашалась таким удалым призывом к полной нравственной и умственной эмансипации. Отбросив всякие условные стеснения, Писарев заговорил с читателем теми словами, которые должны быть понятны всем и каждому. Ненавидя полумеры, он потребовал коренной ломки тех условий жизни, в которых развиваются молодые поколения. Ничто не избегло его беспощадной критики. Отдаваясь прогрессивному течению времени, он, без ярких философских идей, с ограниченным запасом научных сведений, инстинктивно стал наносить меткие удары русскому патриархальному быту во всех его типических проявлениях. Его публицистические тирады, озаренные огнем, в статьях предназначенных дать критическое освещение важнейшим произведениям русской литературы, производят сильное и продолжительное впечатление, несмотря на то, что часто не только не облегчают, но даже затрудняют понимание того художественного явления, о котором идет речь. Мешая правильному критическому анализу, они, тем не менее, органически сливаются с другими его рассуждениями, образуя наиболее патетические места в его лучших статьях, написанных в этот период его литературной деятельности.
Такой характер имеют важнейшие очерки Писарева, напечатанные в «Русском Слове» 1861 и 1862 годов. Совершенно извратив свою критическую задачу, он наполнил их публицистическими размышлениями на самые передовые темы. Только иногда, давая передышку утомленным силам оратора, Писарев в немногих фразах старается показать типические свойства разбираемого писателя, и тогда перед нами, как молнии, вспыхивают смелые, яркие метафоры, говорящие о настоящем критическом таланте. Все внимание Писарева сосредоточено на публицистической теме, которую он разрабатывает с полным увлечением. Вопросы поэзии вдруг получили у него иную постановку, и до неожиданности новая эстетическая теория, представляющая однако прямой логический вывод из философских идей Чернышевского, стала с необычайною помпою развертываться в его критических статьях, угрожая разрушительными парадоксами и целым, небывалым еще в русской литературе, походом на искусство.
Рассмотрим по порядку эти критические очерки Писарева и отметим все то, что выдается в них по литературному таланту или блеску публицистического красноречия. В октябре месяце Писарев напечатал обширный разбор одного из лучших произведений Писемского «Тюфяк». О самом Писемском мы находим в этой статье только несколько отрывочных фраз, удачно передающих характерные особенности его огромного дарования. Это – неполное, мимолетное определение его художественной манеры, но, мелькая между многочисленными и слегка монотонными рассуждениями о любви и женской самостоятельности, счастливая характеристика писательской личности производит отрадное, богатое впечатление. Сопоставляя Писемского с Гончаровым, Писарев указывает на яркое различие этих двух художников. Между ними очень мало сходства. При всей своей объективности, Гончаров должен быть назван лириком но сравнению с Писемским. В произведении Писемского нет ни единой черты субъективного отношения автора к своим героям. Грязь жизни остается у него грязью, сырой факт – бьет в глаза. Он рисует не выдающихся людей, стоящих над уровнем массы, а дюжинных лицедеев русской жизни, задыхающихся в её смрадной атмосфере. Этим Писемский отличается между прочим и от Тургенева. Читая Тургенева, мы забываем ту почву, на которой выросли второстепенные лица его повестей и романов и следим с особенным вниманием за самостоятельным развитием его главных героев. У Писемского мы ни на минуту не можем забыть, где происходит действие. «Почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают, куда деваться, действующие лица, от которого порою и читателю становится тяжело на душе[24 - «Русское Слово» 1831, октябрь, Стоячая вода, стр. 16.]». Вот и все, что мы находим по части эстетического объяснения таланта Писемского в статье Писарева, носящей название «Стоячая вода». Все прочее в ней – сплошная публицистика, с постоянными взрывами злого смеха над современными житейскими нравами. Писарев возмущается тем обществом, которое не выносит ничего яркого – ни ярких пороков, ни проявлений сильной страсти, ни живых движений мысли. Горячее слово, сказанное в защиту женской личности, может упрочить за вами, в глазах этого общества, репутацию развратного и опасного человека. Ни одна идея не доступна ему в полном своем объеме. Все истинно широкое и прекрасное встречает его тупое недоверие и наглую насмешку. Пресмыкаясь в ничтожестве, общество это живет по правилам своего узкого, мещанского кодекса, удовлетворяясь мелким либерализмом, эмансипирующим личность до известных пределов, мелким скептицизмом, допускающим критику ума только в известных границах. Излагая различные перипетии рассказа, Писарев повсюду выдвигает на первый план мысль, что женщина должна быть совершенно свободна в своей любви и привязанностях, и с пафосом молодого демагога накидывается на лицемерную житейскую мораль, которая угрожает ей позором за малейшее уклонение от бездушных правил устарелого семейного устава. Он не видит в русской жизни ничего достойного пощады в этом отношении. Надо сжечь все корабли, чтобы не было возврата к прошедшему, восклицает Писарев. Надо идти смелее вперед, шагая через развалины «прежних симпатий, верований, воздушных замков». Надо идти вперед без оглядки, без сожаления, не унося с собою «никаких пенатов и реликвий, не раздваивая своего нравственного существа между воспоминаниями и стремлениями[25 - Стоячая вода, стр. 17.]». Герои Писемского возбуждают в Писареве негодование своим безволием и неумением выйти из под гнета патриархального строя. В них нет настоящего прогрессивного духа, того протестующего эгоизма, который ведет к полному освобождению личности.
В ноябрьской книге «Русского Слова» мы находим другую огромную статью Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров», разрешающую по своему, в самом начале, несколько чрезвычайно важных теоретических вопросов и затем представляющую анализ художественных произведений трех названных писателей. Особенно подробно Писарев останавливается на Гончарове, которому дает совершенно новую, по сравнению со статьею в «Рассвете», характеристику, противоречащую всем его прежним эстетическим убеждениям, фальшивую по содержанию и мелкую по своей крикливой придирчивости к некоторым чертам этого замечательного художественного таланта. Но еще не занявшись настоящим предметом статьи, Писарев для эффектного начала бросает грубое осуждение людям с выдающимся поэтическим талантом, на том единственном основании, что в их произведениях он не видит прямого ответа на требования современной эпохи. По его мнению, молодое поколение, которое должно считаться высшею инстанциею при разрешении серьезных литературных вопросов, имеет право остановиться в полном недоумении перед деятельностью таких писателей, как Фет, Полонский, Мей. Они ничего не внесли в сознание русского общества. Ни одним своим произведением они не шевелили протестантского чувства своих читателей. Прогрессивная молодежь, прикинув к их сочинениям новое критическое мерило, в праве задать «этим господам» ряд очень важных вопросов, на которые она наверно не получит никакого ответа. «Сказали-ли вы теплое слово за идею? может спросить их молодое поколение. Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблуждение? Стояли-ли вы сами хоть в каком-нибудь отношении выше воззрений вашего времени»[26 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 2.]. На все эти вопросы такие версификаторы, как Мей, Фет, Полонский, подобно Щербине и Грекову, не в праве откликнуться ни единым положительным словом. Шлифуя русский стих, они только усыпляли общество своими «тихими мелодиями» и воспевали на тысячу ладов «мелкие оттенки мелких чувств». Их стихотворения не оставляют в памяти почти никаких следов, содержание их улетучивается с такою же быстротой, как забывается докуренная сигара. Интересоваться их деятельностью нет почти никакого смысла, потому что чтение их поэтических писании «действительно хорошо только в гигиеническом отношении, после обеда», а самые стихи полезны в очень ограниченном смысле слова – для верстки листов, «для пополнения белых полос, т. е. страниц между серьезными статьями и художественными произведениями, помещающимися в журналах»[27 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 5.]. «Попробуйте, милостивый государь, обращается Писарев с коварным подмигиванием к читателю, переложить два, три хорошеньких стихотворения Фета, Полонского, Щербины или Бенедиктова в прозу и прочтите их таким образом. Тогда всплывут наверх, подобно деревянному маслу, два драгоценные свойства этих стихотворений: во-первых, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторых – колоссальная напыщенность формы»[28 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Писемский, Тургенев и Гончаров, стр. 5.]. При внимательном изучении, в них не оказывается совершенно того внутреннего содержания, которого нельзя заменить никакими «фантастическими арабесками». Авторы этих стихотворений не настолько развиты, чтобы стать в один уровень с требованиями века, и не настолько умны, чтобы силою собственного здравого смысла выхватить новые идеи из воздуха эпохи. «Они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с её бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного, узенького психического мира». Из всех современных лириков Писарев выделяет только Майкова и Некрасова. Некрасова он уважает «за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного», Майкова – «как умного и совершенно развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего определенное, трезвое миросозерцание». Но у Фета и Полонского нет ни мировоззрения, ни простого сочувствия людским страданиям. Три писателя, имена которых перейдут в потомство в неразрывном союзе, которые постоянно тяготели друг к другу и, несмотря на упорный свист журнальной критики, сумели твердо устоять на своих местах, не принося бессмысленных жертв никаким капризным богам, оказались почему-то не заслуживающими общего суда и приговора. Судьба, странным образом воплотившаяся в суждениях Писарева, нашла нужным пощадить одного только Майкова от публичного посрамления на глазах передовой толпы. Даже Фету Писарев отказывает в настоящем поэтическом таланте, хотя талант этот бьет в глаза и моментами играет удивительными красками. Двумя годами раньше Писарев, наверно не решился-бы поставить так низко писателя, который с редким искусством описал целый мир новых и свежих впечатлений, обнаружив при этом поразительную отзывчивость на самые нежные движения человеческой души. Но под конец 1861 года Писарев, обуреваемый стремлениями эпохи, с её гражданственною страстью, не нашедшею для себя настоящих теоретических оправданий, с её грубыми философскими предрассудками, широко распространявшимися в окружающей атмосфере, должен был пойти в разрез с своим собственным критическим чутьем в угоду новому шаблону. Перед его строгим трибуналом Фет оказался каким-то умственным ничтожеством, а Полонский поэтическим пигмеем, с которым легко разделаться несколькими пренебрежительными фразами – тот самый Полонский, которого Майков еще в 1855 году воспел в следующих звучных стихах, прекрасно передающих лучшие особенности его лирического таланта, полного огня и вдохновения:
Твой стих, росой и ароматом
Родной и небу и земле,
Блуждает странником косматым
Между миров, светя во мгле.
Люблю в его кудрях я длинных
И пыль от млечного пути,
И желтый лист дубрав пустынных,
Где отдыхал он в забытьи.
Стремится речь его свободно.
Как в звоне стали чистой, в ней
Закал я слышу благородной,
Души возвышенной твоей.
Но оценка русской лирической поэзии, сделанная Писаревым, прямо вытекает из его общих поэтических положений, выраженных с обычною смелостью, не знающею никаких границ, не останавливающееся даже перед явными логическими абсурдами. Упрощая смысл самого поэтического творчества до степени нехитрого проявления известной нервной впечатлительности, соединенной с «техническим» умением отливать готовую идею в определенную, виртуозную форму, Писарев не мог уже отнестись с сочувствием к тем произведениям, в которых нет открытой, бьющей в глаза, современной тенденции. Там, где поэтический образ органически неотделим от идеи, где внешняя форма, облекая творческую мысль художника во всех её подробностях, не может быть искусственно оторвана от неё, не может открыть своего глубокого внутреннего содержания иначе, как в широком критическом истолковании по эстетическим законам красоты, там Писарев уже не видит теперь ничего, кроме пустых слов и фантастических арабесок. Надо, чтобы мысль висела над произведением, как ярко размалеванная вывеска. Читатель, «платящий за произведение деньги», в праве требовать, чтобы художник точно определил, в выражениях, не порождающих никакого сомнения, свои симпатии и антипатии, потому что лирика, занятая только «любовными похождениями» и «нежными чувствованиями», не имеет права серьезно претендовать на видную роль в развитии общества. Кому какое дело, спрашивает Писарев, до того, что чувствует тот или другой поэт, при виде любимой им женщины? Кому охота вооружаться терпением и микроскопом, чтобы следить за мелкими движениями мелких душ Фета, Мея или Полонского…
Характеристика Гончарова, представленная в этой статье и дополненная через месяц в критическом очерке, под названием «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», дает прекрасный образчик тех заблуждений, в которые часто впадала мысль Писарева, несмотря на его природную чуткость к поэтическим и художественным красотам. Как мы уже говорили, Писарев разошелся в этой характеристике с своей собственной заметкой о Гончарове, написанной для «Рассвета». Горячая симпатия к таланту Гончарова, сказавшаяся тогда в немногих, но смелых рассуждениях, сменилась теперь какою-то странною враждою, упорным чувством неудовольствия всею его художественною манерою, лучшими сторонами его творческого процесса. На писательскую личность Гончарова брошен здесь другой свет, и все, что прежде вменялось ему в особую заслугу, теперь призвано к ответу перед обличительной критикой нового направления.
Бойко перебирая наиболее яркие стороны в произведениях Гончарова, Писарев не находит нигде ни одной черты, ни одного образа, которым мог бы подарить свое сочувствие. Все в них вдруг оказалось ничтожным, мелким, фальшивым. Еще недавно великий художник, сумевший разгадать, понять и отразить в совершенном образе одну из типических особенностей русского национального характера, писатель с огромным умом, никогда не уклоняющимся в сторону от настоящего искусства, с его полным, цельным и свободным творчеством, Гончаров в новой характеристике Писарева вышел каким-то жалким педантом без определенного взгляда на вещи, без художественного пафоса, без умения проникаться внутренними мотивами русской жизни. Своею опрометчивою резкостью эти страницы Писарева о Гончарове непосредственно примыкают к его статьям о Пушкине и вместе с ними, останутся навсегда неопровержимым доказательством полной логической несостоятельности его основных теоретических положений.
Писарев не может найти у Гончарова ни одной новой и свежей мысли. Его «микроскопический анализ» останавливается только на мелочах, не проникая глубоко в суть предмета. Великий мастер обрабатывать разные безделушки, он никогда не поднимается до созидания настоящих живых типов. «Гончаров, как художник, говорит Писарев, то же самое, что Срезневский, как ученый[29 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Русская литература, стр. 14.]». Он творит для процесса творчества, не заботясь о важности сюжета, не спрашивая себя о том, высекает-ли он своим резцом великолепную статую, или вытачивает ничтожное украшение для письменного стола. Ни одно из созданий Гончарова не вносит никакого света в окружающую жизнь, и потому «мы можем взглянуть на всю его деятельность, как на явление чрезвычайно оригинальное, но вместе с тем в высокой степени бесполезное». Даже «Обломов» показался теперь молодому критику ничтожной, клеветнической выдумкой на русскую действительность[30 - «Русское Слово» 1861, ноябрь, Русская литература, стр. 23.]. В этом романе действующие лица вращаются в безразличной атмосфере, ничем не обнаруживающей своего чисто русского колорита. Отделайтесь от обаяния великолепного языка, отбросьте аксессуары, мало относящиеся к делу, обратите внимание на те фигуры, в которых сосредоточивается мысль романа, и вы увидите, что во всем произведении нет ничего русского, нет ничего типичного. Даже Ольга, та самая Ольга, которую так недавно Писарев оценил с увлечением в своей студенческой рецензии, кажется ему теперь только красивою марионеткою…
Объективное творчество Гончарова, не обнаруживающее его личных взглядов, являющееся перед читателем в образах и картинах без всякого партийного клейма, произвело замешательство в критических суждениях Писарева. Огромная идея Обломова, обнимающая целую национальную психологию, но не дающая никаких конкретных указаний, пригодных для данной минуты, не могла не подвергнуться критическим нападкам с его стороны. Произведениями Тургенева можно было воспользоваться для целей журнальной агитации. Его художественное дарование, никогда не перестававшее следить за веяниями эпохи, постоянно давало материал для публицистических рассуждений на живые темы. Новые люди, выступавшие у Тургенева в ярком освещении, раздражавшем и поднимавшем нервы, не могли не сделаться предметом самых горячих дебатов в литературе и жизни. Но в эпическом творчестве Гончарова Писарев не нашел этой волнующей стихии живой современности, и потому он, открыто покаявшись в своих прошлых ошибках, в резко написанной характеристике развенчал и низверг того бога, которому недавно пропел почти восторженный гимн. И эта новая оценка выдающегося художника, наглядно показавшая воинствующий дух молодого писателя, произвела в свое время огромную сенсацию, хотя для понимающих людей не оставалось никакого сомнения в том, что в литературном отношении Писарев сделал очень грубый промах…
В последней статье этого года – «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» – Писарев опять выступает пламенным защитником полной женской эмансипации. С настоящим красноречием, он, не щадя обличительных красок, рисует всю ненормальность того положения, которое занимает женщина в современном обществе. Своею свежею наивностью многие страницы этой статьи производят впечатление увлекательных монологов, вырванных из превосходного художественного произведения. Писарев сам набрасывает ряд картин, в которых личная и семейная жизнь старого поколения расходится с идеальными формами бытовых и нравственных отношений, рисующимися его пылкому воображению. Привязывая свои рассуждения к случайным образам, взятым из романов Тургенева, Писемского и Гончарова, он совершенно не стесняется находящеюся перед его глазами художественною рамкою и дает свободный полет своей собственной фантазии. Он как бы вмешивается в события интересного романа или повести, и где его личное убеждение не сходится с настроением изображенных героев, обращается к ним с внушительными речами, выражающими горячее чувство протеста. Тирады, проникнутые рыцарскою готовностью биться до последней возможности за нрава русской женщины, чередуются со страницами, на которых преступление мужчин рисуется в ужасающих фразах. «Посмотрим, что мы даем нашим женщинам, восклицает Писарев. Посмотрим – и покраснеем от стыда! Порисоваться перед женщиною изяществом чувств, огорошить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смелостью честного порыва – это наше дело. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить – мы на попятный двор, мы начинаем делаться благоразумными, мы стараемся залить тот пожар, который сами раздули. Да, вот мы каковы»[31 - «Русское Слово» 1861, Декабрь, Женские типы, стр. 6.]. И среди таких рассуждений на эмансипационную тему Писарев вдруг, по старой памяти, бросает несколько замечаний, относящихся к делу и, вернее самых смелых монологов, выводящих его на широкую литературную дорогу. В рассматриваемой статье есть одна страница, на которой в немногих словах дается прекрасная характеристика Писемскому, характеристика уже намеченная, как мы видели, в предыдущем очерке. Сравнивая Тургенева с Писемским, Писарев говорит: «у Тургенева мы находим разнообразие женских характеров, у Писемского разнообразие положений. Тургенев входит своим тонким анализом во внутренний мир выводимых личностей, Писемский останавливается на ярком изображении самого действия. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы, романы Писемского плотнее и крепче построены». Тургенев иногда мудрит над жизнью, у Писемского букет нашей жизни, «как крепкий запах дегтя, конопляника и тулупа», поражает нервы читателя с огромною силою. Общая атмосфера нашего быта схвачена у Писемского полнее, чем у Тургенева. Он лепит прямо с натуры, и некрасивые, грубые, «кряжистые» создания его таланта передают русскую действительность без малейшей тенденции в ту или другую сторону[32 - «Русское Слово» 1861, Декабрь, Русская Литература, стр. 23.].
Несмотря на некоторое преувеличение, в этой параллельной характеристике фигура Писемского встает, как живая. В минуты, свободные от публицистических тревог, Писарев умел показывать себя настоящим критиком. Поэтические сравнения возникали у него с необычайною легкостью, и надо было с сектантским упорством постоянно загонять свои рассуждения на готовые рельсы, чтобы светлое дарование вдруг не изменило в нем убеждениям партийного бойца, презирающего всякие праздные забавы искусства…
IV
«Отцы и дети» появились в февральской книге «Русского Вестника» 1862 года, а в марте месяце Писарев уже печатает свой критический разбор этого романа. По силе таланта – это одна из лучших его статей. Произведение Тургенева глубоко захватило его, взволновало и очаровало. Не поддавшись никаким партийным соображениям, он с пылом и жаром оценил его художественные достоинства, его огромное литературное значение и, несмотря на враждебное настроение передовой печати, усмотревшей в романе лукавую мысль осмеять лучших героев современного общества, Писарев отнесся к Тургеневу с полным уважением за широкую и смелую постановку важного вопроса о новом поколении. Он не уличает Тургенева ни в каких ретроградных тенденциях, как это делал Антонович, и главный герой произведения, Базаров, очерченный художником с необычайною силою таланта, кажется ему не пародией на новых русских людей, а их лучшим и совершеннейшим оправданием, хотя между Базаровым в романе и Базаровыми в жизни есть, по мнению критика, существенная разница. Писарев согласен допустить, что Тургенев не сочувствует вполне ни «отцам», ни «детям», что его отрицание гораздо глубже и серьезнее «отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они – соль земли и чистейшее выражение полной человечности». Но, не угождая никому, Тургенев в главном, в самом существенном не погрешил против фактов действительной жизни, и Базаров, с его крупным умом, железною волею, со всеми привлекательными чертами его яркой индивидуальности, стоит перед нами, как живой человек, как героический характер, не изменивший себе с начала до конца романа ни единым поступком, ни единым словом. Взглянув на Базарова со стороны, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который вырабатывается опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству, удостоверил его силу, признал его перевес над окружающими людьми. «Этого слишком достаточно, говорит Писарев, для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий, могущий возникнуть, упрек в отсталости направления, этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени». Вся статья Писарева имеет одну только цель: объяснить Базарова как можно полнее, выставить его главные принципы в самом ярком освещении, показать его живую связь с новыми стремлениями русского общества. Шаг за шагом следит он за движением рассказа, и повсюду он видит блеск идеи, воплощенной в сильной, художественной фигуре. Какова эта идея? Что в ней нового по сравнению с старыми понятиями «отцов?» Какие новые пути она открывает молодым силам, не желающим идти старыми путями? Базаров – чистый эмпирик. Прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил в нем природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения. Опыт сделался для него единственным источником научного познания, личное ощущение – точкою опоры для всякого доказательства. Как эмпирик, Базаров «признает только то, что можно ощущать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств». Для Базарова не существует никаких идеалов и, кроме непосредственного влечения, он может руководиться в жизни только еще расчетом. «Ни над собою, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди – никакой высокой цели, в уме – никакого высокого помысла, и при всем этом – сила огромная»[33 - «Русское Слово» 1862, март, Базаров, стр. 6.]. Его можно назвать убежденным циником в самом широком смысле слова. Он циник по складу своего ума и по резкости своих внешних манер, и, несмотря на этот двойной цинизм, приводящий постоянно в замешательство его знакомых, он обладает непонятною силою притягивать к себе людей. К нему тянутся все, в каждом обществе он быстро делается центром внимания, ум его производит возбуждающее действие на людей различных классов… Дав такую общую характеристику Базарову, Писарев приступает к подробному анализу важнейших событий романа. Отношение Базарова к Аркадию Кирсанову, к родителям, к представителям старого поколения, в особенности к Павлу Петровичу Кирсанову, отношение Базарова к народу, любовь к Одинцовой и, наконец, потрясающая по художественной силе картина смерти Базарова, – все это Писарев изучает и освещает до мельчайших подробностей. Он как бы живет мыслями и чувствами Базарова. В художественном образе Базарова он увидел черты своей собственной умственной и нравственной физиономии, отражение своих лучших симпатий и влечений. Некоторые фразы Базарова звучат в его ушах, как выражение его личной мысли. Непримиримое отрицание, с которым он относится к патриархальному строю русской жизни, могло бы показаться блестящим поэтическим комментарием к его собственным идеям, изложенным в некоторых его статьях. Писареву не кажется трудным объяснить самые мелкие проявления его натуры и, становясь на место Базарова, проникаться его духом, говорить его афоризмами, продолжать его деятельность в фантастических условиях грядущей эпохи. Между ним и Базаровым нет никакого разногласия, в их главных, принципиальных убеждениях, хотя он видит некоторые его грубые заблуждения в несущественных, второстепенных вопросах. Человек с изысканно аристократическими манерами, с привычками утонченного внешнего изящества, Писарев недоволен угловато-резкими приемами Базарова в обращении с людьми, приемами, которые, очевидно, должны уронить и опошлить его в глазах фешенебельных читателей. «Можно быть крайним материалистом, заявляет Писарев, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом». Еще не дойдя до явного и безусловного отрицания искусства, Писарев упрекает Базарова за опрометчивые суждения в эстетической области. Базаров «завирается». Он отрицает с плеча вещи, которых не знает. Поэзия, по мнению Базарова, ерунда, читать Пушкина – потерянное время, заниматься музыкою – смешно, наслаждаться природою – нелепо. Затертый трудовою жизнью, Базаров потерял или не успел развить в себе «способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумные основания отрицать или осмеивать эту способность в других»[34 - Базаров, стр. 23.]. Здесь Базаров не верен своим собственным убеждениям, и решительно отвергая всякое значение за эстетическими удовольствиями, он этим самым вдается в некоторый умственный деспотизм и, во всяком случае, уклоняется с пути чистого эмпиризма. «Последовательные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам употребление наркотических веществ, – отчего же, спрашивает Писарев, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок?»[35 - Базаров, стр. 25.]. Базаров с ненужною подозрительностью ищет проявлений романтизма там, где его никогда не было. Он хотел-бы предписывать человеку законы. Он хотел-бы запретить ему известные удовольствия – вопреки здравой и верной, теории личных ощущений, имеющих в его собственных глазах высший авторитет пред всеми другими, старыми критериями.
От Писарева не ускользнули некоторые тонкие, едва заметные черты, обнаруживающие смущенное состояние духа Базарова после любовной неудачи с Одинцовою. Ему понятно, что, несмотря на всю свою убежденность, Базаров в глубине души затаил стремления и чувства, выходящие из рамки нигилизма, Увлеченный до фанатизма известною мыслью, целою системою теоретических понятий, Базаров постоянно сковывал свою богатую природу в определенном направлении. Никогда он не пошел-бы в разрез не только с своими убеждениями, но и привычками, пока он мог твердо держаться на холодной высоте своих сознательных, рассудочных требований. Но вот случилось несчастье. Базаров умирает, и в минуту смерти он как-бы сбрасывает с себя всякие оковы и показывает свою натуру такою, какою никто не видел ее в обыкновенное время, в суматохе жизни, с её вечною борьбою желаний, предрассудков, с её никогда не умолкающим гулом препирательств из-за каждого пустяка, Перед смертью Базаров становится естественнее, человечнее, непринужденнее и, открывшись весь, возбуждает к себе такое сочувствие, какого никогда не вызывал в минуты полного здоровья, когда «он холодным рассудком контролировал каждое свое движение и постоянно ловил себя на романтических поползновениях»…
На последних страницах своей статьи Писарев следующим образом формулирует главную идею «Отцов и детей». Смысл романа, пишет он, такой: «Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум. Эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни[36 - Базаров, стр. 54.]»… Вот как понял Писарев замечательное произведение Тургенева. Сличая идеи Базарова с собственными мыслями и настроениями, он пришел к убеждению, что у Тургенева все намерения, вольные и невольные, склонились к тому, чтобы не только оправдать, но и возвеличить новое движение умов в русском обществе. Если откинуть некоторые ничтожные логические погрешности Базарова, то окажется, что он прав перед всеми окружающими его людьми, что определенные убеждения проникают все его существо, что в его характере нет ни малейшей трещины. Суждения Базарова об искусстве можно оставить в стороне, как совершенно ничтожный промах, нисколько не влияющий на все его другие понятия. Его внешняя неделикатность и даже чрезмерная резкость в обращении с людьми не имеет никакого серьезного значения и вовсе не вытекает из его общих понятий. Это все случайные черты в художественной фигуре, выхваченной непосредственно из жизни, но не во всем пользующейся сочувствием самого Тургенева. Базаров мог-бы быть и человеком с изящными манерами, а к искусству он мог-бы относиться с тем же снисходительным одобрением, с каким известные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, относятся к чарке водки, выпиваемой рабочим человеком в минуты отдохновения от тяжелого труда…
Но характер Базарова глубже и решительнее, чем это показалось Писареву. Базаров отрицает искусство, Пушкина, Рафаэля, как пустую и ничтожную романтику, не по ошибке, а по строгому и ясному для него убеждению. Его отрицание простирается на все, что поднимается выше обычного жизненного опыта с его нехитрою системою простых и постоянно повторяющихся ощущений. Шире Писарева понимает он высокую цель искусства и, не желая изменить своему эмпирическому взгляду на задачу человеческой жизни, он решительно и твердо отвергает его, как ненужную и даже вредную забаву. В этом отрицании высших проявлений человеческого духа Базаров обнаруживает честную прямоту своих непреклонных убеждений и, как мыслящий ум, бесконечно поднимается над жалкими уподоблениями Писарева, который не видит никакой разницы между «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов» и самыми глубокими поэтическими впечатлениями. Он не верит не только в искусство, но и в науку, хотя он готов признать, что порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. «Я уже доложил вам, говорит он, обращаясь к Павлу Петровичу Кирсанову, – что ни во что не верю. Что такое наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания, а науки вообще не существует вовсе». Он отрицает даже эстетическое наслаждение природою, потому что и она постигается вовсе не одними простыми ощущениями. Глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные лучами заходящего солнца, Аркадий Кирсанов спрашивает Базарова:
– И природа пустяки?
– И природа пустяки, отвечает Базаров, в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
В решительной схватке с Павлом Петровичем Кирсановым он смело отрекается от всякой солидарности с ним в чем-бы то ни было.
– Мы действуем, – говорит он ему, – в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.