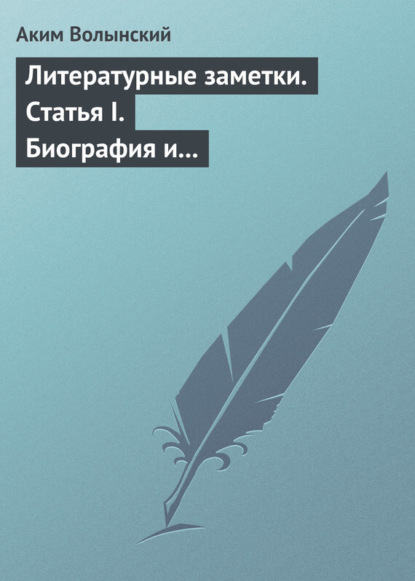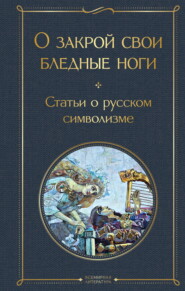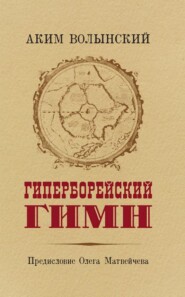По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литературные заметки. Статья I. Биография и общая характеристика Писарева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аким Львович Волынский
Детские годы. – Первая любовь. – Университетская жизнь, студенческий кружок, Трескин. – Движения в университете, женский вопрос, разбор «Обломова» в «Рассвете». – Первые статьи Писарева в «Русском Слове». – Психическое расстройство, окончание университета, – Заключение романа и скандал на вокзале Николаевской железной дороги. – Крепость. – Труды, письма, новый роман в письмах и новая неудача. – Освобождение. – Последняя любовь, ссора с Благосветловым, сотрудничество в «Отечественных Записках». – Смерть. – Заключение.
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья I. Биография и общая характеристика Писарева[1 - История новейшей русской литературы, А. М. Скабичевского, Спб. 1891 Главы шестая и седьмая. – Сочинения А. Скабичевского, Спб. 1890. Том I. Дмитрий Иванович Писарев, – «С.-Петербургские Ведомости», 1868. No№ 193, 194. Воспоминания о Дмитрие Ивановиче Писареве (1857-1861). П. Полевого. – Там-же № 197. Недельные очерки и картинки (Нечто о г. Благосветлове) Незнакомца (А. С. Суворина). – Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. Е. Соловьева, Спб. 1893. – Сочинения H. В. Шелгунова, том второй. Спб. 1891. Из прошлого и настоящего, главы XVIII и XIX. – «Дело», 1868 г. Август, С Невского берега (Похороны Д. И. Писарева). – «Отечественные Записки». 1868, Июль. Некролог. Д. И. Писарев. H. К. – «Русское Обозрение» 1893 г. Январь: Письма покойного Д. И. Писарева, писанные им к разным лицам из под ареста. Предисловие А. Д. Данилова. Письмо Д. И. Писарева к Р. А. Г. Письмо к девушке, никогда автором его не виденной. Февраль: Второе письмо Д. И. Писарева к той-же девушке. Март: Письмо к Г. Е. Благосветлову. Июнь: Письмо к Благосветлову. Август: Письмо к Благосветлову. – Октябрь Письмо к Благосветлову.]
I
Своеобразная, совершенно законченная фигура рисуется пред нами при изучении немногочисленных биографических документов, относящихся к жизни рано угасшего литературного таланта, начавшего свою умственную карьеру среди шума и грохота журнальной борьбы, в бурную эпоху шестидесятых годов. Это был человек, который своей внешностью и физическим темпераментом мало походил на страстных борцов, придававших определенный колорит современной ему журналистике. Обычное впечатление, производимое на публику его статьями, совершенно не совпадало с тем ощущением, которое он возбуждал при личных встречах. Казалось, что неумолимый разрушитель эстетики, с злым сарказмом и поразительным упорством издевавшийся даже над Пушкиным, беспощадный и прямолинейный враг всяких житейских кодексов, должен быть существом грубым, антиэстетическим, отрицающим на практике все, что могло казаться излишним с точки зрения убежденного реалиста того времени. Люди, не знавшие Писарева в лицо, руководимые ходячею легендою, должны были удивляться, увидев этого характерного представителя известного умственного движения. Он был совсем не таков, каким его ожидали встретить. Изящный, предупредительный, гладко причесанный и щеголевато одетый, охотно прибегающий в разговорах к французскому языку, сдержанный, хотя и самоуверенный в обращении, он мог служить образцом изысканно воспитанного молодого человека из состоятельной дворянской семьи. В общем его нельзя было назвать красивым. Только большой, открытый и чистый лоб и слегка выпуклые, темно-карие глаза под правильно очерченными бровями были красивы, отражали твердый, ясный и свободно стремительный ум. В остальных частях его лица было что-то дисгармоническое: длинный, слегка выдающийся подбородок, из под которого торчала вперед негустая белокурая борода, жидкие, высоко растущие усы, оставляющие открытым край длинной верхней губы, яркий, несколько вульгарный, кирпичного цвета румянец, как-бы застывший на щеках – все это производило не совсем приятное впечатление. Этому различию между верхней и нижней частью его лица отвечало явное несоответствие между его блестящим, смелым умом и медлительным, флегматичным темпераментом, который не давал ему сразу развернуться и обнаружить себя в одном патетическом моменте, в одной страстной, поэтической вспышке, который сообщал его диалектике плавный, напряженный, резкий, но холодный и несколько резонерский характер. Это был опасный спорщик – без увлечений в сторону, без скачков, без игры какими-бы то ни было психологическими эффектами, это был никогда не затрудняющийся, не ищущий слов оратор, всегда имеющий в запасе закругленные, безупречно литературные выражения, поражающий в живой речи тем-же, чем он изумлял всех, видевших его рукописи: способностью излагать свои мысли прямо набело, без единой поправки и перестановки, одинаково твердым и бестрепетным стилем и ровным, четким почерком. Эти характерные черты Писарева остались неизгладимыми в воспоминании людей, приходивших с ним в соприкосновение при жизни. Компетентный ценитель красноречия, блестящий, ядовитый оратор из корпорации петербургских адвокатов, друг и товарищ Писарева, В. И. Жуковский, передававший нам в личной беседе свои живые воспоминания о нем, не стертые потоком времени, с сочувственным удивлением говорил о необычайной плавности и стройности устной полемической диалектики Писарева: речь его лилась беспрепятственно свободно, неутомимо, одинаково сильно и светло в каждом периоде. Старый типограф В. Ф. Демаков, которому приходилось в молодости в качестве наборщика иметь дело с рукописями Писарева, с восторженным хохотом описывал нам великолепные достоинства этих чистых, каллиграфически безупречных оригиналов без единой помарки. Все, виденные им, бесчисленные, разнообразные писательские почерки слились в его воображении во что то расплывчатое, неприглядное, мучительно нестерпимое для глаз наборщиков, но почерк Писарева, эти чистые страницы с ровными строками и отчетливо выписанными буквами стоят в его воображении со всею свежестью утешительных отдохновений. Иногда, рассказывал нам типограф, Писареву приходилось докончить статью в типографии, и необычная, шумная обстановка нисколько не мешала ему излагать свои мысли с тою же легкостью, непринужденностью и отчетливостью. Таким-же невозмутимо аккуратным, слегка медлительным был он всегда, с молодых лет до последних дней своей короткой жизни. Даже во времена своего студенчества, в демократической обстановке товарищеского общежития, он не изменял ни в чем своим корректным привычкам благовоспитанного и склонного к внешнему изяществу юноши. К утреннему чаю он выходил последним. В то время, как товарищи бесцеремонно сходились у самовара, без всякого помышления о своих костюмах, Писарев, равнодушно внимая их призывам и понуканиям, сидел пред зеркалом, приводя в изысканнейший порядок свои изжелта-белокурые волосы, подчищая и подпиливая слегка отпущенные ногти.
– Дмитрий Иванович, чай остыл! – кричал кто-нибудь из товарищей. А Дмитрий Иванович тщательно снимал последние пылинки со своего модного, из толстого сукна, пиджака. В общую комнату он выходил не иначе, как в самом законченном и безукоризненном туалете.
В годы возмужалости он был по характеру таким же, каким был в детстве и юности: чистоплотный, деликатный, уступчивый – во всем, кроме рассуждений. При темпераменте, неспособном на сильные взрывы, можно сказать бескрылом, его развитие шло ровным, безмятежным, несколько медленным ходом. Он учился в детстве целыми часами без перерыва и даже на прогулках упражнялся с помощью матери в передаче своих впечатлений на французском языке. Неповоротливый и несклонный ни к каким физическим забавам, он находил удовольствие в чтении книг и в раскрашивании картинок в иллюстрированных изданиях. У него были слабые, несколько вялые нервы и всякое неудовольствие разражалось у него слезами. Детство до десяти лет он провел в деревне, сначала в селе Знаменском, Орловской губернии, потом в усадьбе Грунец, Тульской губернии, куда переселились его родители. В 1851 г. Писарев перевезен был в Петербург на попечение дяди, который определил его в 3-ю, классическую гимназию. В гимназии Писарев учился прилежно, обнаруживая заметные способности, тонкую память и ту особенную выправку, которая выдвигала его из толпы шумных, шаловливых товарищей. Безукоризненно и тщательно одетый, розовый, гладко причесанный и даже припомаженный, он производил впечатление, – рассказывает Скабичевский – переодетой девочки. Учебники его всегда содержались в самом исправном виде, а каждая его тетрадочка в красивой, радужной обертке, с пунцовым клякс-папиром на розовой ленточке, занимала свое определенное место в его столе и сумке. Сам Писарев вспоминает об этом времени в своей прекрасно написанной статье. «Наша университетская наука» с некоторым чуть-чуть напускным юмором. «Я принадлежал в гимназии к разряду овец, пишет он. Я не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно». Развитие его не принимало широкого размера и в своих литературных интересах он не шел тогда дальше романов Купера и Дюма. Он пробовал знакомиться с Маколеем, но чтение подвигалось туго и казалось ему подвигом, требующим сильного напряжения. На критические статьи в журналах он смотрел, как на какие то гиероглифические надписи, совершенно не доступные человеческому пониманию. Русских писателей он знал тогда только по именам. «Словом, заключает Писарев, я шел путем самого благовоспитанного юноши»… Так проходили детские годы Писарева, среди обычных, несколько бесцветных гимназических занятий и механического усвоения мертвенной гимназической мудрости. В Петербурге, в чопорной обстановке аристократического родственника, мальчик не мог развернуть тех умственных сил, которые крылись за его лимфатическим от природы темпераментом. Ничто поэтическое не вливалось ярким лучом в его прозаическую петербургскую жизнь. Ничто и в нем самом не обнаруживало никаких умственных брожений, которые впоследствии, преодолев препятствия темперамента, вырвались в его блестящих статьях, очертивших определенной, твердой линией умственный горизонт целой эпохи. Но его детское сердце было уже задето и тяготело к маленькому, изящному существу, с которым он мог видаться только в деревне своих родителей в дни вакационной свободы. Кузина Раиса, которую он любил с девятилетнего возраста, была привезена в его семью по смерти своей матери и должна была, до поступления мальчика в гимназию, воспитываться с ним вместе. Он обрадовался новому товарищу: его замкнутая, лишенная детских удовольствий жизнь стала более разнообразной и веселой. В этой «хрустальной коробочке», как прозвали Писарева с самого детства, что-то зашевелилось, засветилось, заиграло – взрослые легко могли наблюдать всякое, самое тонкое движение в душе чистого, правдивого и необычайно откровенного ребенка. Между ним и кузиной Раисой сразу вложились какие-то странные отношения, вытекавшие из особенностей их характеров. Они не походили друг на друга и их постепенное сближение должно было окончиться когда-нибудь трагически для Писарева. Еще в раннем детстве Раиса умела понимать людей, в среду которых она попадала при своем скитании от одного родственника к другому, сразу, на лету, с поразительной быстротой взгляда схватывая дух новой обстановки. Не взявши ни одной фальшивой ноты, она легко приспосабливалась к чужим людям. С гибким умом, с сильно развитым воображением, разгоряченным преждевременным чтением романов, хорошенькая и кокетливая, Раиса должна была сразу заставить биться сильнее сердце неуклюжего мальчика с эстетическими наклонностями. Но в этой романтической привязанности преимущество с самого начала оставалось на стороне бойкой, набравшейся разных впечатлений девочки, хотя рассудком и знанием он далеко превосходил ее. Она побеждала его живым, поэтическим темпераментом, теми чертами своего характера, которые развились на почве этого темперамента и которых недоставало ему. Она тревожила его несколько вялое воображение, которому природа мешала самостоятельно раскаляться и вспыхивать побеждающим и опаляющим огнем. Маленький Писарев, с его рассудочной твердостью и ясностью и сердечной прямотой, кротко шел по следам хорошенькой кузины, почти молился на нее, терпеливо выжидал её детской благосклонности, не будучи способен ни на какую страстную романтическую борьбу, в которой иногда добывается взаимность. А Рапса, подрастая, все смелее и смелее заглядывала своим острым, пытливым взором в глубину его верного, любящего, слегка беспомощного сердца, и не очаровываясь ничем, что она отгадывала в нем своим чисто женским инстинктом, искала недостающих впечатлений помимо него. Видаясь с ним ежегодно в вакационное время, она постепенно отталкивалась и отдалялась от него. Дружеские отношения их не прекращались, но шансы его любви падали все ниже и ниже.
II
Уже в последних классах гимназии Писарева манило в храм свободной науки, каким ему представлялся университет. По его собственному рассказу, самые слова – студент, профессор, аудитория, лекция, – заключали в себе для него какую-то необъяснимую прелесть. Молодому, еще не жившему человеку хотелось не кутежей, не шалостей, а каких-то неиспытанных ощущений, какой-то деятельности, каких-то стремлений. Даже внешние атрибуты студенчества казались ему привлекательными: синий воротник, безвредная шпага, двуглавые орлы на пуговицах – все это пленяло воображение. Писарев не чувствовал никакого особенного влечения к определенному кругу наук. В нем не было никаких инстинктов учености и потому, когда пришлось выбрать тот или другой факультет, он «в одно мгновение ока, полюбовавшись на синеву воротника и на блеск золоченого эфеса шпаги», решил поступить на филологический факультет. Это было в 1856 году, когда Писареву исполнилось всего шестнадцать лет. В университете потянулась жизнь с новыми впечатлениями, которые должны были в конце концов расшевелить его умственную природу. Каждый год вносил в его душу новые настроения, которые толкали его на путь его настоящего призвания. Медленно, но верно просыпался в нем публицистический агитатор. На первых порах однако в Писареве нельзя было заметить никаких перемен. Это был все тот-же ребенок, одетый с иголочки, приглаженный и припомаженный и записывающий профессорские лекции в тетрадях с цветными обложками. Но в аудитории он поражал своею умственною бойкостью и подготовленностью по классическим предметам. Вспоминая это время, один из товарищей Писарева, П. Полевой, описывает нам подробно типическую фигуру юного студента. Худощавый и розовый мальчик, он выделялся среди других студентов всею своею внешностью. Его светлые волосы, темно-карие глаза и румянец во всю щеку, нежный и тоненький голосок, который часто бойко раздавался в аудитории, его способность без всякого приготовления переводить перед профессором классических авторов в чистых, литературных выражениях, его размеренная, почти методическая походка и некоторая важность в лице, – все это останавливало на себе внимание. Но Писарев, отличаясь пред каждым профессором в отдельности, все-таки не сосредоточивался ни на какой специальности. «Неумолимый демон умственного эпикуреизма», который стал в нем просыпаться по мере того, как он все ближе и ближе соприкасался с университетскою наукою, насильно увлекал его к иным занятиям, к иным интересам. Он пробовал переводить с греческого географическое сочинение Страбона, изучать историю по энциклопедическому словарю Эрша и Грубера, писать о Гумбольдте и Гегеле по известной брошюре Штейнталя, но ничто не захватывало его души. Исполняя свои работы с каким-то механическим упорством, он не находил в них ни малейшего наслаждения для своего ума. Различные научные слова и мало-понятные фразы «кувыркались» в его голове, не возбуждая в нем живого отношения к изучаемому предмету. Предложенные рефераты писались с необычными для студента литературными достоинствами, даже отдавались профессорами в студенческие сборники для печати, но его духовное развитие все-таки не делало серьезных успехов. Писарев спешил заняться чем-нибудь, хватался за разные предметы, с глухим отчаянием, с постоянной мыслью, что все это бесполезно. От философии языка бросался он к славянским наречиям, обрушивался на русскую историю, потом вдруг принимался изучать гомеровскую мифологию, потому что в голове его внезапно возникла гениальная идея, великолепно объясняющая греческое понятие судьбы или рока. Вопрос о каких-нибудь специальных занятиях становился для него мрачным, грозя сделаться неразрешимым. Его не тянуло ни к какой специальности, а между тем ему казалось, рассказывает Полевой, что он должен избрать себе специальность во что-бы то ни стало. Его отчаяние доходило до слез. Он плакал оттого, что кружок его товарищей занимался серьезно наукою, когда он переходил от предмета к предмету, и его уныние не знало-бы границ, если-бы в это самое время, на исходе второго года студенческих занятий, он не сдружился с товарищем по университету, пылким энтузиастом с проповедническими наклонностями, Трескиным. Писарев переехал от своего дяди генерала на Васильевский остров, поближе к университету и к тесному товарищескому кружку, в который ввел его новый друг, и в этой свежей обстановке он как-то вдруг повеселел и приподнялся духом. Родители Трескина полюбили его как родного сына, и старик Трескин, умный и оригинальный человек, стал оказывать на Писарева полезное влияние, сдерживая в нем некоторые порывы и возбуждая потребность в настоящей серьезной мысли.
При таких обстоятельствах наступил третий год учения Писарева в петербургском университете. Настало бурное время в жизни учащегося юношества. В начале 1858 г. студенты начали сплачиваться в тесные кружки, возникли брожения и порывистые стремления юношества к вольной жизни. В университетском коридоре как-то вдруг появились пестрые жилеты, радужные галстуки, клетчатые штаны, усы, бороды. Целые толпы студенческой молодежи осаждали университетское начальство, доказывая ему справедливость своих требований. Среди студентов появились свои сподвижники. Волна нового движения стала проникать в душу Писарева, то увлекая его к ораторству на сходках, то вызывая в нем потребность какого то шумного протеста в духе общего студенческого настроения. Он начинает чувствовать себя живым человеком в этой стихийно бушующей толпе. Его вялые нервы напрягаются до болезненности, и когда ему не удается излить в толпу свое мучительное по силе умственное волнение и овладеть ею в качестве агитатора, он разражается, как это бывало в детстве, слезами. Был случай, рассказывает Скабичевский, когда Писарев, придя в энтузиазм, расплакался на студенческой сходке. В другой раз Писарев, во время некоторых недоразумений, происшедших между студентами и одним из профессоров, увлекся до того, что лег на стол и стал барабанить ногами в стену, за которою сидел профессор, чтобы помешать ему читать лекцию… В это время Писарев еще состоял членом того кружка, с исключительно учеными целями и задачами, в который ввел его Трескин. Но в нем уже закипали сомнения, которые должны были увлечь его навстречу реалистическим стремлениям эпохи. Ум его мужал, его понятия светлели и загорались агитаторским огнем. Дух его крепчал и определял задачи для своей ближайшей, освободительной деятельности. Он проникался враждою и к университетской науке, и ко всем мертвым житейским шаблонам, сковывающим развитие человеческой личности. Неуклюжий молодой орленок, он беспомощно и напряженно кружился в своей тесной обстановке, инстинктивно стремясь к смелому полету, но не умея расправить своих от природы больных и несколько пришибленных крыльев. Фанатический приверженец чистой науки, Трескин накидывался на Писарева с жаром, с вдохновением, пылко рисуя пред ним роль ученого деятеля, призывая его к строгим университетским занятиям, а Писарев, расхаживая по комнате мерными шагами, заложив руки в карманы своего причудливого домашнего балахона и несколько приподняв плечи, по-видимому спокойно возражал ему, не изменяя себе ни единым словом, ни голосом, ни единым жестом. Сдержанно и твердо он отстаивал свое право идти в ряды литературных работников с наличным, хотя-бы и небольшим, запасом знаний, с готовностью каждую минуту открывать перед читателями то, что волнует его душу, без прикрас, без схоластических туманов, заботясь только об ясной и добросовестной передаче своих сознательных требований. Кружок давил его теперь уже больше механически, не имея прежней власти над его умом, окончательно пометившим ту дорогу, на которой ему можно будет развернуть все свои силы. Уравновешенное положение его ученых товарищей среди бурного движения, охватившего все столичное общество, раздражало его своей инертностью. Все наиболее важные вопросы, выдвинутые событиями эпохи, разъединяли его с кружком, хотя, по старой привычке, он еще участвовал в его вечерних собраниях, которые почти всегда оканчивались веселыми ужинами. Он чувствует себя теперь почти литератором, потому что стал принимать очень деятельное участие в передовом журнале для взрослых девиц, издаваемом Кремпиным. Он один из главных бойцов «Рассвета», этого своеобразного журнала с эмансипационными задачами, изящно иллюстрированными на самой обертке изображением спящей, красивой девушки, с закинутыми за голову руками, и светлого гения, который пробуждает ее, указывая ей на лучезарный диск восходящего солнца. Женский вопрос отныне станет одною из главных тем его постоянных размышлений, и в этом вопросе он не может сделать ни малейшей уступки своим отсталым товарищам. Его эмансипаторские идеи проснулись во время. Общество смутно колыхалось, и целые толпы народа, офицеров, чиновников всех ведомств, густые массы молодежи обоего пола и всех возрастов стали наполнять аудитории и коридоры петербургского университета. Умственное брожение, медленно нараставшее в Писареве, должно было теперь вырваться на полную свободу, победив лимфатический темперамент и сообщив нервам необычайную для них силу и напряжение. До сих пор тесно связанный с членами своего кружка, который сохранял строгий нейтралитет по отношению к университетским движениям, он вдруг, осенью 1859 г., стал сближаться с коноводами студенческих трупп и наиболее заметными лицами из общества, посещавшего университетские лекции. Товарищи по кружку усмотрели в этом измену своему ученому уставу. Полевой стал доказывать Писареву, что русские женщины еще не подготовлены для занятий в университетах рядом со студентами и что модному движению, охватившему петербургскую интеллигенцию, не следует придавать чересчур серьезного значения. Но Писарев, более чуткий к пробуждающимся запросам общества, твердо стоял на своем, доказывая, что в русской жизни начинается новая эпоха, что новые идеалы начинают озарять русскую историю. Споры выходили между бывшими единомышленниками горячие, с одной стороны, и блестящие, смелые, победоносные – с другой. Писарев отстаивал свои мысли со всею свежестью пионера в этой благодарной области человеческого освобождения. С обычным ораторским искусством он выдвигал свои отчетливые теоремы, рисовавшие известное мировоззрение. Его прямолинейные аргументы, ни на минуту не уклоняющиеся в сторону и нигде не принимающие отвлеченного характера, в контраст с возражениями и доказательствами его противников, звучали, как первые пробные ноты удалой, лихой песни. И от этих бурных состязаний в узкой сфере товарищеского кружка Писарев прямо переходил к агитации литературной в том органе печати, в котором он начал свою журнальную карьеру. Той-же осенью 1859 г., в октябре месяце, он печатает в «Рассвете» разбор «Обломова», в котором, подробно обрисовав характер Обломова и Штольца, посвящает шесть пылко и талантливо написанных страниц великолепному образу Ольги. Превосходное литературное дарование, еще не суженное тенденциозным отрицанием того, что было щедро заложено в его собственной природе – с широкой способностью к эстетическим оценкам и острому психологическому анализу, выступает здесь во всей красоте свежих слов, свободно льющихся выражений и афоризмов. Он передает историю её любви с изяществом молодого романтика, но романтика с новыми, прогрессивными горизонтами. Он оправдывает все её поступки, проникает в её душу и, открыв в ней самородное золото, с радостью выносит его на свет, чтобы провозгласить новую теорию женской эмансипации. Дойдя до последнего момента в истории Ольги, он сочувственно отмечает её нравственную неудовлетворенность окружающими ее условиями комфортабельной семейной жизни. её сильная, богатая природа не способна заснуть, по его толкованию, ни в какой обстановке. Эта природа, пишет он, требует деятельности, труда с разумною целью, ибо только творчество способно до некоторой степени успокоить её тоскливое стремление к чему-то высокому, незнакомому. Вся жизнь и личность Ольги, заключает Писарев, представляет живой протест против зависимости женщины, протест, который, конечно, не составлял главной цели автора, потому что «истинное творчество не навязывает себе практических целей», но который, именно благодаря своей непосредственности и силе художественного воплощения широкой идеи в образе Ольги, должен серьезно подействовать на сознание общества. Товарищи Писарева были в ужасе от статьи его. Они восхищались второй частью Обломова, удивлялись тому, как могла решиться Ольга выйти за Штольца, всем им жалко было Обломова и досадно на Ольгу за то, что она «не продолжала своей трудной работы над пересозданием этого истого произрастания захолустной российской почвы». Но четвертой части Обломова, с изображением того недовольства жизнью, которое высказывает Ольга своему мужу, они решительно признать не могли. Полевой говорил: «Чего ей еще нужно? У неё есть муж, любимый и уважаемый ею, есть дети, есть обеспеченное состояние, которое дает ей возможность сосредоточить все заботы на муже и детях? Чего же ей еще нужно и отчего она скучает?..» На все эти недоумения, шедшие из неглубокого умственного источника, Писарев отвечал почти теми-же словами, какими он выразил свою мысль в напечатанной им статье об Обломове: «В её недовольстве, говорил он, можно подозревать стремление к творчеству», и это истолкование, как передает Полевой, имело громадный успех в обществе и вызвало даже сочувственный отзыв самого Гончарова.
В 1860 году Писарев был уже совершенно сформировавшимся реалистом. Основной тезис реализма – «все, что естественно, то и нравственно», окреп в нем окончательно, и он защищал его в борьбе с товарищами с поразительным диалектическим искусством, со всеми красотами своего замечательного; дара слова. После нескольких колебаний в эстетических вопросах в начале 1861 г., о которых сообщала позднее мать Писарева на имя Некрасова, он очень быстро сделался главным деятелем «Русского Слова». Рассказывают, что при первом-же свидании с Благосветловым, которому Писарев принес сделанный им стихотворный перевод «Атта Троля», напечатанный в декабрьской книге «Русского Слова» 1860 г., чуткий редактор, пристально всмотревшись в лицо этого много-обещающего юноши, внушительно сказал ему: «Бросьте стихи, займитесь критикой». И действительно, с февраля месяца 1861 г. в «Русском Слове» начался ряд поистине блестящих дебютов молодого таланта в статьях, наделавших огромного шума в литературе и обществе. Университет еще не был окончен, а статьи Писарева уже вызывали полемические перестрелки, иногда и бури. В небольшой рецензии на книгу Киева нова разгулявшийся завоеватель умов, полный кипучих протестантских стремлений, но совершенно лишенный философского образования, высокомерно дает отставку «старику Платону», иронически называя его «генералом от философии». Не всегда попадая в цель при трактовании серьезных научных вопросов, он в статейке о «Физиологических эскизах Молешотта» серьезно распространяется о влиянии чая на возникновение протестантизма и кофе на развитие католицизма. В мае месяце появились первые десять глав «Схоластики XIX века», статьи, написанной с публицистическим огнем и огромным полемическим задором. Каждая новая журнальная работа широко распространяла известность молодого писателя, который в это время сводил последние счеты с петербургским университетом и прежними товарищами, искренно оплакивавшими, вместе с университетскими профессорами, его явное уклонение с верного пути науки. По приезде с каникул 1860 года Писарев решился писать диссертацию на медаль, воспользовавшись исторической темой об Апполонии Тианском. предложенной историко-филологическим факультетом. Диссертация должна была быть представлена в первых числах января, а Писарев приступил к подготовке только в октябре. В ноябре он начал писать, по обыкновению, прямо набело, и к назначенному сроку огромная тетрадь в 15 печатных листов была представлена в факультет. Эпиграфом к диссертации Писарев сделал слегка ироническое по отношению к самому себе изречение: «еже писах, писах»… Быстро написанное сочинение было удостоено однако серебряной медали и. затем напечатано автором на страницах «Русского Слова»[2 - В. И. Жуковский рассказал нам относящийся сюда эпизод. Писарев, беспокоясь несколько о библиографических материалах для своей диссертации, явился к однокурснику своему, некоему Утину, который работал на ту-же тему и получил затем золотую медаль за свое сочинение. Оказалось, что Утин обставил свою работу массой сочинений на разных языках, которые лежали тут-же в его кабинете. В то время, когда его вызвали в другую комнату, Писарев, по естественно загоревшемуся любопытству, стал перелистывать раскрытые книги и прочитывать отдельные места. Возвратившийся Утин, желая осадить опасного соперника, заметил: «Дмитрий Иванович, вы злоупотребляете вашим зрением». Слегка смущенный Писарев, с недоумением в глазах и улыбкой удивления, произнес какую-то незначительную фразу и, вежливо откланявшись, ушел. Он не искал больше никаких литературных пособий для своей диссертации.].
III
А роман с Раисою шел своим порывистым ходом, разгораясь во время свиданий на каникулах, но не давая никакой отрады сердцу Писарева. Нельзя было не видеть со стороны, что Раиса никогда не сделается его женою, о чем он открыто мечтал в разговорах и письмах к матери. Расцветая, Раиса все более и более удалялась от своего друга, у которого не хватало сил для победы над её чувствами. Его любви недоставало непосредственной выразительности и мощи, которая захватывает женское сердце, поднимает и уносит без рассуждений и даже вопреки всяким рассуждениям. Подходя к ней со всею правдивостью и откровенностью убежденного реалиста, готового снять с любви её поэтический покров, как фальшивую театральную мантию, хотя и во всеоружии передовых взглядов на назначение женщины, Писарев, лишенный в глазах Раисы обаяния страстной силы, должен был казаться ей непривлекательным героем для романа. Вырастая духовно, он должен был казаться ей более или менее чуждым человеком, из совершенно другой среды, с другим назначением, мало подходящим для семейной жизни. её влечения, страсти, вся её неглубокая, но изящная душевная организация тянулись в другую сторону, навстречу другим, более жгущим впечатлениям. В ней была потребность в настоящей, страстной любви, с её яркими вспышками в патетические моменты, с её кокетливою игрою легких, дразнящих ощущений, с её волнующей борьбою различных желаний и требований. Их разводила дисгармония темпераментов, и мятежному духом, но вялому по организации Писареву не суждено было овладеть тем счастьем, которое рисовало ему воображение при мысли о Раисе. Настоящий разлад между ними начался с осени 1859 года. Приехав в Грунец, Писарев не нашел Раисы. Она оказалась у своего дяди, который не пустил ее в семью на это время. Писарев затосковал, стал убегать в сад, чтобы где-нибудь, в тенистой беседке или на траве, лежа на ковре с раскрытой книгой в руках, отдаться упорной и тревожной мысли о любимой девушке. «Он не любил, рассказывает сестра его, Вера Ивановна Писарева, – чтобы его заставали в такие минуты тяжелого раздумья. В нем при этом просыпалась какая-то гордая стыдливость, и он старался навести., речь о каком-нибудь совершенно безразличном предмете, меньше всего интересовавшем его в данную минуту». Видя глубокое огорчение сына, мать Писарева решилась поехать за Раисой. Прошло несколько дней в самом тяжелом, мучительном ожидании. Он не мог работать, статьи не писались. Наконец, мать вернулась с письмом от Раисы, в котором она откровенно созналась, что любит другого. Прочтя письмо, Писарев, как это бывало с ним всегда, когда нервы его не могли совладать с напряжением души, судорожно зарыдали., как маленький ребенок. Утешения и горячие призывы к труду молодого Трескина, который тогда еще не разлучался со своим другом и в вакационные месяцы, не могли, конечно, успокоить Писарева. Он крепился, сам разрисовывал новые перспективы – жизнь ради литературного труда, с одними умственными наслаждениями, с новой любовью или даже вовсе без любви, но все эти реалистические мудрствования ни к чему не приводили. Униженная страсть сильнее, чем когда либо, скручивала его душу, напрягая все её естественные склонности, толкая ее к чему-то смелому, решительному, экстравагантному. На обратном пути из Грунца в Петербург он посетил своего счастливого соперника, красавца Гарднера, и узнав на месте, что он страдает, серьезным физическим недугом, который ног-бы даже быть препятствием к его браку с Раисой, он с некоторым злорадством спешит поделиться этим важным открытием с своей матерью. В первом письме из Петербурга он просит ее приласкать Раису в минуту тяжелого горя и помочь ей перенести грустное испытание. Сам он не отказывается теперь от своих первоначальных надежд, хотя он был-бы не согласен повторить Раисе свое предложение: это было-бы неуважением к её несчастной любви, сломленной в самом стебельке. Он подружился с Гарднером и светло смотрит на открывающуюся перед ним дорогу, пишет он с напускною рассудительностью. Только одно несчастье могло-бы сломить его: сумасшествие с светлыми проблесками сознания. «Все остальное: потеря близких людей, потеря состояния, глаз, рук, измена любимой женщины, – все это дело поправимое, это всего этого можно и должно утешиться». Желая во что-бы то ни стало доказать своей матери, что он не переоценивает постигшее его несчастье, он развивает в письме к ней целую теорию эгоизма, хотя тут-же, явным образом обнаруживая замешательство психического настроения, рассказывает ей о своих ужасных сомнениях во всем и во всех, в самой жизни, которая показалась ему вдруг сухою, бесцветною, холодною. Он вообще не понимает, что с ним происходит и, заканчивая одно из своих трогательнейших писем к матери, нервно восклицает: «мама, прости меня! мама, люби меня!» Опрокинув в своем уме всякие научные Казбеки и Монбланы, как вспоминает он об этом периоде своей жизни в статье «Наша университетская наука», он вдруг представился самому себе каким-то титаном. Ему показалось, что он совершит чудеса в области мысли. Два-три месяца он, действительно, работал неутомимо. Руководимый какою-то странною идеею, он прочел восемь песен «Илиады» в подлиннике, сделал много выписок из немецких исследований, трактовавших о мифологических и теологических понятиях Гомера. Он чувствует себя Прометеем, имеющим право презрительно выслушивать советы и увещания товарищей… Однажды, за ужином в товарищеском кружке, Писарев, все время казавшийся скучным и молчаливым, быстро встал с своего места, рассказывает Полевой, и поднял кверху руку. Все разом взглянули на него и, весело настроенные, ожидали блестящего спича. Но Писарев вдруг обвел своих товарищей какими-то мутными глазами и стал медленно опускаться на пол. Товарищи бросились к нему и успели его подхватить. Обморок продолжался недолго, но после минутного просветления сменился совершенно бессознательным состоянием. Его бережно снесли на руках в сани и, привезя на квартиру, осторожно раздели и положили на диван в кабинете старика Трескина. Приехал доктор, осмотрел, ощупал его и покачал головой. Через несколько дней Писарева пришлось перевезти в психиатрическое заведение доктора Штейна. В течение четырех месяцев о нем не было известно ничего положительного. Говорили, что Писарев дважды покушался на свою жизнь и что вообще болезнь его находится в самом печальном состоянии. Вдруг, в один весенний день, он бежал из заведения Штейна, явился в семейство Трескина, где был встречен с распростертыми объятиями любившим его стариком. Через полчаса после Писарева к Трескину приехал доктор Штейн с одним из своих помощников, но старик Трескин. резко загородив собою Писарева, отказался выдать пациента. Он отвез его к матери, и за лето, на свежем воздухе, здоровье Писарева совершенно понравилось. Когда он явился осенью в Петербург, он показался товарищам повеселевшим и даже пополневшим: румянец играл у него во всю щеку, он говорил по-прежнему умно и бойко, и только в глазах его было заметно какое-то беспокойство. По-видимому, кузина слегка приласкала его, и он опять, быть может, не без вспышки новой надежды, ожил и стал стремиться к широкому литературному труду. К этому времени относятся его переговоры с Евгенией Тур о сотрудничестве в «Русской Речи», которое не сложилось только потому, что Писарев оказался в эту минуту чересчур ярым эстетиком и фанатическим поклонником поэзии Апполона Майкова.
Между тем роман его шел в окончательной развязке. Брак Раисы с Гарднером считался делом решенным и, по мере приближения рокового дня, Писарев снова терял душевное равновесие он стал убеждать ее вступить с ним хоть в фиктивный брак, чтобы сейчас-же после венца уехать с Гарднером за-границу, в расчете, что Раиса вернется к нему, когда пройдет первое брожение страсти. Зная, что супружеское счастье Раисы с Гарднером не может устроиться, он решился даже откровенно объясниться с нею на счет её будущего мужа. Очевидным образом теряя всякое самообладание, он раскрыл перед нею эту интимную сторону дела, смягчая грубость своего бестактного сообщения в хорошо отшлифованных фразах французского письма. Раиса отвечала сдержанно и с. достоинством, что не поколеблется в своих намерениях. День свадьбы настал. После венчания, происходившего в Петербурге, так-как за последнее время Раиса жила у дяди Писарева, А. Д. Данилова, молодые отправились на вокзал Николаевской железной дороги. Не помня себя от отчаяния и ревности к сопернику, Писарев полетел за ними и на платформе произошла ужасная сцена: он быстро подошел к Гарднеру и ударил его хлыстом по лицу. Взбешенный Гарднер опрокинул его на дебаркадер и, вырвав хлыст, несколько раз хватил его по щекам. Писарев, как он сам об этом рассказывал, не сопротивлялся, даже не сделал попытки защитить лицо руками…
Скандал этот произошел с Писаревым в то время, когда его имя уже пользовалось популярностью в петербургских кружках.
IV
В воспоминаниях Шелгунова мы находим небольшой рассказ о том, как он впервые познакомился с Писаревым. Однажды, в 1861 году, Шелгунов утром зашел к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным, умным лбом и с большими, умными, красивыми глазами. Он держался прямо и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев – в начале своей блестящей литературной карьеры, покончивший счеты с университетом и выступивший смелым бойцом на журнальном пути. Слава в это время, можно сказать, бежала за Писаревым. Каждая статья его, исполненная молодой силы и стихийной удали, гремела и звенела. Его литературное красноречие холодным, освежающим каскадом вливалось в сознание общества. Благосветлов понял цену своего нового сотрудника и давал ход всем его писаниям с готовностью умного и ловкого издателя, знающего потребности современного читателя. Каждая книжка «Русского Слова» выходила с несколькими работами Писарева, вносившими необычайное оживление в критический отдел журнала. В полтора года молодой писатель напечатал ряд статей по самым разнообразным литературным вопросам, которые точно определили главные черты его умственной физиономии. Ясно было, что Писарев идет по совершенно определенному пути, и когда, 3-го июля 1862 г., он был оторван от своих постоянных занятий и заключен в крепость, его писательская личность уже могла считаться в очень значительной степени выясненной. К этому времени определилось существенное различие в понимании молодой России между критиком «Русского Слова» и критиком «Современника» в статье Писарева об «Отцах и детях»: «Базаров». Такие статьи Писарева, как «Московские мыслители», «Русский Дон-Кихот», «Бедная русская мысль» не могли не создать ему совершенно определенной литературной репутации. Живой талант, с огромною производительною энергиею, с необычайною ясностью и почти примитивной простотой своих отчасти реформаторских, отчасти разрушительных требований и аргументов, чувствовался в каждой его заметке. Общество насторожило внимание и потянулось к «Русскому Слову», где раздавалась эта звонкая, смелая, новая речь. И в это-то время, сейчас-же после приостановки журнала на восемь месяцев, Писарев должен был выйти из жизненного водоворота, который мог укрепить и разносторонне развить его силы. Одиночное заключение в крепости, продолжавшееся почти четыре с половиною года, до 18 ноября 1866 г., должно было, при его реалистических склонностях, неизбежно сковать его дух и, придав ему необычайную интенсивность в одном направлении, сузить его умственный горизонт некоторыми теоретическими вопросами, возникшими для него еще на последнем курсе университета и сохранившими на долгое]?время юношески-докторальный характер. По справедливому замечанию Скабичевского, Писарев не был расположен ни к какой конспиративной деятельности, и можно считать роковою случайностью, что писатель, начавший теориями чистейшего индивидуализма без малейшего политического оттенка, вдруг оказался в чем-то виноватым и был призван к тяжелой уголовной ответственности. Скабичевский так передает в своей «Истории новейшей русской литературы» причину ареста Писарева. В апреле 1862 г., рассказывает он, появилась брошюра Шедо-Фероти, содержавшая в себе разбор письма Герцена к русскому лондонскому посланнику, – брошюра, крайне благонамеренная и потому допущенная цензурою к продаже. В качестве критика «Русского Слова», Писарев написал рецензию на эту брошюру, которую однако оказалось невозможным напечатать в журнале. Однажды к нему пришел товарищ по университету Баллод и, узнав историю с рецензией, предложил ему отдать ее для напечатания в тайной типографии, с которой он состоял в постоянных сношениях. В другое время Писарев наверно отклонил бы подобное предложение, но по закрытии «Русского Слова» и в том угнетенном настроении духа, в каком он тогда находился, он быстро согласился переработать в надлежащем тоне свою статейку и отдать ее в полное распоряжение подпольной печати. Вскоре затем Баллод был арестован, а за ним, по документам, найденным при обыске, попался и Писарев. Такова одна, наиболее распространенная в печати версия. По краткому, но, как нам кажется, более правдоподобному рассказу Шелгунова дело с арестом Писарева происходило иначе. Баллод пришел к Писареву и попросил его написать какую то прокламацию. Писарев согласился, но написанная им прокламация, найденная у Балдода, послужила материалом для обвинения ею в государственном преступлении. Эту версию подтвердили нам и некоторые лица, интересовавшиеся арестом Писарева в качестве близких ему людей…
В крепости жизнь Писарева потянулась однообразная, но полная литературного труда. Четыре года одиночного заключения не могли сломить его сильный ум, с необычайною поспешностью и легкостью изливавшийся в многочисленных, ясных и свежих статьях, проходивших, как говорили в то время – по словам А. К. Шеллера, любезно передавшего нам некоторые свои воспоминания в небольшом письме – через благосклонную цензуру коменданта крепости кн. Суворова, который изумлен был светской выдержкой этого политического арестанта и его безукоризненным знанием иностранных языков. К этому тяжелому времени, служившему испытанием его физических и нравственных сил, относится большинство его литературных работ, все то, что окончательно упрочило его славу в качестве первого критика эпохи. Он не падал духом. Даже не зная, когда и как окончится его заключение, он переходил от одной темы к другой, затевал полемические войны и бился со своими многочисленными литературными противниками, не давая чувствовать ни единым словом, ни тончайшим намеком своего исключительного, страдальческого положения, как это делали-бы на его месте люди более мелкого пошиба, склонные к кокетливой браваде и рисовке перед публикой. Он жил напряженными, головными интересами. От литературных занятий он отвлекался только для самых необходимых писем, которые он писал микроскопическими буквами на маленьких клочках, оторванных от полей печатных страниц, и которые мать уносила после свиданий с ним в башмаке, переписывала для доставления по адресу, сохраняя на память оригиналы. И в этих письмах, не стесняемых никакой цензурой, нет ни малейшей жалобы. Вникая в свою ответственную литературную задачу, он как-бы радуется своему невольному одиночеству. Его силы сберегаются для настоящего труда: нет более бессонных ночей за картами, сознается он в одном из трогательных писем к матери, обстоятельства взялись приучать его к правильному образу жизни, накапливать в нем энергию, которую он, живя на свободе, непременно разбросал-бы по сторонам. Уединение бывает полезно не для одних сумасшедших, рассуждает он с серьезным убеждением, – от него часто выигрывают люди, совершенно здравомыслящие: становишься спокойнее, выучиваешься сосредоточивать мысль на одном предмете. В одиночестве, вдали от впечатлений столичной жизни, хотя она клокочет где-то вблизи, за стеною, он чувствует себя настоящим журналистом. «Журналистика, пишет он почти за два года до выхода из крепости, 24 декабря 1864 г., – мое призвание. Это я твердо знаю». Ему не трудно написать в месяц от четырех до пяти печатных листов, совершенно не изнуряя себя. Не развлекаемый никакими случайными интересами, он чувствует, что форма выражения дается ему теперь еще легче, чем прежде, хотя он стал гораздо требовательнее к себе в отношении мысли. Эти свойства растут и развиваются в нем с каждым днем, так что всякая новая его статья, чуждая какой-либо раздражительности, пышных риторических фраз, выдержанная в строгой логической последовательности, не может не содействовать полному успеху любимого дела. «Если мне удастся выйти опять на ровную дорогу, мечтает вслух Писарев, то я наверное буду самым последовательным из русских писателей и доведу, свою идею до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не доводил раньше меня». Он будет выбирать подходящие для его таланта сюжеты, станет популяризировать естествознание, строго придерживаясь метода опытных наук, и в год он напишет не меньше 800 страниц…
Среди этих мужественных юношеских размышлений вдруг проносится поэтическое воспоминание о Раисе. её образ еще не померк, несмотря на пережитые от неё унижения и испытания последних лет. Он думает о ней часто, иногда с досадою, иногда с грустью, но всегда с сильным желанием увидеть ее. Он упрашивает свою мать сообщить какие-нибудь сведения о ней. Но в борьбе со своими неугасшими поэтическими чувствами он ощущает неодолимую склонность к безбурной, слегка идиллической семейной жизни с женщиной, которая могла-бы оценить его правдивые и честные стремления, которая давала-бы ему светлый отдых от труда, не волнуя и не терзая его сердца никакой особенной любовью. Он уверен, что был бы очень хорошим мужем, так как будет всегда любить и уважать ту женщину, которая согласится быть его женой, никогда не станет изменять ей, потому что будет всегда занят серьезным делом. Но где же Раиса? Увы! С её именем не связано больше никаких надежд. Где вообще та девушка, которая согласилась бы принять его предложение? Слегка разгоряченное одиночеством воображение, не встречая отрады ни в каком живом впечатлении, готово ухватиться за всякий случай, чтобы наполнить каким-нибудь содержанием это пустое место в его жизни. Нет Раисы, но в письмах сестры и матери стало мелькать имя какой-то другой девушки, Лидии Осиповны, которая, судя по их словам, могла-бы занять место Раисы в его жизни. И вот он решается на странный, в высокой степени наивный поступок. Он просит свою мать сделать ей от его лица официальное предложение и затем, как бы сознавая неловкость своего поступка, посылает ей длинное объяснительное письмо, где он в холодно-резонерском тоне доказывает ей, что они могли бы пойти одною дорогою, в качестве мужа и жены. Он уверен, что она должна его понять и оценить. Умный и порядочный человек с честным образом мыслей, без всякого романтического отношения к самой любви, умеющий смотреть правде прямо в глаза, он не может допустить, чтобы она предпочла ему какого-нибудь олуха. «Лидия Осиповна! – восклицает он, обращаясь к ней, – не губите себя! вам непременно надо выйти за нового человека». Что может ей помешать принять его предложение? Отсутствие любви? Но любовь вещь очень простая и естественная, когда даны все её условия: молодость, ум, приличная наружность. Он некрасив собою, но, во 1-х, красивых мужчин на свете очень немного, а во 2-х, он не урод, у него не пошлая физиономия, у него даже «с некоторых пор сделались очень умные глаза». Вы умны и я умен, соображает Писарев, стало быть тут, кроме равенства, не может быть других отношений. Пусть ее не беспокоит Раиса. Она исчезла из его сердца с тех пор, как она бросилась на шею своему красивому олуху… Изумленная этим предложением, сделанным человеком, который находился в исключительном, жизненно-бессильном положении, Лидия Осиповна отвечала отрицательно. Иначе, конечно, она поступить и не могла. Но Писарев, во всеоружии своих реалистических аргументов, стал с особенной силой выкладывать пред нею свои преимущества пред всяким олухом. Она будет с ним счастлива. Их жизнь будет отличаться редкою содержательностью. Во-первых, они будут получать все русские журналы и многие статьи будут прочитывать вместе. Во-вторых, они будут получать несколько иностранных газет и журналов. В-третьих, к их услугам будет всегда множество книг. В-четвертых, они будут водить знакомство с людьми очень смирными, простыми, работающими и совершенно бесцеремонными. В-пятых, Лидия Осиповна может обращаться к своему ученому мужу за объяснениями, когда наткнется на какие-нибудь непонятные ей вопросы. В-шестых, она может усвоить, при помощи своего ученого мужа, немецкий или английский язык. Наконец, в седьмых, в их жизни не будет никакой роскоши, но и никаких чувствительных лишений, а министерство финансов будет всецело в руках Лидии Осиповны. Выписав с такою полною добросовестностью все пункты этой хартии семейных вольностей, Писарев выражает твердое убеждение, что двух-трех задушевных разговоров достаточно для того, чтобы они полюбили друг друга. О Раисе пусть она забудет: прошедшее не воротится назад. Да и Раиса теперь не такая, какою он ее помнит. Он видел её карточку: она сделалась худою, больною, пожилою женщиной, в её письмах – пустота, слабость, усталость. Нет, он больше не завидует Гарднеру. Весь прошедший период жизни кажется ему каким-то беснованием, не исключая даже того момента, который выбросил его из колеи его обычной литературной деятельности и привел к крепости. Он здоров и крепок, и воспоминания прошедшей любви уже начинают застилаться туманом. Ему нужна действительность… Но все эти доказательства ни к чему не привели. Лидия Осиповна уклонилась от его лестного предложения, в котором не проглядывало никакое непосредственное чувство. К тому же вся мудрая рассудительность Писарева относительно его собственных чувств и желаний разлетелась прахом при первом новом испытании. По-видимому, Писарев не выдержал характера, когда обстоятельства позволили ему обменяться с Раисою несколькими новыми фразами – неизвестно точно, при личном ли свидании в крепости, во время приезда Раисы в Петербург, или в письмах. Во всяком случае в печати недавно обнародовано небольшое письмо Писарева к Раисе Гарднер. Отвечая ей на какое-то расхолаживающее замечание, он с деланным равнодушием, под которым чувствуется уязвленное самолюбие, старается рассеять её иллюзии насчет неизменности его пылких чувств. В последний раз он делает усилие, чтобы вырвать из сердца эту любовь, которая манила, дразнила и волновала его с детства. Она еще раз промелькнула на его бледном, тусклом небосклоне, но это была уже последняя туча рассеянной бури. Горизонт очистился, но неудачи s сердечные обиды наложили меланхолическую печать на всю его дальнейшую жизнь и нравственную физиономию…
Среди писем интимного характера, сохранившихся от времени пребывания Писарева в крепости, находятся и письма его к Благосветлову, с которым он поддерживал постоянные отношения. По содержанию эти письма имеют или строго-практический характер, или, в большинстве случаев, относятся к различным делам его по редакции «Русского Слова». Писарев то слегка перекоряется с Благосветловым по вопросу о гонораре, несколько аффектированно подчеркивая свои реалистические понятия и материалистические наклонности, то из уединения крепостного каземата управляет полемикой журнала с «Современником».. Он не допускает пока и мысли расстаться когда-нибудь с «Русским Словом», и для приведения к твердому принципу их взаимных отношений, он предлагает Благосветлову, «вместо нравственной деликатности», сделать фундаментом этих отношений «взаимную выгоду, что совершенно согласно с нашей общей теорией последовательной утилитарности и систематического эгоизма». Пусть Благосветлов отыскивает и доставляет ему как можно больше книг, а он, Писарев, будет по-прежнему писать как можно лучше – «для того, чтобы приобретать себе деньги и известность»… В этих словах чувствуется юношеская бравада упрощенностью разумного принципа. Имея дело с таким практическим человеком, как Благосветлов, Писарев, с наивностью кабинетного теоретика, старается перещеголять своего опытного и знающего толк в денежных делах издателя и защитить свои интересы под маскою убежденного ревнителя житейских благ. Однако сила в этих деловых отношениях была всецело на стороне Благосветлова, который искусно и успешно сочетал огромное трудолюбие толкового редактора с талантом твердой эксплуатации своих ближайших и полезнейших сотрудников. Наивная и бескорыстная душа, Писарев, со всем своим реалистическим апломбом, всегда проигрывал в своих денежных схватках с Благосветловым и в то же время, раздражая его издательское самолюбие, давал ему против себя оружие своими циническими изречениями.
Очутившись на свободе, Писарев почувствовал себя как-то странно. Одиночество, создавшее его лучшие, наиболее яркие, наиболее сильные литературные труды, вошло в его привычки. Он приноровился жить одною внутреннею жизнью и умственно сгорая над своею работою, он приобрел всю сосредоточенность отшельника и страстную напряженность невольного узника. Четыре лучших года пронеслись, как одно мгновение, без единой сердечной, человеческой радости, но с злорадным удовлетворением беспощадного борца, наблюдающего из скрытой засады, как разрываются среди остервеневшего неприятеля посылаемые им гранаты. Он был отрезан от мира, но дух его жил среди русского общества, возбуждая молодые умы, вызывая всеобщие распри. Выйдя на вольный воздух, он как-то растерялся. На него нахлынули живые, пестрые впечатления, от которых в течение четырех лет отвык его мозг. Его охватило волнение – психическое и физическое волнение человека, который, после долгого плавания по-морю, сойдя на берег, ощущает головокружение, как-бы не находя под ногами твердой почвы. Его природная неспособность переживать страстные бури и потрясения дала себя чувствовать. Нервы отказывались служить ему, и недуг, пережитый еще во время студенчества, минутами смутно шевелился в нем, прорываясь в экстравагантных поступках. Однажды рассказывает Скабичевский, Писарев поразил своих знакомых, смешав во время обеда все кушанья в одной тарелке и начав есть эту мешанину. В другой раз он вдруг стал раздеваться в гостях при всеобщем переполохе… Писарев не сразу вошел в старую колею усердного журнального труда, и на некоторых статьях его, появившихся в «Деле» 1867 г., нельзя не видеть отпечатка какого-то внутреннего недомогания. Резкий переход от одиночества, в котором он сумел сохранить всю крепость и остроту своей духовной организации, к свободе, которая еще не создала необходимых для него условий и обстановки успешной литературной работы, временно отнял у его статей тот блеск светлой, быстрой мысли, который поражает в его лучших произведениях. Но мало-помалу расстройство улеглось. Прежние привычки ожили в нем вместе с любовью ко всякому внешнему изяществу, со склонностью к романтическим увлечениям. Он по-прежнему корректен и даже слегка кокетлив в своих костюмах. Его манеры приобрели печать изысканного благородства, и весь он, со своею деликатностью, благовоспитанностью и некоторою застенчивостью, сменившею теперь прежнюю юношескую самоуверенность, должен был производить, при личном свидании, подкупающее и даже до некоторой степени трогательное впечатление. Таким именно он рисуется в своей встрече с Тургеневым, которого он поразил своею сдержанностью в разговоре на самую жгучую для него, боевую тему о Пушкине. Тургенев не скрыл от него своего негодования по поводу его статей о лучшем русском писателе, резко подчеркнув его бестактность в истолковании пушкинской поэзии. Не смягчая пред юным и дерзким критиком своего полного разногласия в этом важном вопросе, Тургенев мог ожидать страстной и уверенной реплики, пылкого и красноречивого возражения с знакомым ему задором писаревских статей. Но Писарев, внимательно слушая его, не возражал. Тургеневу запомнилась его изящная фигура в бархатном пиджаке и общее впечатление от свидания с ним, в котором с первых-же моментов выступал его прямой и честный ум, не пугающийся никакой правды.
С оживлением старых манер и привычек, в Писареве пробудилась с новою силою мечта, волновавшая его с юношеских лет, претерпевшая многие перемены и испытания, не покидавшая его даже среди вдохновенных занятий одиночного заключения, мечта об уютной, отрадной, семейной жизни. В том-же 1867 г. Писарев поселился вместе с своею дальнею родственницею, Марией Александровной Маркович (известною под псевдонимом Марко-Вовчок), разошедшейся с своим мужем. Высоко ценя талант Писарева, хотя и не подходя к нему по темпераменту, быть может, не любя его тою страстною, поэтическою любовью, которой он добивался от женщин, не умея побеждать их силою собственных страстей, она сошлась с ним по инстинкту высокоодаренной, блестящей женщины, стремящейся стать центром интеллигентного кружка и широких литературных влияний. Пикантная, с гибким женственным умом и вспышками злого и эффектного остроумия, она сразу увлекла и даже слегка подчинила себе молодого, не избалованного судьбою Писарева. Это не было то тихое, ровное счастье, озаряющее минуты отдохновения от тяжелого литературного труда, о котором он мечтал. Не уступая ему в тонкости литературного вкуса и остроге художественных суждений, женщина начитанная и с богатыми жизненными впечатлениями, Марко-Вовчок не нуждалась в ученых указаниях и руководстве даже со стороны такого человека, как Писарев. Популярная в обществе, полная творческих сил, привлекательная, она, в тесном кругу домашнего обихода не могла не взять верх над Писаревым, вся духовная сила которого, не расплываясь по сторонам, сосредоточилась на определенной, решительно поставленной публицистической задаче, вращалась постоянно в одной и той-же сфере идей и напрягала его мощный, разрушительный талант в известном, узком направлении. Писарев с его блестящим, сильным и свободным красноречием умолкал в присутствии этой женщины, которая умела в нескольких художественных штрихах обрисовать и уязвить целый человеческий характер, выставить его смешную сторону и сообщить беседе живое, игривое течение. В. И. Жуковский, слегка коснувшись в своем рассказе этого момента в жизни своего друга Писарева, перешел от красноречия острых и метких слов к красноречию деликатных недомолвок и утонченной, чуть-чуть сатирической мимики. Однажды, рассказывал Жуковский, приехав из провинции, он нашел Писарева одного в квартире, свободным от занятий. Марья Александровна Маркович куда-то уехала и два друга могли распорядиться временем по старой, холостой привычке. Без лишних рассуждений, они помчались в какой то ресторан и, под звуки органа, отдались откровенному разговору. Беседа затянулась на несколько часов. Наконец, красноречие друзей истощилось, а орган продолжал гудеть. На лице Писарева отразилось явное раздражение. Жуковский отчетливо помнит тот момент в их беседе, когда Писарев, на вопрос о причине его неудовольствия, ответил: «я не люблю ни музыки, ни живописи. Я ничего в них не понимаю, особенно – в музыке»… Когда друзья вернулись на квартиру Писарева, им сказали, что хозяйка дома, которую не ожидали в этот день, уже приехала. Писарев не замедлил пройти в её комнату, но скоро вернулся оттуда к Жуковскому и, тщетно стараясь скрыть свое смущение, передал ему приглашение Марьи Александровны к завтрашнему обеду, намекая этим, что затягивать сегодняшнее свидание было-бы, может быть, не совсем удобно…
В июне 1867 г. Писарев, несколько подчинившийся влиянию г-жи Маркович, порывает свою давнюю литературную связь с Благосветловым «не из принципов и даже не из за денег», как он писал об этом Шелгунову, а просто из за личных с ним неудовольствий. Благосветлов поступил невежливо с Марко-Вовчок, отказался извиниться перед нею, когда от него этого потребовали, твердо заметив Писареву, что если отношения его к журналу («Делу») могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить. Лишившись постоянного литературного сотрудничества в журнале, Писарев стал заниматься переводами и выжидать новых обстоятельств, которые поставили-бы его на прежнюю писательскую дорогу. Слава его была слишком громка, чтобы он решился занять второстепенное положение в каком-нибудь другом издании, а нового журнала с родственным ему. направлением пока еще не было. Слухи о преобразовании «Отечественных Записок», с Некрасовым, Елисеевым и Салтыковым во главе редакции, еще не получили никакого оправдания. В Петербурге говорили, что Некрасов ведет переговоры с Краевским, но ничего положительного не было известно. При том-же Писарев не мог надеяться занять выдающееся положение в журнале, составленном из главнейших сотрудников «Современника». «Эта партия, писал он Шелгунову, меня не любит и несколько раз доказывала печатно, что я очень глуп. Сомневаюсь, чтобы Антонович и Жуковский захотели со мною работать в одном журнале». Однако Писарев ошибался, и в начале 1868 г. он получил приглашение участвовать в возрожденных «Отечественных Записках» – «с тою степенью свободы, которая совместна с интересами целого». В короткое время в этом журнале появились следующие его статьи: «Старое барство», «Романы Андре Лео», «Мистическая любовь», «Французский крестьянин 1789 г.». Кроме того он переделать для «Отечественных Записок» два романа: «Принц-собачка» Лабулэ и «Золотые годы молодой француженки» Дроза. Ни одна из этих работ не была подписана, так как, но объяснению редакции «Отечественных Записок», с подписью своего имени он хотел появиться позднее, в самостоятельных критических статьях, которые выразили-бы зрелые результаты его постоянно развивавшейся мысли, хотя такая статья, как «Французский крестьянин», по стилю и определенности мысли, была вполне достойна его таланта. Не подлежит сомнению, однако, что положение Писарева в новой редакции, где вдохновляющую роль должен был играть Щедрин, не могло быть ни особенно свободным, ни особенно ловким. Его полемика на страницах «Русского Слова» была еще слишком жива в памяти всех читателей, и его прямая, честная и открытая натура не могла без ущерба для себя подчиниться интересам того целого, которое во многом не отвечало его наиболее сильным и оригинальным убеждениям. «Отечественные Записки» с самого начала пошли совершенно иным путем, чем «Русское Слово», и можно сказать с полною уверенностью, что резко очерченная индивидуальность Писарева должна была-бы сделать слишком много принципиальных уступок направлению нового журнала, чтобы вызвать к себе безусловное товарищеское доверие со стороны его главных руководителей. Скабичевский рассказывает, что Писарев почти никогда не бывал в редакции «Отечественных Записок». Только два раза он видел его в квартире Некрасова. Один раз это было на обеде, который Некрасов давал своим сотрудникам по выходе первой книжки журнала. Писарев сидел рядом с Скабичевским, молчаливый, сосредоточенный, несколько растерянный, среди людей мало ему знакомых, в обществе Салтыкова, которого он еще недавно обрызгал ядом своего беспощадного сарказма. В другой раз это было в редакции «Отечественных Записок», в один из понедельников, когда сотрудники собирались от 2 до 4 часов, весною 1868 г. На этот раз он влетел в редакцию веселый, бодрый. Он пришел, чтобы проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн, на морские купанья. Он оживленно говорил, когда в редакцию вдруг вошла совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным портретом его и, узнавши подлинник, подошла к нему с робкою просьбою подписаться под фотографическим изображением. Его самолюбие, пишет Скабичевский, было польщено этим доказательством его популярности, тем более, что она обнаружилась на глазах людей, пред которыми Писареву должно было быть особенно приятно выступить в своем настоящем значении. Это было его последнее свидание с сотрудниками журнала. Он задумывал ряд статей для будущего сезона, бросил две статьи о Дидро и о современной Америке, потому что случайно сошелся: в выборе предмета с другим известным писателем, и с светлыми надеждами говорил о своих будущих литературных занятиях, которые до сих пор как-то не складывались в настоящую систему. От морских купаний он ожидал благотворного воздействия на расстроенные нервы и ехал в Дуббельн потому, что не мог получить официального разрешения на поездку за-границу. Никто не мог предположить, что дни Писарева были тогда уже сочтены. 4-го июля он вышел, но обыкновению, купаться в море. Недалеко от него, рассказывает в «С.-Петербургских Ведомостях» г. Суворин, купались другие больные и видели, как он начал биться в воде. Они подумали, что Писарев делает обыкновенные движения. На самом деле это была борьба со смертью. Его тело приняло ненормальное положение, к нему бросились, вынесли его на берег, призвали трех местных докторов… Но все усилия возбудить молодую жизнь оказались уже напрасными. «Очевидно, прибавляет г. Суворин, с Писаревым сделался тот-же нервный удар, который поразил его раз во время студентства, среди шумной беседы с друзьями», как это описано в воспоминаниях Полевого. С разрешения администрации тело Писарева было привезено в Петербург, и 29 июля состоялись его похороны на Волковом кладбище. В 1 ч. пополудни от ворот Мариинской больницы двинулось погребальное шествие, сопровождаемое довольно многочисленной толпой друзей и почитателей покойного. Несмотря на тяжесть свинцового гроба, его сняли с катафалка и несли на руках попеременно до самого кладбища. В публике было не мало дам.
– «Кого это хоронят?» спрашивали многие по дороге. И узнав, что хоронят Писарева, примыкали к толпе и шли без шапок до самой могилы.
Когда гроб был опущен в землю против могилы Добролюбова, через дорожку, на его крышку посыпались цветы. Воцарилось долгое, глубокое молчание. Наконец, начались речи. Говорили Павленков, Гирс, Гайдебуров и Благосветлов. Два оратора бросили друг в друга полемические копья. Другие говорили задушевно, дружески горячо. Речь Благосветлова произвела сильное впечатление. Дамы громко рыдали. Гирс прочел два стихотворения… По окончании погребения многими было выражено желание почтить память покойного учреждением при Петербургском университете стипендии его имени, и тотчас-же была собрана довольно значительная сумма в 700 рублей.
Так закончилась эта короткая, безрадостная жизнь. Писарев умер на двадцать восьмом году, после восьмилетнего литературного труда, после целого ряда публицистических и критических битв, окруживших его имя всероссийской славой. Неутомимый работник и яркий литературный талант, он успел оставить глубокий след в истории целой эпохи и связать свою деятельность, в качестве ближайшего преемника, с журнальною деятельностью Добролюбова и Чернышевского. Он был прямым продолжателем философских идей Чернышевского в той области, в которой его дарование сверкало лучшими достоинствами. Он довел до конца те взгляды на искусство, которые Чернышевский разработал в своей знаменитой диссертации, и на живом, можно сказать, классическом примере невольно обнаружил их теоретическую несостоятельность и практическую опасность для развития литературного творчества. При выдающихся публицистических способностях, Писарев не обладал ни философским образованием, ни серьезными научными знаниями, которые позволили-бы ему взглянуть на задачу литературы под более широким углом зрения. Настоящий критик по призванию, с непосредственной любовью к изящному, с острым и свободным аналитическим умом, он не нашел, может быть, не успел найти своего пути и сделал критику орудием журнальной агитации в пользу идей, не имевших прямого отношения к тому делу, к которому он был призван. Вот почему в его наиболее известных критических статьях, страдающих, несмотря на блеск красноречия, некоторою растянутостью и утомительным многословием популяризатора для учащегося юношества, мы, рядом с сильными и гибкими определениями художественной манеры писателей, их мировоззрения и психологических наклонностей, встречаемся постоянно с искусственно притянутыми и до наивности простодушными рассуждениями об эгоизме, о мыслящих реалистах, о бесплодности всяких научных абстракций. Он никогда не может удержаться в пределах своего предмета и мысль его, уносимая течением времени, механически привязывает к своей теме те вопросы, которые, при ином отношении к критической задаче и критическим методам, могли-бы получить внутреннее освещение и разработку по пути всестороннего и глубокого психологического анализа самого художественного произведения. Оставив после себя интереснейший материал для изучения эпохи, для обрисовки боровшихся в ней течений и стремлений, он параллельно с этим оставил в русской литературе ряд критических работ, поражающих своей дикой и бесплодной парадоксальностью и на долгое время наложивших свою печать на суждения журналистики и общества о важнейших проявлениях русской духовной культуры. Не имея глубоких философских и научно-социальных оснований, направляя интеллигенцию к освободительной правде случайными и ложными путями, его принципы легко распространялись среди мало образованных, хотя и передовых слоев русского общества, воспитывали поколение в узкой дисциплине догматического и поверхностного реализма, а в литературе призывали к деятельности людей без оригинального ума и таланта, с тощим запасом затверженных фраз из ходкого реалистического лексикона, людей, неспособных ни на какую самостоятельную культурную работу. Идеи реалистического утилитаризма разменивались на мелкую монету, теряя всякую жизненную свежесть, и за поколением фанатических борцов, сильных своею самобытностью, стали выступать мелкие, придирчивые эпигоны.
notes
Сноски
1
История новейшей русской литературы, А. М. Скабичевского, Спб. 1891 Главы шестая и седьмая. – Сочинения А. Скабичевского, Спб. 1890. Том I. Дмитрий Иванович Писарев, – «С.-Петербургские Ведомости», 1868. No№ 193, 194. Воспоминания о Дмитрие Ивановиче Писареве (1857-1861). П. Полевого. – Там-же № 197. Недельные очерки и картинки (Нечто о г. Благосветлове) Незнакомца (А. С. Суворина). – Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. Е. Соловьева, Спб. 1893. – Сочинения H. В. Шелгунова, том второй. Спб. 1891. Из прошлого и настоящего, главы XVIII и XIX. – «Дело», 1868 г. Август, С Невского берега (Похороны Д. И. Писарева). – «Отечественные Записки». 1868, Июль. Некролог. Д. И. Писарев. H. К. – «Русское Обозрение» 1893 г. Январь: Письма покойного Д. И. Писарева, писанные им к разным лицам из под ареста. Предисловие А. Д. Данилова. Письмо Д. И. Писарева к Р. А. Г. Письмо к девушке, никогда автором его не виденной. Февраль: Второе письмо Д. И. Писарева к той-же девушке. Март: Письмо к Г. Е. Благосветлову. Июнь: Письмо к Благосветлову. Август: Письмо к Благосветлову. – Октябрь Письмо к Благосветлову.
2
В. И. Жуковский рассказал нам относящийся сюда эпизод. Писарев, беспокоясь несколько о библиографических материалах для своей диссертации, явился к однокурснику своему, некоему Утину, который работал на ту-же тему и получил затем золотую медаль за свое сочинение. Оказалось, что Утин обставил свою работу массой сочинений на разных языках, которые лежали тут-же в его кабинете. В то время, когда его вызвали в другую комнату, Писарев, по естественно загоревшемуся любопытству, стал перелистывать раскрытые книги и прочитывать отдельные места. Возвратившийся Утин, желая осадить опасного соперника, заметил: «Дмитрий Иванович, вы злоупотребляете вашим зрением». Слегка смущенный Писарев, с недоумением в глазах и улыбкой удивления, произнес какую-то незначительную фразу и, вежливо откланявшись, ушел. Он не искал больше никаких литературных пособий для своей диссертации.