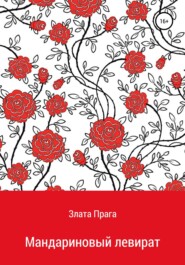По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Влюблена и завербована
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В Тунисе очень сложно найти натурщицу.
– О! – я закатила глаза и вздохнула.
– Послушай! Я не богат, но, если ты согласишься мне позировать, я буду тебе даже платить немного. Например, 300 динаров в месяц.
– 300 динаров получает поденщица в оливковых садах, – огрызнулась я.
– О, да ты торгуешься! – и он прищурился, скрестив руки на груди.
– Я прожила здесь полгода. Если бы мой папа не умер, я бы не оказалась на улице, а местные парни и посмотреть бы на меня не посмели.
– Но теперь ты одна и на улице, а я предлагаю тебе дом и работу прямо в доме. Соглашайся, женщина.
– Но не 300 же динаров?! И потом, ты мусульманин, тебе нельзя на меня смотреть, не то что рисовать!
– Ну, хорошо, 400. Только потому, что мы живём в двадцатом веке.
– Мои предки обедали с французскими королями! 700 динаров.
– Ты накинулась на простую рыбу, как бездомная кошка. Подумай, что ты будешь есть и где будешь ночевать, если я тебя отсюда выставлю. 500 динаров.
Я хотела ещё возразить, но вдруг зевнула, стыдливо прикрыв рот.
– Извини, – сказала я Саиду.
– Ничего. Конечно же, ты устала. Идём, я покажу тебе спальню.
– Нет-нет. Я согласна быть твоей натурщицей за 500 динаров. И я буду убирать дом, и стирать, и готовить, и чинить одежду. Но я буду спать внизу, в гостиной, а ты поможешь мне получить документы. Хорошо, Саид?
– Хорошо. Только назови меня ещё раз по имени.
– Сколько тебе лет, Саид? – и я выдавила из себя улыбку.
– Двадцать. А тебе?
– Мне двадцать четыре года, – и я снова заплакала.
Я проплакала тогда целую ночь, скрючившись на диване в гостиной юного художника. Я поехала на край света за приключениями и за мужчиной, но осталась одна и прошла через ад. Я томилась в тюрьме. Я травмировалась. Я подвергалась насилию. Я бродяжничала и вынуждена была воровать и обманывать. Как только у меня рассудок от всего этого не помутился? А может и помутился! Кому теперь я нужна? Как мне жить дальше? Что со мной будет теперь, и что ждёт меня завтра?
Вопросы кружили голову, и она кружилась, засасывая меня в воронку сна.
Утром я встала разбитой и уставшей, постаревшей на тысячу лет, но, выглянув в окно, увидела яркий солнечный мир, в котором Сэр Саид опять стоял, как стоял, ничуть не изменившись. Мне даже обидно стало. Впрочем, обида – это чувство, а на них я решила больше не размениваться. Все свои обиды, страхи, разочарования и сожаления я утопила в водах тунисского залива в ту ночь, когда спаслась из борделя, и затолкала остатки сомнений себе в глотку, когда этой ночью заглушала рыдания ладонями, чтобы не побеспокоить сон моего спасителя. Я больше не буду ни о чём сожалеть и не буду оглядываться назад. Я буду жить, чтобы выжить. Буду жить одним днём. И буду заботиться только о себе…
– Марьям, ты готова? – заглянул ко мне Саид.
– Готова? К чему?
– У тебя почти нет вещей. Мы идём на рынок. Только позавтракаем сначала.
– Я сварю кофе!
– Только не ты! – воскликнул он.
– А что такое?
– Ты не умеешь варить кофе, француженка.
– Ну…
– Позже я тебя научу. Но ты можешь приготовить блинчики. Я уже завёл тесто, иди пожарь.
Он вышел, и я быстро поднялась. Прибрать диван, умыться и заплести отросшие волосы в короткую толстую косу – пять минут. На кухне я пожарила блинчики, больше похожие на оладьи-мутанты, порезала помидоры и выложила на расписную тарелку финики.
– Больше ничего нет.
– Да, продуктов совсем мало. Ешь быстрее, и пойдём всё купим, – сказал Саид, – кстати, запиши на бумаге имя твоего отца. Я позвоню отцу в Тунис, и мы попробуем сделать тебе документы.
О, началось. Я записала на бумажке имя Этьена Луи Мореля, старого пропойцу-фельдшера, которого похоронили в миссии как раз накануне моего дня рождения. У него был цирроз, а во Франции оставалась племянница лет тридцати.
– А кто твой отец? – осторожно спросила я, отдавая Саиду листок.
– Господин Аббас бен Хусейн держит таксопарк в Тунисе. У него больше тридцати машин и водителей. И поэтому много знакомых в полиции. Я отправлю ему эту бумагу и расскажу твою историю. Он поможет.
– Как это такой человек позволил сыну быть художником? – спросила я, зная, что у арабов сын продолжает дело отца.
Саид усмехнулся.
– Я пятый сын в семье, вот и позволил. Мои старшие братья работают с ним, а мне разрешили пойти по стопам деда.
– А кто твой дед?
– У него бизнес в Кайруане. Дед держит целый ковровый двор и фабрику. Тётя Марьям, как и все мои сёстры и тётки, учились ткать ковры у него. Сейчас деду уже за семьдесят, и ему нужен продолжатель бизнеса. Я пообещал заняться коврами, если мне позволят выучиться в художественной академии после торгово-экономического колледжа, и семья согласилась.
– Вот как ты научился торговаться.
– Я просто блюду свои интересы, как каждый нормальный человек. И потом, кто знает, что кому суждено? Прибери, и идём, – и он пошёл наверх за рубашкой.
За воротами началось новое утро моей жизни. Началось с яркого вороха платков на базаре, где Саид объяснил мне, что носить никаб – головной убор, полностью закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз, совсем необязательно – достаточно скромной одежды и хиджаба – платка, укрывающего голову и шею, оставляющего лицо открытым. Я купила себе два жёлтых платка, расшитых золотом, и ещё шёлковый зелёный с чёрными узорами по краям. Потом мы нашли туники – просторные блузы прямого покроя с красивой отделкой из тесьмы с длинным рукавом в цвет платкам, и две длинные юбки – чёрную и синюю. Купили кожаные сандалии и шлёпки с загнутым носом, в которые я обулась прямо на рынке – так мне было жарко в кроссовках. Он купил мне вторые джинсы – тонкие и лёгкие – и просторные чёрные брюки на жару. Наконец-то я купила и бельё по размеру, и ночную сорочку. Но главное, на чём я настояла, была паранджа – закрытое длинное платье, надеваемое на голову с сеткой на лице.
– Зачем тебе это? Паранджу и абайю с никабом носят глубоко верующие женщины, жительницы пустынь, – сказал Саид, – на этом давно никто не настаивает.
– Эта штука мне нравится. Пусть будет, пожалуйста.
– Боишься, что тебя кто-то узнает?
– Я буду жить с мужчиной, не будучи за ним замужем. Все узнают. И у нас будут проблемы.
– Я выдам тебя за одну из сестёр. Не будет проблем. Но, если хочешь – купи.