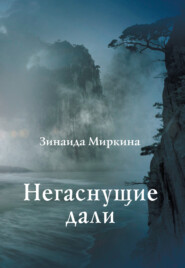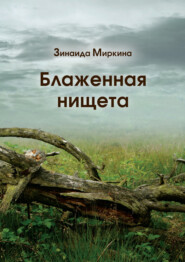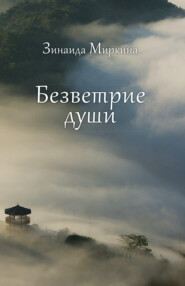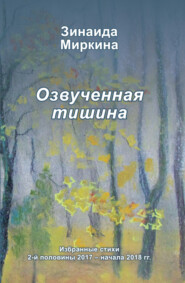По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные эссе. Пушкин, Достоевский, Цветаева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лишние
Демон давно летает над русскими просторами и пристально вглядывается в русские души. Точно ищет в них очередного пристанища. Он мерцает перед духовным взором Лермонтова, зовет и чарует его, как в поэме чарует Тамару. Как она не погибла – непонятно, а все-таки не погибла; и так же душа Лермонтова… «Она страдала и любила, и рай открылся для любви».
Этот же черный дух вперяет свой взгляд в Гоголя, внушая ему дикий мистический ужас. И даже гармоничный и воистину светлый наш гений – Пушкин чувствует вокруг себя хоровод бесов. Это не минутное настроение заплутавшегося в поле путника. Давно
Какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи.
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд…
(А.С. Пушкин. «Демон»)
Стоял ли за этим пушкинским демоном реальный Раевский или кто другой, – не это важно. Важно, что за ним была духовная реальность. Что душа с ним встречалась… И плодом этой встречи был герой своего времени – первый из этих москвичей в гарольдовом плаще, из этих чужеземцев с Онеги или Печоры. Они зовут прекрасное мечтою, не верят любви и свободе и ничего во всей природе не хотят благословить. И они завораживают самых глубоких, самых поэтичных женщин. Да и не только женщин. И женщины, и мужчины ждут от них чего-то особого, чувствуют в них избранность, предназначенность к подвигу. Какому?
Властитель дум, властитель душ, кто же он? Это прежде всего человек недюжинной силы. Я не говорю о тургеневских, измельчавших характерах. Не от них пошел герой Достоевского. Но Онегин и Печорин – сильные люди. Их сила еще не нашла себе применения, но она есть. Есть независимость духа, присущая лишь властителю, князю… Вот только непонятно еще, светлому ли, или темному князю… Непонятно это ни тем, кто предан ему душой и телом, готов идти за ним на край света, ни, может быть, ему самому. Герой нашего времени – лишний человек, не вписавшийся или, скорее, как бы выписавшийся, выбывший из общества, противопоставивший себя среде, почве, из которой вырос. Лишний человек – сам по себе. И ему самому и всем вокруг кажется, что он на голову выше прочих. Вот только бы найти задачу по своим силам!.. Вот только найти «веру или Бога» (как говорит Порфирий Петрович Раскольникову), ради которых хоть кишки вырезай! Но где найти веру или Бога? Бог потерян.
Вот он, главный нерв века, его больная точка («Бог умер», – скажет вскоре Ницше). Бог существует лишь как внешняя, мертвая форма. Люди еще не нашли новых живых форм духа и продолжают держаться за старые. Но чувство мертвости, скуки, пустоты жизни разлито в воздухе.
Герой времени – тот, кто осмеливается назвать мертвое мертвым. На фоне мелких, трусливых душ, оглядывающихся на других и обманывающих самих себя, он крупен. Он отваживается быть самим собой. Что не так-то мало. Он не хочет казаться тем, чего нет. И… и только. Предоставляя судить другим, много это или мало.
Ни мало, ни много – то, что есть.
Разумеется, это герой русского образованного слоя. А что в Европе? В Европе – другое. Романтический демон там уже отлетал. Да, может быть, и не так сильно захватил умы и сердца. Было, конечно, было, но… побаловались и хватит. Надо возвращаться на землю и устраиваться на ней крепче, практичнее, чтобы никаким демонам не повадно было… Бог умер? Ну, умер, так умер. И без него проживем. Как? Да потихоньку, полегоньку, с кофе и сдобными булочками, с борьбой за права, с надежными стенами, с игорными и публичными домами. На земле так на земле.
Я не ручаюсь за то, что именно так было в Европе. Но Достоевскому увиделось все примерно так. Бог потерян образованными людьми повсюду, но русский человек с этим не мирится. А в Европе все отлично примирились. И какими же карликами показались ему эти выродившиеся Дон Карлосы! «Город Гаммельн»[16 - Гаммельн – место действия поэмы М. Цветаевой «Крысолов».] отлично обходится без души, с одними телами. Здесь – ни Бога, ни черта, ни воздуха. Ни высоты, ни глубины. Душно. Скучно.
Русский герой нашего времени – какой угодно, но не скучный. Он вовсе не кончен духовно. Он только начинается. Примириться с духотой, с плоскостью бытия он не может…
Молодой Достоевский был ближе к Ленскому, чем к Онегину. Он еще не очень хорошо ориентировался в действительности. Она была опутана романтической дымкой. Великая трагедия века еще не была осознана. То, что идеал надо искать заново, то, что Бог потерян людьми нового времени, – еще не стало для него очевидностью. Пелена с глаз спадает перед лицом смерти, перед апокалиптическим видением. Вот когда душа его в ужасе поняла, что жила вдали от Бога. И она рванулась к Богу и впервые нашла Бога. Потом – впечатления каторги, бесконечно страшные. Никакая романтика не могла бы жить рядом с ними. Он увидел, что человек пал очень низко. И если не поднимется, не выживет. А без Бога человеку не подняться. Вот что стало для Достоевского ясным и бесспорным.
Русские прогрессисты, наивно ждавшие гармонии от людей, потерявших старого Бога и не нашедших нового, от людей, не преображенных, не обо?женных, представились ему слепцами на краю пропасти. Они не предвидят того, что может произойти с Россией, как Юлия Михайловна Лембке – последствий «праздника» («Бесы»). Пожар в Заречном, вакханалия убийств и самоубийств, – вот куда летит русская тройка. Если ее не остановить, не удержать коней, – то ли еще будет!
Достоевской после каторги стал другим не потому, что был сломлен. Он имел мужество переменить убеждения, потому что увидел бесов, вошедших в тело России, и почувствовал свою задачу: остановить их натиск. Роман «Бесы» показался современникам карикатурой, в нем действительно много карикатур; но действительность оказалась еще карикатурней.
Предводитель бесов, заморочивший голову даже «великому писателю» Кармазинову, Петр Верховенский, покоряющий, гипнотизирующий умы, выведен таким отвратительным и ничтожным, что напоминает пасквиль. Но если взглянуть из нашего далека, то, пожалуй мы и похлеще видели…
Федору Михайловичу надо было во что бы то ни стало разоблачить героев нашего, последнего времени, и он это блистательно делает. Однако Верховенский представляет еще не всю бесовщину. Есть и те, кто под ним, и тот, кто над ним. Те, кто под ним, эти суетящиеся бесенята уж так мелки, что пожалуй, хоть в лупу разглядывай. Только, может, в Эркеле – намек на трагическую судьбу чистого душой русского революционера. Это один из «малых сих», соблазненных, вовлеченных, погубленных…
Ну, а кто над Петром Степановичем? В самом деле, есть ведь над этим главным и поглавнее. И без этого главнейшего тот первый – ничто, пустой мечтатель, Колумб без Америки, как говорит он сам о себе. Кто же этот главнейший?
Разумеется, все тот же страдающий демон, Николай Ставрогин. Гниение началось с головы. Это в ней первой завелись черви разрушительных идей. А голова эта – что угодно, но уж отнюдь не мелка. Это крупное явление. Очень крупное. Это тот, кто смеет быть наглым с Самим Богом, кто просит Господа подвинуться и надеется устроиться в мире без Него. Он, демон этот, достаточно умен, чтобы понимать, что без Царя в мироздании нельзя, как и без царя в голове. Так вот, – «подвинься-ка, Царь небесный, я сяду на Твое место. Я ведь догадался, что Тебя нет совсем. Ну, а я-то – есть…».
За всей бесовской мелочью и бесами покрупней стоит великое отрицание, противожизненный атеизм, черные дыры небытия, проступающие, как глаза страдающего демона… В кого они вперили свой взгляд, тому уже не увернуться, тот вызван на поединок. Либо он переглядит демона и доглядится сквозь эти дыры до непреходящего Бытия, либо будет поглощен черной бездной, выпит – без остатка!
Вызов на такой поединок – знак великого уважения. Вызов этот посылается, может быть, только великим душам. Но что такое битва всех (почти всех) святых с бесами? Обычно об этом мы знаем глухо. Это где-то в прошлом. Святой, житие которого осталось миру, – уже победитель. В его сердце горит немеркнущий свет и нам светит. Но через что прошли святые, прежде чем добыли свой свет, об этом чаще всего жития умалчивают, не вынести даже рассказа об этом простым смертным. И Сам Христос – не исключение. Не так просты были Его искушения в пустыне… Ну, конечно, Христос победил духа тьмы полностью и смертию смерть попрал. И святые, раз уж они святые, – победители тьмы. Но они знали великую скорбь и великие, непредставимо страшные, часы, а подчас дни и годы богооставленности.
В пространстве Достоевского это прежде всего князь Мышкин, все тот же больной юноша со своей немыслимой тоской душевной отъединенности от всего, всего… Всем все было дано, каждую мушку Бог как бы в ладони держал, и все-то ей было просто, а он, он один, изверженный – в пустыне. Нет, не физической – в метафизической, духовной пустыне, от веянья которой души содрогаются так же, как Мефистофель от царства Матерей…
И все-таки князь победил. Даже потом, вновь задушенный всем ужасом этого мира, все равно – он уже навсегда победитель – растерзан, но не затемнен. Его победа произошла еще где-то за страницами романа (как иногда люди уже рождаются почти светоносными, со следами битвы, произошедшей где-то в предсуществованиях).
Другие великие души бьются на страницах романов. И весь рассказ о них – ход этой битвы. Битва иногда кончается победой (случай Раскольникова), иногда еще вовсе не кончается, но есть ясное чувство (пророческое знание), что не может кончиться поражением (случай Ивана Карамазова); иногда исход битвы не ясен (так, видимо, с Вер-силовым в «Подростке»).
И только в случае Ставрогина битва великой души с черными демонами кончается полным поражением души.
Ставрогин выпит… без остатка. И если на первых же страницах романа Зосима предрекает Ивану Карамазову невозможность поражения, то Тихон Задонский с великой тоской, с нечеловеческим мучением чувствует уже как бы свершившееся в духовном мире поражение Николая Всеволодовича («Бесы»). Выход все еще есть! Но эта возможность – как возможность чуда. Чуда не происходит. Роман «Бесы» (этот самый мрачный из романов Достоевского) – пророчество о том, что будет, если победит демон.
Глава 11
Реальность и факты
Сам Достоевский – та великая душа, которая вызвана на бой страшным демоном небытия. Этот бой и есть дело его жизни. Он увидел дьявола лицом к лицу. И он бьется с ним.
В глубине души весь свет, собранный им, стянутый в некий узел, схватывается с тьмой, как святой Георгий со змием. Истинный свет, который знает душа, вспыхивает непостижимо ярко, и демон в этом освещении теряет свой блеск, свою неотразимость. Становится видно его безобразие. Он смешон. И несмотря на весь ужас: «Не боюсь твоего ножа!» (слова Хромоножки).
Это так. Более того: это самое главное в Достоевском. И за это – вечная благодарность, вечная любовь Федору Михайловичу! Вечная любовь, которую никто, даже он сам не сможет вытравить из моей души.
Но как он пытается вытравить эту любовь, когда выходит из своей великой глубины на мель! На нашей грешной земле, вдали от увиденной сердцем планеты, в житейском море он борется вовсе не с князем тьмы, а с мелким суетливым бесом. Поле битвы из души Раскольни-кова, Ивана Карамазова, Версилова, наконец – Ставрогина перемещается на территории, оккупированные Петром Верховенским, – из метафизической бездны на газетную полосу, в журнальную статейку не слишком разборчивого борзописца.
Петр Верховенский не только чужд бездне, он никакой глубины не имеет: потому и пытается паразитировать на глубине Ставрогина…
Ставрогин погиб. Не раскаялся, не нашел Бога, не просветлел, а повесился. Но не сыграл он роли, уготованной ему Петром Степановичем; ускользнул от своего фанатичного Колумба. Не открылась Америка! Тут бы, кажется, и конец всему делу; тут бы и лопнуть верховоду бесов, как мыльному пузырю… И ведь на самом деле все раскрыто, планы Петра Степановича разрушены; «пятерка» сама себя выдала; самоубийство Кириллова ничего не прикрыло и не спасло. Казалось бы все? Нет, не все.
Петр Степанович преспокойно уезжает за границу – и, погодите, он не умер; он еще натворит дел. Ведь семя брошено, каша заварена. Все сдвинулось со своих мест. «Россия, Россия, куда несешься ты?» (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») Но ведь уже не остановишь, пожалуй… (И вправду не остановил никто.)
Вот тут Достоевский выходит из своей глубины, изнутри вовне. Он кричит, предупреждает, плачет, может быть, бьется в припадках. Словом – действует, как может. Да как же иначе? Неужто сидеть, сложа руки, и ждать, пока бесы окончательно погубят Россию, приберут к рукам безответный народ русский? Нет, спасать этот народ и – спастись этим народом, учиться у него, любить его, не отрываться от него, от почвы своей, от родной нашей почвы. Ведь весь ужас начался от этих отщепенцев, от тех, которые отделились от почвы. Ужас начался от всех этих лишних, лишних…
На самом деле, «герой нашего времени» был героем только русского образованного слоя («образованщины», как сказали бы сейчас). К народу он, герой этот, не имел никакого отношения (как и народ к нему). И если Бог был потерян в русской «образованщине», то в народе-то Он не был потерян. Не умер Бог в народе. Вот что было вторым открытием Достоевского после каторги.
Первым его открытием был сам Бог. Истинное созерцание. Боговидение. Он в самом деле увидел Истину. Живой образ ее.
Второе открытие основывалось тоже на видении. Только видении чего? Целого? Великой глубины, не вмещаемой в очевидность и умопостигаемость? Нет. Как раз наоборот. Это было умопостигаемо и очевидно. Второе его открытие основывалось на некоторых фактах, которые он заметил и обобщил.
Достаточны ли были эти факты для такого обобщения, не будем обсуждать. Допустим, что достаточны. Речь идет не об этом. Речь идет о разнице между фактами, появляющимися в данное время и в данном месте и исчезающими в другое время и в другом месте, – между временными и ограниченными фактами и вечной, безграничной реальностью. Факты вполне доброкачественны и уместны в своем пространстве и времени – в мире явлений. Но в Вечном духовном пространстве факты – это фантомы.
Там они не значат ровно ничего. Смешение мира Истинной Реальности с миром фактов – все равно что смешение Божьего дара с яичницей. Не про то это, не о том!..
Федор Михайлович, прорвавшийся сквозь время к созерцанию Вечной Реальности, вдруг испугался реальной бездны, открывшейся ему, и как истинный сын своего позитивного века, задал вполне позитивистский вопрос: а где она, эта Вечная Реальность, обитает? К какому месту прикрепить, по какому ведомству отнести?
Мне известно одно сказочное правило: на вопросы «где?», «как?» и «когда?» волшебники не отвечают… Вопросы такие – уловка лукавого, который только и норовит выманить души наши из глубины на поверхность…
Я вовсе не хочу сказать, что вера Федора Михайловича в народ была неправдой. Русский народ хранил еще живыми святыни, уже умиравшие в образованном слое. И это было отнюдь немаловажно. Но это было правдой поверхностного уровня. И уровень этот нельзя было смешивать с уровнем вечным, глубинным.
Я не хочу обсуждать, был ли русский народ впрямь святым или не был. Предположим, что был. Но ведь все-таки не так был он свят, как безгрешные люди с планеты смешного человека. А ведь даже и эти люди пали, когда к ним пришло ведение греха. Ибо они были святы по неведению, святы некоей «безотчетной» святостью, святостью детей. Секрет этой святости был в том, что смотря на мир, на красоту его, на свет, они забывали себя, превращаясь как бы в одно только зрение. Как только они стали замечать себя, сравнивать, кто из них лучше, красивее, в ком больше света, кто умеет лучше видеть красоту, и т. п., – свет стал меркнуть.
Знание законов жизни стало выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Появилось бытие кажущееся, бытие своего отдельного «я» – в отличие от нераздробленного бытия Бога. Достоевский понял, что эта вторичность жизни, эта тень, выдающая себя за живое существо, – причина всех зол, всего ужаса человеческой истории. С этой «тенью», заменяющей солнце, он и вступает в бой.
И борется. Всю жизнь борется, хотя с первых же шагов начинает ошибаться. Знает это. Иногда поправляется. А иногда – закусывает удила и начинает настаивать на ошибке…
Демон давно летает над русскими просторами и пристально вглядывается в русские души. Точно ищет в них очередного пристанища. Он мерцает перед духовным взором Лермонтова, зовет и чарует его, как в поэме чарует Тамару. Как она не погибла – непонятно, а все-таки не погибла; и так же душа Лермонтова… «Она страдала и любила, и рай открылся для любви».
Этот же черный дух вперяет свой взгляд в Гоголя, внушая ему дикий мистический ужас. И даже гармоничный и воистину светлый наш гений – Пушкин чувствует вокруг себя хоровод бесов. Это не минутное настроение заплутавшегося в поле путника. Давно
Какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи.
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд…
(А.С. Пушкин. «Демон»)
Стоял ли за этим пушкинским демоном реальный Раевский или кто другой, – не это важно. Важно, что за ним была духовная реальность. Что душа с ним встречалась… И плодом этой встречи был герой своего времени – первый из этих москвичей в гарольдовом плаще, из этих чужеземцев с Онеги или Печоры. Они зовут прекрасное мечтою, не верят любви и свободе и ничего во всей природе не хотят благословить. И они завораживают самых глубоких, самых поэтичных женщин. Да и не только женщин. И женщины, и мужчины ждут от них чего-то особого, чувствуют в них избранность, предназначенность к подвигу. Какому?
Властитель дум, властитель душ, кто же он? Это прежде всего человек недюжинной силы. Я не говорю о тургеневских, измельчавших характерах. Не от них пошел герой Достоевского. Но Онегин и Печорин – сильные люди. Их сила еще не нашла себе применения, но она есть. Есть независимость духа, присущая лишь властителю, князю… Вот только непонятно еще, светлому ли, или темному князю… Непонятно это ни тем, кто предан ему душой и телом, готов идти за ним на край света, ни, может быть, ему самому. Герой нашего времени – лишний человек, не вписавшийся или, скорее, как бы выписавшийся, выбывший из общества, противопоставивший себя среде, почве, из которой вырос. Лишний человек – сам по себе. И ему самому и всем вокруг кажется, что он на голову выше прочих. Вот только бы найти задачу по своим силам!.. Вот только найти «веру или Бога» (как говорит Порфирий Петрович Раскольникову), ради которых хоть кишки вырезай! Но где найти веру или Бога? Бог потерян.
Вот он, главный нерв века, его больная точка («Бог умер», – скажет вскоре Ницше). Бог существует лишь как внешняя, мертвая форма. Люди еще не нашли новых живых форм духа и продолжают держаться за старые. Но чувство мертвости, скуки, пустоты жизни разлито в воздухе.
Герой времени – тот, кто осмеливается назвать мертвое мертвым. На фоне мелких, трусливых душ, оглядывающихся на других и обманывающих самих себя, он крупен. Он отваживается быть самим собой. Что не так-то мало. Он не хочет казаться тем, чего нет. И… и только. Предоставляя судить другим, много это или мало.
Ни мало, ни много – то, что есть.
Разумеется, это герой русского образованного слоя. А что в Европе? В Европе – другое. Романтический демон там уже отлетал. Да, может быть, и не так сильно захватил умы и сердца. Было, конечно, было, но… побаловались и хватит. Надо возвращаться на землю и устраиваться на ней крепче, практичнее, чтобы никаким демонам не повадно было… Бог умер? Ну, умер, так умер. И без него проживем. Как? Да потихоньку, полегоньку, с кофе и сдобными булочками, с борьбой за права, с надежными стенами, с игорными и публичными домами. На земле так на земле.
Я не ручаюсь за то, что именно так было в Европе. Но Достоевскому увиделось все примерно так. Бог потерян образованными людьми повсюду, но русский человек с этим не мирится. А в Европе все отлично примирились. И какими же карликами показались ему эти выродившиеся Дон Карлосы! «Город Гаммельн»[16 - Гаммельн – место действия поэмы М. Цветаевой «Крысолов».] отлично обходится без души, с одними телами. Здесь – ни Бога, ни черта, ни воздуха. Ни высоты, ни глубины. Душно. Скучно.
Русский герой нашего времени – какой угодно, но не скучный. Он вовсе не кончен духовно. Он только начинается. Примириться с духотой, с плоскостью бытия он не может…
Молодой Достоевский был ближе к Ленскому, чем к Онегину. Он еще не очень хорошо ориентировался в действительности. Она была опутана романтической дымкой. Великая трагедия века еще не была осознана. То, что идеал надо искать заново, то, что Бог потерян людьми нового времени, – еще не стало для него очевидностью. Пелена с глаз спадает перед лицом смерти, перед апокалиптическим видением. Вот когда душа его в ужасе поняла, что жила вдали от Бога. И она рванулась к Богу и впервые нашла Бога. Потом – впечатления каторги, бесконечно страшные. Никакая романтика не могла бы жить рядом с ними. Он увидел, что человек пал очень низко. И если не поднимется, не выживет. А без Бога человеку не подняться. Вот что стало для Достоевского ясным и бесспорным.
Русские прогрессисты, наивно ждавшие гармонии от людей, потерявших старого Бога и не нашедших нового, от людей, не преображенных, не обо?женных, представились ему слепцами на краю пропасти. Они не предвидят того, что может произойти с Россией, как Юлия Михайловна Лембке – последствий «праздника» («Бесы»). Пожар в Заречном, вакханалия убийств и самоубийств, – вот куда летит русская тройка. Если ее не остановить, не удержать коней, – то ли еще будет!
Достоевской после каторги стал другим не потому, что был сломлен. Он имел мужество переменить убеждения, потому что увидел бесов, вошедших в тело России, и почувствовал свою задачу: остановить их натиск. Роман «Бесы» показался современникам карикатурой, в нем действительно много карикатур; но действительность оказалась еще карикатурней.
Предводитель бесов, заморочивший голову даже «великому писателю» Кармазинову, Петр Верховенский, покоряющий, гипнотизирующий умы, выведен таким отвратительным и ничтожным, что напоминает пасквиль. Но если взглянуть из нашего далека, то, пожалуй мы и похлеще видели…
Федору Михайловичу надо было во что бы то ни стало разоблачить героев нашего, последнего времени, и он это блистательно делает. Однако Верховенский представляет еще не всю бесовщину. Есть и те, кто под ним, и тот, кто над ним. Те, кто под ним, эти суетящиеся бесенята уж так мелки, что пожалуй, хоть в лупу разглядывай. Только, может, в Эркеле – намек на трагическую судьбу чистого душой русского революционера. Это один из «малых сих», соблазненных, вовлеченных, погубленных…
Ну, а кто над Петром Степановичем? В самом деле, есть ведь над этим главным и поглавнее. И без этого главнейшего тот первый – ничто, пустой мечтатель, Колумб без Америки, как говорит он сам о себе. Кто же этот главнейший?
Разумеется, все тот же страдающий демон, Николай Ставрогин. Гниение началось с головы. Это в ней первой завелись черви разрушительных идей. А голова эта – что угодно, но уж отнюдь не мелка. Это крупное явление. Очень крупное. Это тот, кто смеет быть наглым с Самим Богом, кто просит Господа подвинуться и надеется устроиться в мире без Него. Он, демон этот, достаточно умен, чтобы понимать, что без Царя в мироздании нельзя, как и без царя в голове. Так вот, – «подвинься-ка, Царь небесный, я сяду на Твое место. Я ведь догадался, что Тебя нет совсем. Ну, а я-то – есть…».
За всей бесовской мелочью и бесами покрупней стоит великое отрицание, противожизненный атеизм, черные дыры небытия, проступающие, как глаза страдающего демона… В кого они вперили свой взгляд, тому уже не увернуться, тот вызван на поединок. Либо он переглядит демона и доглядится сквозь эти дыры до непреходящего Бытия, либо будет поглощен черной бездной, выпит – без остатка!
Вызов на такой поединок – знак великого уважения. Вызов этот посылается, может быть, только великим душам. Но что такое битва всех (почти всех) святых с бесами? Обычно об этом мы знаем глухо. Это где-то в прошлом. Святой, житие которого осталось миру, – уже победитель. В его сердце горит немеркнущий свет и нам светит. Но через что прошли святые, прежде чем добыли свой свет, об этом чаще всего жития умалчивают, не вынести даже рассказа об этом простым смертным. И Сам Христос – не исключение. Не так просты были Его искушения в пустыне… Ну, конечно, Христос победил духа тьмы полностью и смертию смерть попрал. И святые, раз уж они святые, – победители тьмы. Но они знали великую скорбь и великие, непредставимо страшные, часы, а подчас дни и годы богооставленности.
В пространстве Достоевского это прежде всего князь Мышкин, все тот же больной юноша со своей немыслимой тоской душевной отъединенности от всего, всего… Всем все было дано, каждую мушку Бог как бы в ладони держал, и все-то ей было просто, а он, он один, изверженный – в пустыне. Нет, не физической – в метафизической, духовной пустыне, от веянья которой души содрогаются так же, как Мефистофель от царства Матерей…
И все-таки князь победил. Даже потом, вновь задушенный всем ужасом этого мира, все равно – он уже навсегда победитель – растерзан, но не затемнен. Его победа произошла еще где-то за страницами романа (как иногда люди уже рождаются почти светоносными, со следами битвы, произошедшей где-то в предсуществованиях).
Другие великие души бьются на страницах романов. И весь рассказ о них – ход этой битвы. Битва иногда кончается победой (случай Раскольникова), иногда еще вовсе не кончается, но есть ясное чувство (пророческое знание), что не может кончиться поражением (случай Ивана Карамазова); иногда исход битвы не ясен (так, видимо, с Вер-силовым в «Подростке»).
И только в случае Ставрогина битва великой души с черными демонами кончается полным поражением души.
Ставрогин выпит… без остатка. И если на первых же страницах романа Зосима предрекает Ивану Карамазову невозможность поражения, то Тихон Задонский с великой тоской, с нечеловеческим мучением чувствует уже как бы свершившееся в духовном мире поражение Николая Всеволодовича («Бесы»). Выход все еще есть! Но эта возможность – как возможность чуда. Чуда не происходит. Роман «Бесы» (этот самый мрачный из романов Достоевского) – пророчество о том, что будет, если победит демон.
Глава 11
Реальность и факты
Сам Достоевский – та великая душа, которая вызвана на бой страшным демоном небытия. Этот бой и есть дело его жизни. Он увидел дьявола лицом к лицу. И он бьется с ним.
В глубине души весь свет, собранный им, стянутый в некий узел, схватывается с тьмой, как святой Георгий со змием. Истинный свет, который знает душа, вспыхивает непостижимо ярко, и демон в этом освещении теряет свой блеск, свою неотразимость. Становится видно его безобразие. Он смешон. И несмотря на весь ужас: «Не боюсь твоего ножа!» (слова Хромоножки).
Это так. Более того: это самое главное в Достоевском. И за это – вечная благодарность, вечная любовь Федору Михайловичу! Вечная любовь, которую никто, даже он сам не сможет вытравить из моей души.
Но как он пытается вытравить эту любовь, когда выходит из своей великой глубины на мель! На нашей грешной земле, вдали от увиденной сердцем планеты, в житейском море он борется вовсе не с князем тьмы, а с мелким суетливым бесом. Поле битвы из души Раскольни-кова, Ивана Карамазова, Версилова, наконец – Ставрогина перемещается на территории, оккупированные Петром Верховенским, – из метафизической бездны на газетную полосу, в журнальную статейку не слишком разборчивого борзописца.
Петр Верховенский не только чужд бездне, он никакой глубины не имеет: потому и пытается паразитировать на глубине Ставрогина…
Ставрогин погиб. Не раскаялся, не нашел Бога, не просветлел, а повесился. Но не сыграл он роли, уготованной ему Петром Степановичем; ускользнул от своего фанатичного Колумба. Не открылась Америка! Тут бы, кажется, и конец всему делу; тут бы и лопнуть верховоду бесов, как мыльному пузырю… И ведь на самом деле все раскрыто, планы Петра Степановича разрушены; «пятерка» сама себя выдала; самоубийство Кириллова ничего не прикрыло и не спасло. Казалось бы все? Нет, не все.
Петр Степанович преспокойно уезжает за границу – и, погодите, он не умер; он еще натворит дел. Ведь семя брошено, каша заварена. Все сдвинулось со своих мест. «Россия, Россия, куда несешься ты?» (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») Но ведь уже не остановишь, пожалуй… (И вправду не остановил никто.)
Вот тут Достоевский выходит из своей глубины, изнутри вовне. Он кричит, предупреждает, плачет, может быть, бьется в припадках. Словом – действует, как может. Да как же иначе? Неужто сидеть, сложа руки, и ждать, пока бесы окончательно погубят Россию, приберут к рукам безответный народ русский? Нет, спасать этот народ и – спастись этим народом, учиться у него, любить его, не отрываться от него, от почвы своей, от родной нашей почвы. Ведь весь ужас начался от этих отщепенцев, от тех, которые отделились от почвы. Ужас начался от всех этих лишних, лишних…
На самом деле, «герой нашего времени» был героем только русского образованного слоя («образованщины», как сказали бы сейчас). К народу он, герой этот, не имел никакого отношения (как и народ к нему). И если Бог был потерян в русской «образованщине», то в народе-то Он не был потерян. Не умер Бог в народе. Вот что было вторым открытием Достоевского после каторги.
Первым его открытием был сам Бог. Истинное созерцание. Боговидение. Он в самом деле увидел Истину. Живой образ ее.
Второе открытие основывалось тоже на видении. Только видении чего? Целого? Великой глубины, не вмещаемой в очевидность и умопостигаемость? Нет. Как раз наоборот. Это было умопостигаемо и очевидно. Второе его открытие основывалось на некоторых фактах, которые он заметил и обобщил.
Достаточны ли были эти факты для такого обобщения, не будем обсуждать. Допустим, что достаточны. Речь идет не об этом. Речь идет о разнице между фактами, появляющимися в данное время и в данном месте и исчезающими в другое время и в другом месте, – между временными и ограниченными фактами и вечной, безграничной реальностью. Факты вполне доброкачественны и уместны в своем пространстве и времени – в мире явлений. Но в Вечном духовном пространстве факты – это фантомы.
Там они не значат ровно ничего. Смешение мира Истинной Реальности с миром фактов – все равно что смешение Божьего дара с яичницей. Не про то это, не о том!..
Федор Михайлович, прорвавшийся сквозь время к созерцанию Вечной Реальности, вдруг испугался реальной бездны, открывшейся ему, и как истинный сын своего позитивного века, задал вполне позитивистский вопрос: а где она, эта Вечная Реальность, обитает? К какому месту прикрепить, по какому ведомству отнести?
Мне известно одно сказочное правило: на вопросы «где?», «как?» и «когда?» волшебники не отвечают… Вопросы такие – уловка лукавого, который только и норовит выманить души наши из глубины на поверхность…
Я вовсе не хочу сказать, что вера Федора Михайловича в народ была неправдой. Русский народ хранил еще живыми святыни, уже умиравшие в образованном слое. И это было отнюдь немаловажно. Но это было правдой поверхностного уровня. И уровень этот нельзя было смешивать с уровнем вечным, глубинным.
Я не хочу обсуждать, был ли русский народ впрямь святым или не был. Предположим, что был. Но ведь все-таки не так был он свят, как безгрешные люди с планеты смешного человека. А ведь даже и эти люди пали, когда к ним пришло ведение греха. Ибо они были святы по неведению, святы некоей «безотчетной» святостью, святостью детей. Секрет этой святости был в том, что смотря на мир, на красоту его, на свет, они забывали себя, превращаясь как бы в одно только зрение. Как только они стали замечать себя, сравнивать, кто из них лучше, красивее, в ком больше света, кто умеет лучше видеть красоту, и т. п., – свет стал меркнуть.
Знание законов жизни стало выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Появилось бытие кажущееся, бытие своего отдельного «я» – в отличие от нераздробленного бытия Бога. Достоевский понял, что эта вторичность жизни, эта тень, выдающая себя за живое существо, – причина всех зол, всего ужаса человеческой истории. С этой «тенью», заменяющей солнце, он и вступает в бой.
И борется. Всю жизнь борется, хотя с первых же шагов начинает ошибаться. Знает это. Иногда поправляется. А иногда – закусывает удила и начинает настаивать на ошибке…