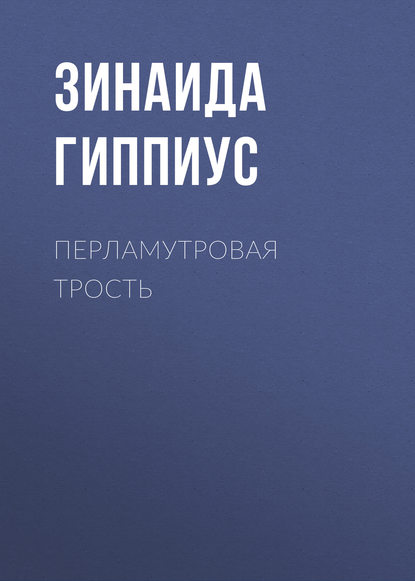По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перламутровая трость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, оставь.
Франц не сердился, хотя я говорил грубо и раздраженно.
– Лучше потом кончим, – сказал он, вставая. – Ты злишься, – я понимаю! Забыл, что я такой: где невинное страданье, да еще через меня, я уж не успокаиваюсь, всячески размышляю, прикидываю, как бы его смягчить. Когда могу.
– Обмани… Разведи с Мариусом и женись на дуре… – буркнул я. Франц засмеялся, но тотчас сказал серьезно:
– И шутить так не надо, Иван. Это не я, а ты не знаешь женщин. Понятно: тебе некогда о женщине думать: ты в нее влюбляешься, а тогда уж не до размышлений. Спросил бы Клару, хочет ли она обмана или, хоть без обмана, но чтоб я на ней женился?
– Так чего же она от тебя хочет? – почти в отчаянии закричал я.
Едва с крутой дорожки не сорвался: тьма, месяц давно закатился, духота.
Но Франц не сказал. И мы расстались.
XIV. Среди всего
Нелепость и чепуха. Ну как же не чепуха, если опомниться, и эта моя разведка насчет черноглазого, тонконогого графчика, глупого, кажется (не знаю, не интересовался), и эта немка, до которой дела мне нет, и вся Бестра с ее ветрами, мальчишками, серенадами, маленькими и большими англичанками… У меня, наконец, своя жизнь есть, свои мысли, свое дело, – да еще какое! Пора…
Что – пора? Я зол, раздражен, барахтаюсь в кошмаре – но вот вижу, что поверх всего – у меня боль за Франца.
Почему я его не дослушал? Какой он там ни на есть, с его воображениями и странностями (не изменишь!) – я его люблю. Насчет Отто разведывать поеду. О Кларе ему нужно было что-то сказать мне, знаю, что нужно (случалось прежде, говорил о своем и совета спрашивал) – а я вдруг грубо его оборвал.
Эта боль за Франца (в любви моей к нему столько пронзительной жалости… нет, какой-то нежной, заботливой нежности!) совсем меня расстроила. Но идти к нему, стараться возобновить разговор – нельзя; опять грубо. Надо ждать, или придумать что-нибудь другое.
Я на целый день уехал в Катанью. Хотел вернуться вечером, но остался ночевать. Грязный город, грязная гостиница, жара ужасная.
Приехал на Флориолу – совсем больной. И утром – уже не мог встать. Не знаю, что такое было. Говорят, случается это в Сицилии, потрясающее какое-то недомоганье, чуть не с бредом, – и внезапно проходит, через два дня. Выздоровление же, хотя тоже быстрое, но как будто после тяжелой болезни.
В эти два дня я помню шепелявого и милого Signor il dottore, потом Франца, а, главное, все время помню около себя тихую Клару, которая ухаживала за мной неотступно, с чисто материнской заботливостью.
Я уж чувствовал себя совсем хорошо, но она еще не позволяла вставать.
– Завтра, завтра, – улыбалась она, садясь с каким-то рукоделием, у затененной лампы, в моей комнате. – Завтра встанете, но еще нельзя выходить, и никого я к вам не пущу, даже M-r v. Hallen. A послезавтра – все кончено, вы свободны. Это пустяки, это наше солнце, вы были неосторожны, да, может быть, расстроены…
Я смотрел на нее, и, в тихой комнате, она сама тихая, казалась мне другой. Как будто и не та глупая немка, на которую я из-за Франца так разозлился.
– Мадам Клара… – произнес я.
Она подняла на меня близорукие светлые глаза. Потом, просто:
– Он вам сказал?
Я не ответил ничего, хотя понял вопрос.
– Ему трудно, он думает, что это большая ответственность… – продолжала она, как бы про себя, опустив глаза на работу. – Он все понимает, только вот это: какая же ответственность? Одна моя, и я так хочу, чтоб была одна моя.
– Клара, но ведь вы знаете… Вы его любите…
– Да. Мы все знаем друг о друге, и говорить даже почти не надо было. Он всегда знал, что я не думаю, и не хочу его любви… Мне своей слишком достаточно, – прибавила она с какой-то вовсе не печальной, хорошей улыбкой.
Нет, я не понимал. Да в чем же дело? Опять какие-нибудь фантазии Франца? Но ведь она-то, пусть сантиментальная, но практичная немка. Она что-то хочет от Франца, на что он… не соглашается?
Клара, не смущаясь моим молчанием, продолжала:
– Он угадал мое сердце, всю меня, как никто не мог бы. Никто другой. Я не жена. Я не возлюбленная. Я умею любить, так дано мне, но любовь любимого – зачем? Нет, сердце не в ней…
Я вдруг сел на постели. Промелькнули, пронеслись отрывочные фразы, слова, какие-то предупреждения Франца: «Выслушай до конца… Ты не знаешь женщины… И не смейся…» А теперь: «Он меня угадал… Я не жена… Я не возлюбленная…».
– Клара. Вы хотите иметь ребенка? Его ребенка?
– Да.
XV. Демон
После этого «да» – точно по волшебству сложилась передо мною, из кусочков и обрывочков виденного, слышанного, мимо ушей пропущенного, целая картина, в общем такая верная, что Францу потом пришлось дополнить ее только небольшими, хотя и неожиданными подробностями. Зная Франца, как я его знал, мне и труда не составляло догадаться о его чувствах и о взглядах на маленькую драму Клерхен. Для нее самой она не была маленькой; значит, при серьезности Франца, когда шло дело о человеке, не была маленькой драма Клары и для него. Он, конечно, верил (и Клара, да и – кто его знает, может, так оно и было?), что эта женщина, действительно, не «жена», не «возлюбленная», а только, – главным образом, – «мать». Бывают же такие. Я не замечал, положим, да просто не думал об этом; Франц, может быть, и прав, что я не знаю женщин, что некогда мне о них думать.
Отлично понял я, словно по книге прочитал, все сложное душевное состояние Франца, его влекущую силу доброты, а рядом – вечное чувство ответственности… И что еще? Да, да, все, кажется, поняла моя любовь к Францу. Но… тут я, с сожалением, опять должен сказать кое-что о себе. Вернее – о моем демоне.
Воистину проклятый демон: нападает он на меня всегда неожиданно и всегда в самое неподходящее время; бросается на то, что я от него как раз и хотел бы сберечь.
Но он беспощаден, этот демон, – смеха… Смеха самого грубого, самого издевательского. Излюбленная мишень – я сам, конечно, хотя не считается он ни с кем – и ни с чем.
До сих пор вспоминаю: несколько лет тому назад, был я влюблен в двух женщин, – двух сразу. Клянусь, влюблен серьезно, глубоко, любил обеих с одинаковой силой, – по-разному; ведь и оне были разные совсем. Мать и дочь. Дочь была моя невеста. А мать, совсем неожиданно для обоих нас, – стала моей любовницей. Самое ужасное – это что я действительно любил обеих, обе мне были одинаково нужны; и оне любили меня; выход же мне был один: обманув обеих – расстаться с обеими.
Помню трагическую ночь, когда я так смертно мучился, разрывая непонятную сеть, зная, чем будет этот разрыв для меня, и для них, – для каждой (для них еще с обманом, разве мог я сказать правду? Разве поняли бы оне, когда я и сам ее не понимал?). Так вот – в эту ночь вдруг навалился на меня, сверх всего, проклятый дьявол смеха. Я не только смеялся над собой, я издевательски хохотал, грубо дразнил себя, будто я Хлестаков: «Анна Андреевна! Марья Антоновна!». Нельзя ли, мол, с обеими «удалиться под сень струй…». Что ж такое, что одна «в некотором роде замужем»?
Ну, не стоит теперь об этом. Знаю, что едва-едва не пустил себе пулю в лоб, и вот от невыносимого этого смеха, – куда хуже он, чем смех «сквозь слезы».
А вспомнилось потому, что после знаменательного Клариного «да», когда я ее и Франца – всю картину понял, и даже, если можно, еще больше моего серьезного и нежного Франца полюбил, а Клару пожалел, – до утра не сомкнул глаз: так этот поганый дьявол хохота меня душил и трепал. Вместо Франца он мне показывал столь глупую, комическую фигуру, что я покатывался со смеху; – а Клара виделась многоликой истерической рожей – сколько их шляется к знаменитостям: «Прошу сделать мне ребенка! И немедленно!».
Чертовы штуки – сближать факты внешние, чтобы смешать их, убить живое внутреннее содержание там. Где оно есть. Драму превратить не в комедию даже, – в грязный водевиль.
Я всю ночь и превращал, издеваясь над Францем: (попал в переплет и еще вздыхает). Над Кларой: (а Мариуса почему не желаешь?). И над собой: (советчик! потом попросят совета, какого акушера пригласить! А сначала – роль моя tenir les chandelles[21 - держать свечку (фр.).], что ли? О, соглашусь, я таковский!).
Лишь к утру задремал: проснулся в холодном ужасе: что будет, если дьявол схватит меня и при Франце? Или при Кларе? А я не справлюсь и захохочу им в глаза?
Нет, тут решительно есть доля самого настоящего моего безумия…
Но прислушался: молчит, проклятый.
Мария принесла кофе. Осведомляется о здоровье. Signora сказала, что если signor чувствует себя лучше…
– Совсем, совсем хорошо, mia figlia![22 - моя дочь (ит.).] Скажите синьоре, что я здоров и сейчас встану!
XVI. Телеграмма
Последняя моя неделя Бестры проходила в самом тесном общении с Францем, в длинных с ним разговорах. Мы совершали прогулки, далеко в горы; случалось, набредя на крошечную деревушку, там и заночевывали.
Франц не сердился, хотя я говорил грубо и раздраженно.
– Лучше потом кончим, – сказал он, вставая. – Ты злишься, – я понимаю! Забыл, что я такой: где невинное страданье, да еще через меня, я уж не успокаиваюсь, всячески размышляю, прикидываю, как бы его смягчить. Когда могу.
– Обмани… Разведи с Мариусом и женись на дуре… – буркнул я. Франц засмеялся, но тотчас сказал серьезно:
– И шутить так не надо, Иван. Это не я, а ты не знаешь женщин. Понятно: тебе некогда о женщине думать: ты в нее влюбляешься, а тогда уж не до размышлений. Спросил бы Клару, хочет ли она обмана или, хоть без обмана, но чтоб я на ней женился?
– Так чего же она от тебя хочет? – почти в отчаянии закричал я.
Едва с крутой дорожки не сорвался: тьма, месяц давно закатился, духота.
Но Франц не сказал. И мы расстались.
XIV. Среди всего
Нелепость и чепуха. Ну как же не чепуха, если опомниться, и эта моя разведка насчет черноглазого, тонконогого графчика, глупого, кажется (не знаю, не интересовался), и эта немка, до которой дела мне нет, и вся Бестра с ее ветрами, мальчишками, серенадами, маленькими и большими англичанками… У меня, наконец, своя жизнь есть, свои мысли, свое дело, – да еще какое! Пора…
Что – пора? Я зол, раздражен, барахтаюсь в кошмаре – но вот вижу, что поверх всего – у меня боль за Франца.
Почему я его не дослушал? Какой он там ни на есть, с его воображениями и странностями (не изменишь!) – я его люблю. Насчет Отто разведывать поеду. О Кларе ему нужно было что-то сказать мне, знаю, что нужно (случалось прежде, говорил о своем и совета спрашивал) – а я вдруг грубо его оборвал.
Эта боль за Франца (в любви моей к нему столько пронзительной жалости… нет, какой-то нежной, заботливой нежности!) совсем меня расстроила. Но идти к нему, стараться возобновить разговор – нельзя; опять грубо. Надо ждать, или придумать что-нибудь другое.
Я на целый день уехал в Катанью. Хотел вернуться вечером, но остался ночевать. Грязный город, грязная гостиница, жара ужасная.
Приехал на Флориолу – совсем больной. И утром – уже не мог встать. Не знаю, что такое было. Говорят, случается это в Сицилии, потрясающее какое-то недомоганье, чуть не с бредом, – и внезапно проходит, через два дня. Выздоровление же, хотя тоже быстрое, но как будто после тяжелой болезни.
В эти два дня я помню шепелявого и милого Signor il dottore, потом Франца, а, главное, все время помню около себя тихую Клару, которая ухаживала за мной неотступно, с чисто материнской заботливостью.
Я уж чувствовал себя совсем хорошо, но она еще не позволяла вставать.
– Завтра, завтра, – улыбалась она, садясь с каким-то рукоделием, у затененной лампы, в моей комнате. – Завтра встанете, но еще нельзя выходить, и никого я к вам не пущу, даже M-r v. Hallen. A послезавтра – все кончено, вы свободны. Это пустяки, это наше солнце, вы были неосторожны, да, может быть, расстроены…
Я смотрел на нее, и, в тихой комнате, она сама тихая, казалась мне другой. Как будто и не та глупая немка, на которую я из-за Франца так разозлился.
– Мадам Клара… – произнес я.
Она подняла на меня близорукие светлые глаза. Потом, просто:
– Он вам сказал?
Я не ответил ничего, хотя понял вопрос.
– Ему трудно, он думает, что это большая ответственность… – продолжала она, как бы про себя, опустив глаза на работу. – Он все понимает, только вот это: какая же ответственность? Одна моя, и я так хочу, чтоб была одна моя.
– Клара, но ведь вы знаете… Вы его любите…
– Да. Мы все знаем друг о друге, и говорить даже почти не надо было. Он всегда знал, что я не думаю, и не хочу его любви… Мне своей слишком достаточно, – прибавила она с какой-то вовсе не печальной, хорошей улыбкой.
Нет, я не понимал. Да в чем же дело? Опять какие-нибудь фантазии Франца? Но ведь она-то, пусть сантиментальная, но практичная немка. Она что-то хочет от Франца, на что он… не соглашается?
Клара, не смущаясь моим молчанием, продолжала:
– Он угадал мое сердце, всю меня, как никто не мог бы. Никто другой. Я не жена. Я не возлюбленная. Я умею любить, так дано мне, но любовь любимого – зачем? Нет, сердце не в ней…
Я вдруг сел на постели. Промелькнули, пронеслись отрывочные фразы, слова, какие-то предупреждения Франца: «Выслушай до конца… Ты не знаешь женщины… И не смейся…» А теперь: «Он меня угадал… Я не жена… Я не возлюбленная…».
– Клара. Вы хотите иметь ребенка? Его ребенка?
– Да.
XV. Демон
После этого «да» – точно по волшебству сложилась передо мною, из кусочков и обрывочков виденного, слышанного, мимо ушей пропущенного, целая картина, в общем такая верная, что Францу потом пришлось дополнить ее только небольшими, хотя и неожиданными подробностями. Зная Франца, как я его знал, мне и труда не составляло догадаться о его чувствах и о взглядах на маленькую драму Клерхен. Для нее самой она не была маленькой; значит, при серьезности Франца, когда шло дело о человеке, не была маленькой драма Клары и для него. Он, конечно, верил (и Клара, да и – кто его знает, может, так оно и было?), что эта женщина, действительно, не «жена», не «возлюбленная», а только, – главным образом, – «мать». Бывают же такие. Я не замечал, положим, да просто не думал об этом; Франц, может быть, и прав, что я не знаю женщин, что некогда мне о них думать.
Отлично понял я, словно по книге прочитал, все сложное душевное состояние Франца, его влекущую силу доброты, а рядом – вечное чувство ответственности… И что еще? Да, да, все, кажется, поняла моя любовь к Францу. Но… тут я, с сожалением, опять должен сказать кое-что о себе. Вернее – о моем демоне.
Воистину проклятый демон: нападает он на меня всегда неожиданно и всегда в самое неподходящее время; бросается на то, что я от него как раз и хотел бы сберечь.
Но он беспощаден, этот демон, – смеха… Смеха самого грубого, самого издевательского. Излюбленная мишень – я сам, конечно, хотя не считается он ни с кем – и ни с чем.
До сих пор вспоминаю: несколько лет тому назад, был я влюблен в двух женщин, – двух сразу. Клянусь, влюблен серьезно, глубоко, любил обеих с одинаковой силой, – по-разному; ведь и оне были разные совсем. Мать и дочь. Дочь была моя невеста. А мать, совсем неожиданно для обоих нас, – стала моей любовницей. Самое ужасное – это что я действительно любил обеих, обе мне были одинаково нужны; и оне любили меня; выход же мне был один: обманув обеих – расстаться с обеими.
Помню трагическую ночь, когда я так смертно мучился, разрывая непонятную сеть, зная, чем будет этот разрыв для меня, и для них, – для каждой (для них еще с обманом, разве мог я сказать правду? Разве поняли бы оне, когда я и сам ее не понимал?). Так вот – в эту ночь вдруг навалился на меня, сверх всего, проклятый дьявол смеха. Я не только смеялся над собой, я издевательски хохотал, грубо дразнил себя, будто я Хлестаков: «Анна Андреевна! Марья Антоновна!». Нельзя ли, мол, с обеими «удалиться под сень струй…». Что ж такое, что одна «в некотором роде замужем»?
Ну, не стоит теперь об этом. Знаю, что едва-едва не пустил себе пулю в лоб, и вот от невыносимого этого смеха, – куда хуже он, чем смех «сквозь слезы».
А вспомнилось потому, что после знаменательного Клариного «да», когда я ее и Франца – всю картину понял, и даже, если можно, еще больше моего серьезного и нежного Франца полюбил, а Клару пожалел, – до утра не сомкнул глаз: так этот поганый дьявол хохота меня душил и трепал. Вместо Франца он мне показывал столь глупую, комическую фигуру, что я покатывался со смеху; – а Клара виделась многоликой истерической рожей – сколько их шляется к знаменитостям: «Прошу сделать мне ребенка! И немедленно!».
Чертовы штуки – сближать факты внешние, чтобы смешать их, убить живое внутреннее содержание там. Где оно есть. Драму превратить не в комедию даже, – в грязный водевиль.
Я всю ночь и превращал, издеваясь над Францем: (попал в переплет и еще вздыхает). Над Кларой: (а Мариуса почему не желаешь?). И над собой: (советчик! потом попросят совета, какого акушера пригласить! А сначала – роль моя tenir les chandelles[21 - держать свечку (фр.).], что ли? О, соглашусь, я таковский!).
Лишь к утру задремал: проснулся в холодном ужасе: что будет, если дьявол схватит меня и при Франце? Или при Кларе? А я не справлюсь и захохочу им в глаза?
Нет, тут решительно есть доля самого настоящего моего безумия…
Но прислушался: молчит, проклятый.
Мария принесла кофе. Осведомляется о здоровье. Signora сказала, что если signor чувствует себя лучше…
– Совсем, совсем хорошо, mia figlia![22 - моя дочь (ит.).] Скажите синьоре, что я здоров и сейчас встану!
XVI. Телеграмма
Последняя моя неделя Бестры проходила в самом тесном общении с Францем, в длинных с ним разговорах. Мы совершали прогулки, далеко в горы; случалось, набредя на крошечную деревушку, там и заночевывали.