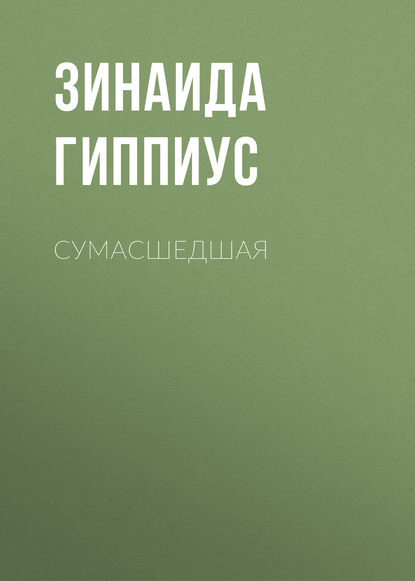По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сумасшедшая
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не успел я договорить – как она вдруг мою руку бросила и зарыдала. Я просто перепугался. На улице, знаете, да и плакала она редко, я не привык. О назначении моем новом давно говорилось, ничего тут неожиданного для нее не было. Я, признаться, давно его желал. Должность та же почти – только ответственнее, значит, и добра можно больше сделать. Я уж к службе моей очень привык и полюбил ее.
Вера так и разливается – плачет.
– Да что с тобой? – пристаю я и даже сержусь. – Скажи, сделай милость.
Сквозь рыдания вдруг слышу:
– Если б ты знал, как я несчастна. Не могу я тебе ничего сказать! О, как я несчастна!
Тут, знаете, меня как обухом по голове! Кончено, думаю. Влюбилась в Столетова! Вот тебе и веселье! Заботился я о сплетнях, а что посерьезнее – о том не подумал.
Вы знаете, что любил я ее душевно. А любящий муж, каких бы он ни был убеждений, в первую минуту после такого открытия ничего, кроме боли и гнева, не почувствует. Надо только переждать эту первую минуту. У меня, к счастью, хватило силы помолчать, а потом уж и разум, и воля, и уважение к чужой личности проснулись.
Идем мы потихоньку вперед, отдельно, луна тут проглянула; Вера уж не рыдает, а чуть слышно всхлипывает. Тяжело мне было; подумал я и говорю:
– Вера! Я человек и ты человек. Будем же говорить по-человечески. Ты не раба моя, вспомни. Если ты кого-нибудь серьезно полюбила – скажи. Разве ты меня не знаешь? Я тебя люблю – но я прежде всего ценю свободу человеческой личности. Я дам тебе развод.
Мы уже всходили на наше крыльцо. Вера взошла первая. Стукнула в дверь, потом обернулась ко мне, – я видел, как глаза из-под черной кружевной косынки блеснули удивленно. Ответить она не успела, нам тотчас же отворили, со свечой. Молча взошли мы на лестницу. Мне была неприятна и эта свеча, и то, что Вера ничего не ответила. Она молча разделась и прошла в спальню. Когда я туда вошел – она сидела в белой кофточке у туалетного стола, пригорюнившись, спокойная.
Как ни тяжело – я хотел опять начать разговор, но она меня предупредила:
– Вот что я тебе скажу, милый друг Иван Васильевич (в первый раз меня так назвала). Ты меня глупее считаешь, чем я есть. Я тебя хорошо знаю и твои убеждения знаю; подумай, если б я полюбила Столетова – что же мне за несчастье? Ты бы дал развод, ну погоревал бы немножко, но скоро бы утешился, потому что поступил бы по своим убеждениям. Но дело в том, что я не полюбила, никуда от тебя не уйду, да и некуда идти.
Сказала, а сама не смотрит. Я страшно обрадовался, руки даже к ней протянул.
– Вера! – зову ее. – Вера, милая! Ну прости меня! Чего ж ты плакала-то? Чем ты несчастна?
Она не глядит и не двигается.
– Ты этого не поймешь, Иван Васильевич. Душно мне, противно.
– Невесело? Вот ты в Москву ездила…
Она вскочила, смотрю – опять у нее слезы на глазах.
– Невесело! Да ты думаешь, мне нужно это веселье? Это как мерзкая, грязная водка для меня! Да и не водка, а вода грязная, водка-то все же пьянит. Еще душнее, чем с тобой… Нет, и с тобой душно. Везде духота и грязь.
Я принахмурился.
– Чего же ты, собственно, хочешь, Вера? Что тебе не нравится? Что это, романтизм, философия? Смысла жизни, что ли, не видишь?
Я приготовился с ней серьезно рассуждать. Она моя жена, я обязан поддержать ее в минуту сомнения. В былое время мне приходилось встречаться с такими мятущимися умами. Многие это переживают.
Но то, что она мне стала говорить, я никак не мог взять в толк. Душно да душно. Под конец она озлобилась:
– Почему тебя никто не любит? Почему? Вот ты и хорош, и добр с народом, а как только настоящий человек – он тебя не любит. И никого не любят из вас, «гуманных» людей, думающих об одной «пользе» да о собственном благородстве. Чувствуют, что вы в яму ведете. Если все будут, как ты, – все провалитесь!
– Вера, опомнись! За что ты так несправедлива? Разве я думал когда-нибудь о себе? Моя вера в человечество…
– В калошу пустую.
Я просто с ужасом на нее поглядел.
– И вот, ты правду сказал, все в твою сторону поворачивается. Торжествуй! Или такие, как ты, с верой в разумную пользу, в просвещение учебниками физики, – и все плодятся такие, с гордостью плодятся, – или уж бессловесные, офицеры с московским весельем… Что ж, подгоняй, подгоняй всех под свое благородство! Зашивай Божью землю в мертвую баранью шкуру! И зашьются, да долго еще проклинать всех вас будут!
Никогда я не видал ее в таком исступленье. Я уже не спорил, только успокаивал ее. Даже прощенья просил, уверял, что понимаю ее, хотя решительно не понимал, что с нею и откуда у нее эти дикие слова. Целую ночь мы проговорили. Я уж почти и не слушал ее. Да она все свое повторяла, что я, мол, думаю, что все к лучшему идет, а она видит, что все к худшему. Словом, что ни скажу – все наоборот…
– Вы, говорит, гуманники (слово такое выдумала!), душу человеческую потихоньку залавливаете, наваливаетесь на нее своим телом. А тело-то душой живо. Маленькую вещь позабыли!
Только что хотел ей возразить, а она прибавляет:
– А душа не одними чтениями по физике жива.
Так и махнул рукой. Чудит или нездорова. Я ей не противоречил, она успокоилась как будто. И даже нежна ко мне стала. Совсем мы было помирились.
А тут дела такие подошли. Простудилась она сильно вскоре после того. Стала у нее нога болеть. Дальше – больше. Возил я ее по докторам. Пользы не было. Я назначение сюда, в этот город, получил. Больную ее и перевез. Тихая такая стала, покорная. Летом на кумыс ее со знакомыми отправил. Болела она у меня года два, если не больше. Сильно страдала. Ногу свело, ходить совсем не могла. На третий год я ее повез в Москву. Там ей прижиганья стали делать. Что она вытерпела! Однако ж после того начала поправляться и ходить, прихрамывала только немножко.
IV
– Я знаю, – продолжал Иван Васильевич, помолчав, – вы меня спросите, не была ли Верочка религиозна? Так нет; ничего в ней этого не замечалось. Особенной религиозностью ее упрекнуть было нельзя. В церковь, конечно, ходила иногда, службы большие бывают, говела, как полагается – у нас ведь все на виду, – ну а так, чтобы поститься, молиться, ханжество какое-нибудь – ни-ни! Ничего этого не было.
Да у нас, знаете, и трудно клерикальностью особенно увлечься. Со священниками мы живем в эдакой житейской дружбе, семейно знакомы, всячески привыкаем к ним; с другой стороны, сказать вам правду, священники наши с женами – наименее культурная часть городского общества. Как бы, что ли, неровня нам немножко, и все это чувствуют, и они сами прежде всего, что им, конечно, делает честь. Я, вы понимаете, не о барстве говорю, сами можете судить, а об общем, что ли, уровне умственного развития. Оно и естественно: академисты там и другие, если по чисто ученой части – в монахи идут, или, если умный даже и священник, понявший моральное, нравственное значение религии, ее истинный исторический смысл, – он сейчас в деревню не пойдет, его место где-нибудь в Петербурге; деревня еще до него не доросла, а там он полезен. К нам идут наши же, большей частью из-за хлеба: поучится в городе в семинарии, свой же брат мужичок, – и готово. Пасет стадо понемножку. В догматах и в прочем выученном крепок, разъяснить, коли нужно, бабе, которая икона, Владимирская или Казанская, по воздуху шла, или которой из них надо молебен служить от потери зрения – может; чего ж еще? Друг друга они понимают с мужиком, потому что до семинарии-то вместе парнишками раков ловили; такой батюшка не мудрствует, а потому в православии крепок, в ересь его не свернешь. Вот недавно даже у нас мужичка совсем простого в священники поставили, – в свое же село. Он, правда, надела не имел, в уездном училище учился – не кончил, – так, перебивался кой-чем; агентом от товарищества машинок «Зингер» был, все разъезжал по уезду; да со священниками нашими и сошелся, понемножку миссионерить начал, перенял у них; ведь нашу сторону знаете, раскольников у нас – страх! Понравился нашим батюшкам, они и устроили ему как-то. Попит теперь в селе, ничего.
В городе, конечно, пообразованнее немножко батюшки, да и понатерлись, а все-таки, знаете, вроде этого. Оно для их положения и лучше. Спокойнее. Я так смотрю, что все это пока нормально и необходимо для будущего, когда силою вещей дело повернется в разумную сторону.
Вот говорил я вам о нашей губернии: у нас и раскола, и штунды, и молокан, и других разных сект – видимо-невидимо; однако теперь уменьшается. Отчего? Думаете, от миссионерства? Ничуть. Кого там миссионер наш обратит и куда? Разве какого-нибудь, кому не удобно в секте оставаться, по делам, что ли. А уменьшаться стало силою вещей. Ветер с другой стороны подул. Прежде, бывало, им всякое выслеживанье, преследованье, с серьезностью к ним, с опаской – они и топорщатся. Повоюем, мол! Знай наших! А нынче – и глядеть-то на них очень не хотят. Еду я, например, по уезду, случится там что-нибудь; в веру ихнюю я даже и не вникаю, спрашиваю для формы: молоканин? старовер? Ладно. Штундист? И то ладно; подай штрафик там, какой ни на есть, и продолжай, коли охота. Они видят, староверы особенно, что никто ими даже не интересуется, хвать – и осели; дух-то воинственный поспал. К работе повнимательнее, глядишь – ребят в школу к попу посылают. Мальчишка подрастет, поосмотрится, видит – церковнику-то времени побольше, поспокойнее, повыгоднее; иной и в семинарию угодит. Так тихо-мирно время-то свое и берет.
Иные, скажу вам, всячески меня заинтересовывали: мы, говорят, ни молокане, ни штундисты, ни баптисты. Кто же вы? Духоборы? – Нет. – Кто же? – Мы, говорят, «ищущие». У нас, говорят, совсем не то. – Я, однако, не стал вникать. Такой, объявляю им, секты нет, я вас запишу молоканами, мне решительно все равно. А если вам по существу угодно говорить – идите к батюшке, может быть, он вас определит. Уж не знаю, ходили ли.
Впрочем, как народ – сектанты ничего; даже потише и поначитаннее церковных; чтение только у них несуразное. Вбок все пошло. Духоборы эти да толстовцы – тоже, по-моему, ненормальное, потому что преждевременное явление.
Однако я от рассказа моего отвлекся, извините. Отступление, впрочем, небесполезное, потому что Верочка моя, как поздоровела и переехали мы в наш город, понемногу стала этими верованиями интересоваться. Как-то даже со мной, для прогулки, в село Безземельное ездила. Толковала с ними, иных звала в гости. Я – ничего; она и раньше, давно, народом интересовалась.
– Ты бы, – говорю, – Вера, чем слушать их, почитала бы им что-нибудь, рассказала бы.
– Что я им расскажу? Чему их научу? Я сама ничего не знаю.
– Ну, милая, мужика всегда есть чему поучить. Она смеется.
– Ты с ними не говоришь, так и не суди, что они знают и чего не знают. Впрочем, пусть они ничего не знают. Мне с ними не душно. А ты, вот, знаешь, что надо жить во имя человека, и духота от твоей жизни. Не запрячешь жизнь только в человека.
Вижу – раздражена, я молчу. Оставил ее. Пусть ищет неведомо чего с этими «ищущими». Поздоровела – опять стала против меня раздражаться.
Давно уж у меня мысль одна была. Верочка, думаю, не у дел, был бы ребенок – ничего бы этого не случилось. А как взять на воспитание ни с того ни с сего? Однако тут мне помог случай. Сама Вера захотела.
Умерла у нее сестра сводная в губернском городе. Замужем была за писцом каким-то, муж еще молодой, детей штук пять, беднота. Младшему мальчику, Андрюше, всего десять месяцев. Да еще болезненный мальчик.
Приехала Вера из города серьезная. Потом просит меня: