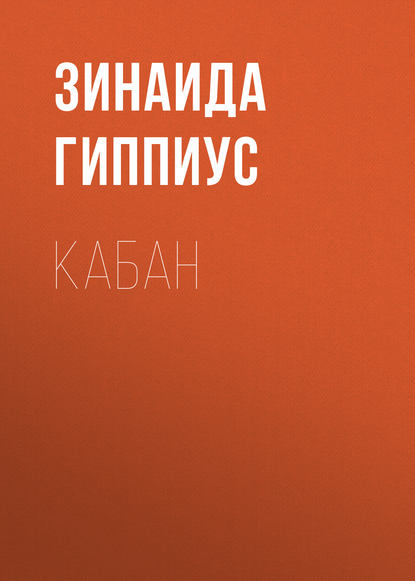По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кабан
Год написания книги
1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего, мы познакомимся.
Я с удивлением поднял глаза. По-моему, у гувернантки должен был быть другой голос. Я увидал Людмилу Федоровну. Она показалась мне странной, простой, низенькой, худенькой, хотя не слишком тонкой, и такой молодой, что я улыбнулся. Она, вероятно, сама меня боялась – по крайней мере, я бояться ее перестал и смело взглянул ей в глаза. Лицо у нее было не очень красивое, довольно плоское, хотя приятное, с широкими губами, смущенно улыбавшимися. Голубые глаза она щурила, белокурые хорошие волосы были со лба гладко-прегладко зачесаны назад.
Мама оставила меня с Людмилой Федоровной и ушла. Мы стояли друг около друга и молчали: я улыбался с напряжением, ничего не мог сказать, и она тоже. Наконец, после нескольких минут, она сказала:
– Вам семь лет?
– Семь…
Я ответил и замолчал, а потом мы пошли вместе к дому, и в тот вечер разговор уже не возобновлялся. Мама отправила меня спать.
На другой день Людмила Федоровна показалась мне еще более молодой. Она мне совсем не нравилась, но я радовался, что ее нечего бояться, а она, вероятно, думала, что нравится мне, и тоже радовалась. Мы стали заниматься. Она объяснила мне, что я написал неверно: «ф столе». Я почему-то обиделся, вспомнил, как, когда я это писал, я был еще свободен, без гувернантки… Мне стало жаль себя, и я заплакал, Людмила Федоровна вскочила, испугалась, хотела бежать за мамой, но я одумался и, высморкавшись, решил иметь характер, не ныть и писать «в», а не «ф».
В свободное от занятий время – которого, впрочем, было теперь не очень много, ибо Людмила Федоровна с жаром принялась учить меня и по-французски, и по-немецки – мы ходили гулять. Людмила Федоровна еще лучше Поли бегала по песчаным горам, и я был доволен. Мы в первый день, не теряя времени, отправились в рощу за рельсами, к большому дому. Я с трепетом смотрел на частый ряд окон, делавший дом похожим на фабричный. Вглядывался в крышу, в стены, но ничего интересного не увидал. Дом был как дом, белый, старый. С одного бока к нему примыкал сад, или, вероятно, огород, потому что не было видно деревьев из-за высокой каменной ограды. Калитка туда была из первого двора, который уж показался мне совсем обыкновенным, только очень пустым. Мы заглянули в растворенные настежь ворота. Я сказал Людмиле Федоровне, что этот дом теперь, с недавних пор, принадлежит маминой подруге, что мы можем найти садовника и попросить его пустить нас в сад. Но Людмила Федоровна ответила, что лучше в другой раз, а теперь жарко и пора домой.
На возвратном пути я рассказал моей гувернантке о старом садовнике, которого зовут Дементий Кабан, и о том, что наша Анна и другие считают дом «нечистым».
Людмила Федоровна сделала презрительную гримасу и громко расхохоталась.
– Вот если б вы это моему брату сказали! Не погладил бы он вас по головке. Стыдились бы повторять всякий вздор.
Об этом брате Людмилы Федоровны я уже не раз слышал. Людмила Федоровна делалась на себя совершенно не похожей, когда говорила о брате. Я знал, что он «университант» в Петербурге и необыкновенно умен. Людмила Федоровна тоже училась в петербургском институте, но познакомились и сошлись они здесь, в нашем городе, весной, когда Людмила Федоровна приехала к замужней старшей сестре, по окончании института, и брат приехал тоже. Людмила Федоровна уже сообщила мне, что осенью она едет на высшие женские курсы и что вообще брат «открыл ей глаза» и «указал путь». Многое мне казалось туманным в речах Людмилы Федоровны, брата же я смутно и деятельно ненавидел.
– Ну, и что же бы тут мог сказать ваш брат? – спросил я угрюмо. Смех Людмилы Федоровны показался мне «нарочным».
– Брат сказал бы, что это бабьи бредни. Ничего «нечистого» нигде нет, есть природа и ее законы, которые следует изучать.
– Нельзя все изучить.
– Как нельзя? Наука идет вперед большими шагами. Скоро все будет в нашей власти, все объяснено, изучено, исследовано. Уголка не останется!
– Черта нельзя изучить. Он сквозь землю проваливается. Людмила Федоровна всплеснула руками.
– Это ужасно, ужасно, Витя, что вы говорите! Мне стыдно за ваше невежество! Какие же бывают черти? Вы мальчик умный, соображаете. Ничего этого нет. Есть только то, что мы можем ощупать, понюхать, увидеть, – словом, исследовать каким-нибудь из наших пяти чувств. Поняли? Остального же ничего нет.
– Ну, это тоже… Это я не знаю…
Я не мог найти возражений на частую и звонкую речь Людмилы Федоровны, но она мне казалась такой обидной, что я надулся и хотел заплакать.
– Что же, – начал я наконец, – значит, и ада, и рая нет? Ведь никто не видел ада…
– Ну, это вопрос сложный, – хитро улыбнувшись, сказала Людмила Федоровна. – Вот вырастите сначала, познакомитесь с умными людьми… Батюшки, васильки, васильки! – вскрикнула вдруг Людмила Федоровна совсем другим голосом и бросилась к цветам.
Рожь на песке была редкая, вся совершенно сквозная, шуршала сухо, как бумага, а васильки в ней росли бледные, но Людмила Федоровна была рада и таким. В лице у нее уже не было никакой презрительности, губы широко улыбались. Скоро мы сидели на песчаном пригорке, и Людмила Федоровна, напевая что-то про себя, плела венок из бледно-синих васильков. Я все еще думал о ненавистном брате и мучился, но не хотел говорить, чтобы ей не напомнить. Она же, как будто, совсем забыла о нашем разговоре и была иной, гораздо более приятной.
– Витя, вы любите васильки? – спрашивала она меня. – Они мне столько напоминают… У меня была подруга в институте, она мне написала стихи о васильках… Знаете, что я вам скажу? Вы очень хороший мальчик… И способный… Мы ведь с вами приятели?
– Приятели, – сказал я и, еще хмуро, улыбнулся. Людмила Федоровна вдруг показалась мне маленькой девочкой, меньше меня.
– Так вот, хотите, будем на ты? У меня в городе было два мальчика, ученики мои, я их звала на ты, и они мне говорили «Люся» и «ты». Тогда мы совсем сдружимся.
Я опять улыбнулся. Мне и хотелось, и было стыдно, и как-то чудилось, что этого не следует.
– Как же? – сказал я. – Сразу нельзя. Я и не умею…
– Вот, не умеете! Это не трудно. Меня многие даже из классных дам звали Люсей. М-me Снор бывало кричат: Люся, вы опять мечтаете! Я, действительно, была ужасная мечтательница. Облако ли вижу, цветок – задумаюсь так, что ничего не слышу…
– А вот как же, – прервал я ее вдруг со строптивой радостью, неосторожно, – значит, и мыслей вообще нет? И как же их изучать? Ну, они в мозгу, так голову, что ли, разбить человеку? Что ж про это брат ваш говорит?
Людмила Федоровна покраснела, встала и произнесла с достоинством:
– Ну, об этом мы поговорим в другой раз. Надо подождать, пока вы подрастете. Брат мой чужд нелепостей, он признает лишь здравый смысл. А теперь идем, нас ждут дома.
Я покорно пошел за своей гувернанткой. Она выступала степенно и сосредоточенно, губы не улыбались. Полусплетенный венок васильков остался на пригорке.
III
По ночам Людмила Федоровна читала толстые, тяжелые книги и утром выходила с красными глазами. Когда мама ласково упрекала ее, что она слишком много занимается, она говорила с необыкновенной серьезностью:
– Нельзя. Надо хоть немного подогнать умственное развитие. Брат говорит, что книги, которые он мне дал, – азбука, необходимая для каждого современного человека. И я положила себе их все прочесть до осени.
– Какие же это книги?
Людмила Федоровна называла скороговоркой какие-то имена, которых я никогда не мог запомнить, да и не старался. И тотчас же вскрикивала, обнимая маму (она к ней чувствовала необыкновенную любовь):
– Ах, душечка! Как трудно понимать – это ужас! Ужас! Я иногда два часа сижу над страницей – ничего не понимаю!
И они обе смеялись, и я смеялся, радуясь, что она не понимает братниных книг. Несколько раз я порывался в такие минуты сказать Людмиле Федоровне, что я ее буду называть «Люся» и «ты». Но не смел, а она опять становилась иной, говорила о брате, и опять я чувствовал ее чужой и ненавистной.
Была половина июля. Погода стояла жаркая, душная, без малейшего ветра. Мы и занимались лениво, и гуляли мало: днем палило зноем и от солнца, и от песков.
Мы давно не были на той стороне, и однажды, незадолго до заката, я предложил Людмиле Федоровне пойти в большую рощу.
Мы целый день спорили и ссорились, я делал ей назло, а она подсмеивалась надо мною и восхваляла брата, который будто бы знает столько, сколько мне не узнать и до старых лет, потому что у меня мозги развиваются неправильно и наполнены пустяками. Я не отвечал прямо на эти оскорбления, но затаивал в себе.
И теперь я еще дулся и молчал. Мы шли по роще. Сосны здесь были громадные, редкие, голые, прямые до удивления и такие ровные, что я не мог заметить, где вверху они начинают сужаться. Травы и дорог не было, только опавшие иглы желтели, скользкие, как лед. Низкое солнце бросало лучи на стволы сосен, оставляя в тени верхушки. Сухая кора стволов горячо алела, и вся роща насквозь блестела и светилась.
– Вот помните, Людмила Федоровна, – вскричал я, – мы читали сказку о золотом саде? Вот они, червонные деревья, правда? А мы как Френцель и Лиза…
– Видите, – сказала наставительно Людмила Федоровна. – Вам кажется, что это деревья из сказки, а между тем это простые сосны, освещенные обыкновенным заходящим солнцем. В данном случае это уж чересчур ясно, и вы отлично знаете, что это сосны, но иногда вы можете поверить иллюзии, а между тем все решительно может быть объяснено каким-нибудь простым явлением природы.
– Ну, это опять брат ваш говорит?
– Конечно. Что же, вы хотите, чтобы брат верил в лешего и в золотые деревья?
Я опять надулся и стал думать о брате и о своем сегодняшнем сне. Этот сон я представлял себе ясно, но чувствовал, что не сумею рассказать, и потому молчал. Я видел большую черную яму, провал без концов и без дна, довольно широкий. На одном берегу лежали грудами толстые книги в переплетах моей немецкой грамматики, на них сидел брат и сильно их изучал. На другой стороне бегали домовые, лешие, русалки и карлики. Им было очень весело и приятно, и я радовался, что я с ними. Они играли со мною и щекотали меня. Но брат на той стороне все поспешнее и поспешнее изучал свои книги и порою, оторвавшись от них, грозил русалкам кулаком, щелкал зубами и кричал:
– Постойте! Доберусь я до вас! Я вас изучу! Изучу! Но русалки хохотали, вертелись кругами и отвечали: