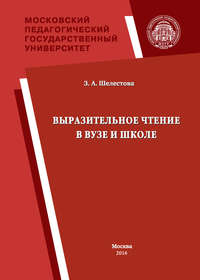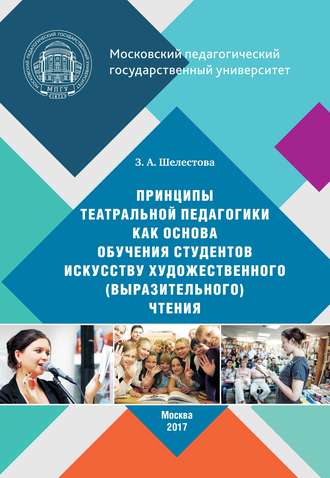
Принципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения
На наш взгляд, в искусстве чтения последовательность речевого воздействия исполнителя будет несколько иной: Т – З – Ц – Р (текст, замысел, цель, реакция). Чтец имеет дело с уже готовым авторским текстом, который предстоит оживить. Создавая произведение, писатель исходит из определённого замысла, выбирает слова, строит предложения таким образом, чтобы запечатлеть увиденное в окружающей действительности и убедить изображённым читателя, донести до него свои мысли, чувства и переживания. Задача чтеца – разгадать замысел автора, логику его мыслей, чтобы став его союзником, соавтором, суметь достичь той же цели – убедить слушателей в правильности мыслей, идей, убеждений сценического образа рассказчика, в облике которого он выступает, оказать воздействие на их эстетическое сознание. Следовательно, логика речи исполнителя, как и всякого говорящего – категория замысла. Для осуществления своей цели (сверхзадачи) чтец должен владеть системой логических доказательств.
Логика речи связана с теорией информации и с различными разделами языкознания, в частности с учением об актуализации высказывания. По мнению В.В. Осокина [319], актуализация включает в себя три действия: 1) актуальное членение; 2) ритмико-интонационное членение; 3) смысловое выделение соответствующих слов с помощью логических ударений. На базе одного и то же предложения могут возникать разные высказывания, соответствующие то одному, то другому намерению говорящего: «Я люблю твои сказки», «Я люблю твои сказки», «Я люблю твои сказки». И т. д.
Намерение – основа интегрирующего речевого акта (ИРА), считают Н.Д. Арутюнова, И.М. Кобозева, М.А. Дмитровская и др. Ученые отмечают, что речевым действиям свойственны намерения, мотивы, цели (явные и скрытные), оценки. Речевые действия нуждаются в интерпретации, потому что всегда обращены к адресату. Следовательно, любое высказывание должно, по мысли Н.Д. Арутюновой, удовлетворить требованию истинности. «Установка на истину не может избежать диалогичности» [165, с. 17]. И.М. Кобозева и Н.А. Лауфер [205] предложили условно разбить процесс понимания на два логических этапа: 1) языковое, или поверхностное, и 2) интерпретирующее, или глубинное, предполагающее извлечение из сообщения скрытой информации. В любой коммуникативной ситуации всегда присутствуют три участника: автор – интерпретатор – аудитория. Каждый из них строит свое представление о сообщении. Чтец в роли интерпретатора помогает слушателям понять замысел автора, выражает свое отношение к нему, но не навязывает своего личного мнения, потому что восприятие и понимание – область знания, а интерпретация – область мнения (полагания) [16]. Например, фраза: Он хороший человек требует этической мотивировки: Почему ты так считаешь? Для каждого конкретного человека этические оценки «имеют статус субъективной истины» [129, с. 52]. По мнению М.А. Дмитровской, их можно оспорить, но нельзя опровергнуть. Такие оценки не являются эстетическими, которые всегда опираются на знания. А если знания нет, то и оценка не является эстетической.
При чтении текста нужно искать и находить такие варианты интонации, которые запрограммированы в нём автором. Московский Художественный театр заслуженно называли театром автора [242]. Умение говорить и читать с учётом ритмико-интонационного членения авторского текста делает речь стройной по форме, понятной по содержанию. Разметка текста по фразам и тактам помогает чтецу глубже вникнуть в смысл каждой фразы и выявить оттенки авторского эмоционального отношения. Основным средством актуализации устной речи является интонация [2; 19; 35; 46; 56; 168; 319; 455 и др.]. В понимании термина интонация (от лат. intono громко, вслух произношу) нет полного единства. Так, например, ленинградская фонологическая школа рассматривает интонацию как составную часть фонетики, а московская школа различает фонетику как раздел языкознания и интонацию как сложный комплекс просодических элементов, включающих в себя: мелодику, ритм, интенсивность, темп, тембр и логическое ударение [19]. Наиболее распространённым является понимание интонации как средства, включающего в себя: 1) изменение тона голоса по высоте, т. е. его мелодическое повышение или понижение. 2) изменение темпа речи, т. е. его замедление или ускорение; 3) логические, психологические и межстиховые паузы; 4) тембральные изменения, происходящие в связи с изменением состояния говорящего [319]. Мы в своем исследовании исходили из понимания С.И. Бернштейном [35] интонации как сложного комплекса суперсегментных явлений, «соотносимых с целым высказыванием и либо служащих для выражения грамматических категорий высказывания (модальность, коммуникативный тип), либо выступающих как средство актуального членения, выделения степени важности и т. д.» [35, с. 165]. Л.В. Бондарко [46] определила фонетические средства интонации (мелодику речи, ее интенсивность, темп, паузацию), а также функции интонации как важнейшего средства живой речи. Особое значение для нашего исследования имеют функции, которые: а) передают важнейшие коммуникативные значения (повествование, вопрос, побуждение и др.); б) несут информацию об эмоциональном состоянии говорящего; в) передают отношение говорящего к содержанию своего высазывания или высказывания собеседника. Кроме того, Л.В. Бондарко выделила стили произношения (торжественно-официальный, нейтральный и разговорный) и типы произнесения как способы реализации в речи интонационной модели высказывания (полный и неполный) [Там же]. Для связной речи характерна спонтанность. В речи дикторов, читающих готовый текст, по мнению большинства авторов, спонтанность отсутствует.
Однако если звучащий текст представляет собой озвученный вариант письменного текста, отмечает Г.Н. Иванова-Лукьянова [168], то его ритмико-интонационные характеристики отражают не только лексико-грамматические, стилистические и экспрессивно-модальные знания, заложенные в тексте, но и дополнительные знания, привнесённые в звучащий текст говорящим. Автор, предлагая различать интонацию языка и интонацию речи, считает, что интонационные конструкции Е.А. Брызгуновой [56] помогают записать звучащий текст в интонационной транскрипции. «Однако живая речь даёт такое разнообразие интонационных контуров, что семи ИК оказывается недостаточно, и исследователи звучащей речи пользуются различными переходными конструкциями, обозначая их: 2–3, 3–2, 4–1 и т. д. Но и этого оказывается недостаточно» [168, с. 10]. Г.Н. Иванова-Лукьянова советует применять два вида интонационных транскрипций: одну для обозначения интонаций языка, а другую – для обозначения интонаций речи.
А.Н. Петрова [329] считает проблему интонации узловым вопросом театральной педагогики. В ней отражаются различные языковые явления, в том числе и нелингвистические. По словам Н.И. Жинкина, «интонация – это действительность» [145]. Вне интонации нельзя произнести ни звука, ни слова, ни предложения, через интонацию выявляется смысл речи, её подтекст. К.С. Станиславский понимал интонацию как воплощение действия. Работа над интонацией не в том, чтобы придумать её: «Она является сама собой, если существует то, что она должна выражать» [416, с. 3, 329]. Исходя из концепции К.С. Станиславского, А.Н. Петрова приходит к выводу, что интонационный рисунок предложения не совпадает с рисунком фразы: «Интонация изолированного предложения определяется его конструкцией, а интонация фразы в речи – её подтекстом» [329, с. 105]. В своей речи мы свободно пользуемся интонацией, не думая о ней, т. к. говорим о том, что нас волнует, чего мы хотим добиться. При чтении же вслух мы вынуждены сознательно работать над интонационной формой. По мнению Г.В. Артоболевского [15], интонационная выразительность складывается из логической, образно-эмоциональной и стилевой выразительности.
Раздельность речи – первое условие её понятности. Логически грамотная речь членится на отдельные отрезки, разделённые остановками, логическими паузами. Различают паузы не только логические, но и психологические; физиологические; межстиховые, цезурные и (в дольниках) ритмические. Логические паузы организуют речь, сообщают ей ясность и четкость, помогают глубже вникнуть в её смысл. Длительность пауз находится в непосредственной связи со степенью завершённости мысли. Но как узнать, где и какие паузы нужно ставить? На помощь приходят правила расстановки логических пауз, основанные на законах грамматики. Знаки препинания в той или иной мере выражают смысловые связи, существующие между словами. Однако грамматика помогает нам наметить лишь речевые звенья, но точно определить их границы позволяет только анализ текста по мысли, который при наличии связного текста, а не одного изолированного предложения, всегда предполагает учет контекста. Кроме того, интонация и пунктуация не всегда соответствуют друг другу, интонация членит речь гораздо детальнее, чем пунктуация, отмечает Г.В. Артоболевский, «в художественном чтении нельзя механически выполнять знаки препинания» [15, с. 75]. Бывает, что по правилам пунктуации знак не нужен, однако смысл фразы, выведенный из контекста, требует этого знака, и, наоборот, грамматические знаки в некоторых случаях не требуют никакого интонационного выражения. Подтверждение мысли Г.В. Артоболевского мы нашли в работе А.М. Пешковского, который был убежден, что знаки препинания, кроме запятой, «отражают не грамматическое, а декламационно-психологическое расчленение речи» [333, с. 133]. Ритм и интонация предложения по природе своей – явления не грамматические. Особенно, по мнению лингвиста, точка пренебрегает грамматикой и следует за психологией. Случаи употребления черты (тире) автор разделяет на читаемые и не читаемые: шагнул – и царство покорил (читаемый знак), бедность – не порок (нечитаемый знак). Ученый считал, что сближение пунктуации с выразительным чтением на уроках русского языка научит детей мысленно слышать то, что пишешь. «Чем больше ученик будет читать вслух, тем лучше он будет писать» [Там же, с. 142]. Чаще несоответствие интонации и пунктуации происходит при озвучивании текста. Например, в отрывке из повести Н.В. Гоголя «Шинель» исполнитель, говоря синтаксически в третьем лице, имеет все основания интонационно вести речь как бы от первого лица, что изменит некоторые знаки препинания: Акакий Акакиевич… изъяснил даже чаще, чем в другое время, частицы «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель.
Некоторые чтецы сокращают, подвергают обработке прозаический текст, переводя его в так называемую драматургию чтеца. Например, тогда, когда действия говорящего можно передать в интонации, убираются авторские ремарки. Но обращаться с авторским текстом следует очень бережно. Для того чтобы до конца понять мысль автора и ощутить звучание текста, Б.Г. Моргунов [296] советует заново построить фразу в прямом порядке слов, многократно повторить её вслух, а затем произнести в том порядке, в котором она дана автором. Например, из Дубровского А.С. Пушкина: В одну минуту пламя охватило весь дом; Весь дом // в одну минуту охватило пламя. Большую роль в искусстве чтеца (актёра) играет знание языка молчания, его азбуки, по выражению А.Я. Бродецкого [53]. Во время молчания как определённого психологического состояния человека продолжается обмен информацией. К.С. Станиславский [416] утверждал, что молчание (паузы) и взгляды несут информацию о принятии решения; о реакции на интенсивность эмоции, её разнообразие; о выражении уважения, завершении мысли и т. д. По его мнению, актёр (чтец) должен вступать в общение ещё до того, как начал говорить.
Логическое ударение – это выделение с помощью звуковых средств слова или группы слов среди других слов в предложении или в группе предложений. Его цель – выделить наиболее важные для донесения мысли слова, выражающие суть того, о чем говорится в предложении или в целом отрывке. К.С. Станиславский говорил: «Ударение – указательный палец, отмечающий самое главное слово во фразе или такте!» [416, т. 2, с. 122]. М. Германова [97] указывает на четыре способа выделения ударных слов: 1) более замедленным произнесением; 2) усилением голоса; 3) изменением высоты голоса; 4) паузой перед словом (а иногда и после него). По большей части мы используем в речи не один способ выделения слова, а одновременно несколько способов. А.Н. Петрова считает, что невозможно и бессмысленно разграничивать нахождение логических и психологических ударений в работе над текстом: «Нельзя сначала передать информацию, а уже потом своё отношение или свою задачу» [329, с. 89]. Одним из способов проверки правильности логического ударения служит постановка вопросов: Вы меня звали?/ Вы?/ Вы меня звали? /Меня?/Вы меня звали?/ Звали?/ Можно использовать также противопоставление подходящего по смыслу слова логическому центру: Дай мне воды/ а не чаю/. Дай мне воды/ а не ему/.
Следует учитывать, что во фразе слово не столько ударяется, сколько именно выделяется. Станиславский избегал термина ударение, который, говорил он, толкает на звуковой удар, напор, между тем как главное слово в предложении выделяется не столько усилением звука, сколько изменением его интонации, ритма и постановкой пауз. Отдельный речевой такт редко содержит в себе законченную мысль. Ударения каждого речевого такта должны быть подчинены главному ударению целой фразы. Не до конца ещё решён вопрос о классификации ударений. Но логическое ударение надо отличать от словесного, тактового и фразового. Например, фразовое ударение, в отличие от логического, обязательно наличествует в любом высказывании; логическое ударение может совпадать или не совпадать с фразовым, его может и не быть во фразе или речевом такте. Логическое ударение – это всегда намеренное подчёркивание с целью выделить тот или иной смысл, логически ударные слова обозначают всегда какие-то опорные пункты мысли, тогда как ритмически выделенное слово обычно не даёт никакого представления о смысловом содержании фразы или такта. По сравнению с другими типами ударений логическое ударение принимает участие в выявлении эмоциональной стороны высказывания, выделение логически важных слов всегда в какой-то мере сопровождается выражением авторского отношения, авторской оценки. Но как узнать, какие слова являются главными во фразе, какие из них нужно выделить? Точность определения ударных слов можно проверить скелетированием, или схематизацией, и применением правил логического чтения. Иногда для того, чтобы найти самое главное слово, стоит изложить высказываемую мысль своими словами. Полезно попытаться отбросить слова, без которых можно обойтись, и оставить только те, в которых выражен смысл высказывания, – оставить как бы скелет фразы. Как из предельно лаконичной телеграммы мы можем понять, что нам сообщают, так и из схемы мы поймём главное, то, о чём хотел сказать автор.
В процессе речи «уровень языково-информативный и речесмысловой тесно переплетаются, взаимопроникают друг в друга. В таком же подвижном состоянии находятся законы речи и правила речи», – считает А.Н. Петрова [329, с. 95]. К законам логики речи, в отличие от перечисленных выше правил речи, она относит: закон словесного воздействия, закон сверхзадачи, закон контекста, или сквозного действия, закон перспективы, закон нового понятия, закон сравнения и противопоставления, закон раскрытия подтекста и закон создания в воображении чёткой и последовательной линии видений.
По мнению В.В. Осокина [319], особенно велика роль логического ударения в актуальном членении предложения, в соотношении данного и нового в речевом высказывании. Между смысловым членением (логическим, акцентным, актуальным) и грамматическим существует глубокая внутренняя связь. Члены предложения представляют собой «единство двух значений: синтаксического и значения коммуникативной нагрузки, смыслового веса, который распределяется отнюдь не по принципу: главным членам – главная роль [Там же, с. 95]. В коммуникативной нагрузке выделяются две взаимосвязанные части: исходный момент высказывания (основа, данное) и ядро высказывания (т. е. то, что составляет его непосредственную цель). Эта часть заключает в себе то новое, ради которого произносится данная фраза. Таким образом, чтецу в своей работе следует помнить, что смысловой анализ текста предусматривает строгий учёт важности ударных слов не на основе формальных признаков предложения, как требуют того традиционные правила, а на основе авторского понимания сути высказывания.
Изменение голоса по высоте называется логической мелодией, которая выражает развитие и направление мысли говорящего. Она заложена в каждой фразе произведения. Определить её можно, только прослеживая развитие авторской мысли. Движение голоса по высоте в момент развития и завершения мысли не является прямолинейным: только вверх или только вниз.
Следовательно, мы можем говорить о двух основных видах логической мелодии – мелодии завершённой и незавершённой. Повышение голоса всегда связано с развитием мысли, а понижение – с её завершением.
Логическая перспектива – это донесение основной мысли при чтении вслух предложения, цепочки из нескольких предложений, законченных по мысли. К.С. Станиславский называл перспективой «расчётливое гармоническое соотношение и распределение частей при охвате всего целого» [416, т. 3, с. 135]. Она даёт фразе движение и жизнь. Для того чтобы речь имела перспективу, надо всегда знать главную мысль отрывка. Выделив главное, надо суметь привести слушателей к финалу предложения, отрывка, рассказа. Донесение логической перспективы требует координирования различных по силе и качеству ударений. Это подобно разным планам в живописи, где наиболее важное выдвинуто на передний план; менее важное находится на втором, на третьем плане; наконец наименее важное почти незаметно, затушёвано. Логическая перспектива находится в зависимости от того, что важно для данного текста. Она зависит от идеи произведения и от задач исполнителя.
Выработать навык передавать логическую перспективу помогает работа над периодом, который всегда состоит из двух частей. Первая часть обычно бывает длиннее второй и содержит сложное перечисление, состоящее из нескольких частей. Эта часть читается с постепенным повышением голоса. Максимально голос повышается на главном ударном слове в конце первой части. Между первой и второй частями находится наиболее длительная пауза (автор часто ставит тут тире). При переходе ко второй части голос резко понижается. Вторая часть обычно короче первой и называется заключением. Тут ставится завершающая точка. Чтобы закрепить результаты логического разбора, проводится логическая разметка текста и чтение его вслух. Прослушивая себя, надо проследить, не искажён ли смысл фразы. При этом читать лучше не в пустое пространство, а воображаемому или действительно присутствующему слушателю, стремясь при этом, чтобы тот верно понял и представил себе услышанное. Л.М. Анкудович [10] советует учиться читать текст с листа, вырабатывая навык живо схватывать суть текста. Ее советы целесообразно подкреплять просмотром видеопрезентаций, составленных преподавателями сценической речи РУТИ (ГИТИС) и школы-студии при МХТ [351; 352; 428]. В искусстве речи и чтения не может быть рецептов. Универсальных правил, точно определяющих те или иные комбинации интонационно-звуковых средств, дать нельзя. Всё определяется требованиями смысла, ситуации речи, структурой текста, а также индивидуальными особенностями говорящего или читающего, его видением, эмоциональным восприятием. Свои умения и навыки по овладению логикой речи студенты показывают при составлении партитуры литературных текстов, выбранных для чтения.
3.3. Эмоционально-образная выразительность и ее роль в подготовке психологической готовности студентов к обучению искусству чтения
Выразительная речь и чтение развиваются сначала через тренинги, через систему игровых упражнений, индивидуальных и коллективных. Занятия по технике речи учат умению действовать словом точно, выразительно, психологически грамотно. А.Г. Кристи [231] к элементам органического действия относит: настройки к действию, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на ощущение, действие в условиях вымысла, развитие смелости и непосредственности, действие с воображаемыми предметами, взаимодействие с партнёрами и др.
В момент выполнения сценического действия актёр не должен уже думать о внимании, взаимодействии, логике и последовательности, чувстве правды, о мышечной свободе, дыхании, голосе, дикции, пластике и т. д. Ученик К.С. Станиславского, А.Г. Кристи вспоминает совет учителя: «Система должна быть не в голове, а в памяти ваших мышц» [231, с. 28]. Следовательно, в основе работы актёра (педагога) над собой должен лежать принцип: от сознательного овладения артистической техникой к подсознательному пользованию ею. Человек на вербальном уровне воспринимает только 15 % всей получаемой информации. Остальные 85 % принимаются невербально. По данным Е.В. Кожары [209], людей со слуховой доминантой – 15 %, со зрительной – 40 %, с кинестетической – 40 %. Мы работаем, главным образом, голосом, ориентируясь на слух. Чтобы успешнее войти во взаимодействие с другим человеком, лучше всего это сделать на его доминантном канале. При несовпадении репрезентативных систем разговор будет, что называется, глухого со слепым.
Т.А. Савина [375] считает, что педагог должен обладать высокой степенью эмоциональной устойчивости, которая является критерием профессионализма и эффективности педагогической деятельности. Н.А. Подымов [337] к одному из средств преодоления психологических барьеров относит психологическую устойчивость – термин, который, по его мнению, шире термина эмоциональная устойчивость. Автор предлагает в качестве стратегии преодоления барьеров развивать психологическую защиту, которая обеспечивает снижение эмоционального напряжения, тревоги, дискомфорта, страха. Существуют более 150 видов страха, и на одном из первых мест стоит социофобия, боязнь публичного выступления. Выразительное чтение перед слушателями во многом помогает преодолевать социофобию.
И.А. Автушенко [3] ввела понятие эмоциональный слух, назвав его шестым чувством – чувством партнера. Эмоциональный слух отличается от речевого слуха, который обеспечивает восприятие только словесной информации. Умение владеть (властвовать) собой – залог успеха во всём, но особенно в педагогической деятельности учителя. От умения управлять собой зависит мастерство учителя, поэтому ему необходимо овладеть основами техники саморегуляции, умением управлять своим эмоциональным состоянием во время общения, осуществлять психическую настройку на предстоящую деятельность. Так как эмоциональное напряжение сопровождается напряжением мышц, то начинать упражнения по психотехнике речи целесообразнее с регулирования самочувствия, снимая мышечное напряжение. Например, в таких упражнениях: 1. Встаньте, поднимите руки вверх, пальцы сожмите в кулак. Мысленное действие: хочу быть сильным, крепким. Затем расслабляемся (руки падают вниз). 2. Поза и маска релаксации: сядьте в позу отдыха, опершись на спинку стула. Опустите веки, язык приложите к корням передних зубов (звук Т), пусть нижняя челюсть слегка отвиснет. При этом полезны самоприказы: расслабить рот, брови, веки, щеки, губы, мышцы шеи и плеч, кисти рук, ноги, живот. Вообразите, что отдыхаете на пляже. 3. С полным вздохом поднимите руки со сплетенными пальцами над головой. Упражнение на колок: ссутультесь, расслабьте мышцы спины и плеч, затем, откинув тело назад, наденьте его на позвоночник, как пальто на вешалку.
Для мобилизации самочувствия учителя эффективно применение метода физических действий. Физические действия должны соответствовать логике чувств. Мощным катализатором эмоциональных реакций является новизна предлагаемых обстоятельств в ситуации если бы. Как и артист, педагог должен уметь переноситься в воображаемые обстоятельства. Своеобразие творчества учителя, как и актёра, состоит в том, что он реализует творческий замысел через собственную личность. И актёры, и учителя постоянно находятся перед аудиторией и должны её завоевывать, у них много общего в эмоционально-коммуникативной сфере. Именно общение является движущей силой и театрального, и педагогического творчества.
Психофизическая гимнастика, считает А.И. Савостьянов [381], улучшает творческую работоспособность и коммуникативность. По его мнению, методы эмоциональной саморегуляции дают возможность укрепить нервную систему и вместе с ней весь организм, а также тренировать творческий аппарат в плане развития воображения, сосредоточенности, внимания, высокой эмоциональности, творческой мобилизованности. Учёный предлагает в психогимнастику широко внедрять методику саногенного мышления, разработанную Ю.М. Орловым [315], которая приводит к изменению некоторых умственных привычек, обеспечивает контроль над эмоциями, снимает внутренние конфликты и напряженность. Саногенное мышление позволяет создать собственное Я, которое приобретает невозмутимость, способность отстраняться от негативной ситуации, помогает научиться принимать себя и других такими, какие они есть.