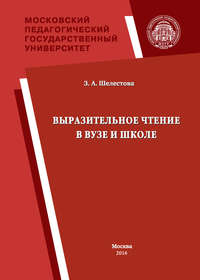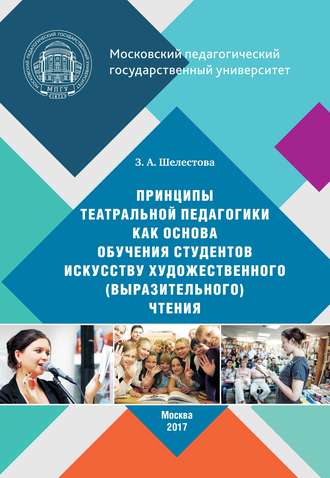
Принципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения
Основной закон чтения стихов – закон единства стихотворной строки, или закон изохронности: все стихотворные строчки в строфе должны быть произнесены в равные временные отрезки. Эта равновременность и создает ритм и музыкальность стиха.
Приближается звук,И покорна щемящему звуку,Молодеет душа.И во сне прижимаю к губам твою руку,Не дыша…Если при произнесении коротких строк этого стихотворения А.А. Блока заспешить, не продлить во времени выделенные в строку слова, стихотворная речь станет прозой. Нетрудно также заметить, какую дополнительную нагрузку получают выделенные поэтом слова, им приходится как бы растягиваться на целую строку. Создает ритм и фиксирует строку межстиховая пауза. Конец строки означает обязательную паузу, даже если предложение не закончено. Случаи, когда строка не представляет собой законченного смыслового отрезка, называются переносами, или зашагиванием. Зашагивание ведет к тому, что мысль заканчивается не в конце строки, а где-то в середине следующей, и это дает возможность сделать лишнюю паузу, чтоб передать взволнованность лирического героя.
Уловить ритм в строке помогает также цезура, благодаря которой при произнесении стих распадается на две ритмические волны. Цезура в отличие от паузы не останавливает движение голоса, а лишь приостанавливает его. Помимо ритма музыка стиха создается также аллитерацией. Дело в том, что некоторые сочетания звуков вызывают у нас определенный образ. Обязанность чтеца – научиться слышать музыку в любом звукосочетании и передавать слушателям. Например, в стихотворении «Осень» А. Пушкина при описании зимы явственно слышится магическая звукопись поэта. Приметы зимы улавливаются как бы в звуках скользящих по снегу полозьев:
Люблю ее С-нега: в приС-утСт-вии луны,Как легкий бег С-аней С подругой быСтр и волен….Читать лирические произведения, небольшие по объему, емкие по содержанию, лаконичные по форме, не так-то легко. Н.В. Гоголь писал: «Прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица: для этого нужно долго его изучать; нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно и душою и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его чтение» [105, с. 124]. Чтец уясняет обстоятельства, связанные с созданием стихотворения, продумывает отраженные в нем жизненные ситуации, определяет тему, идею, исполнительскую задачу. В принципе работа идет тем же путем, каким обычно пользуются при подготовке к чтению любого произведения, однако характер видений при чтении эпоса и лирики бывает различен. В первом случае в воображении чтеца последовательно развертывается кинолента логически связанных картин жизни, при исполнении лирики в воображении чтеца часто возникают лишь отдельные образы.
В литературоведении сложилась традиция делить лирические произведения по тематическому принципу. Однако такое деление мало что дает для исполнительского анализа произведения. Кроме того, например, в пейзажной лирике могут подниматься вопросы философского плана, гражданская лирика переплетается с любовной и др. На манере чтения, скорее, сказываются жанровые признаки произведений. В данном аспекте выделяют собственно-лирическую, эпическую и драматическую лирику.
Собственно-лирические произведения представляют собой «прямое излияние души поэта, который размышляет о собственных переживаниях, как бы погружая читателя в свой внутренний мир» [69, с. 217]. Примером открытого выражения лирического я является, например, стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил». Работая над ним, исполнителю необходимо помнить, что читать стихи поэта трудно, так как А.С. Пушкин – «художник исключительного охвата, и мнений о нем и личных образов поэта столько, сколько читателей и почитателей его» [15, с. 200].
Обаяние стихотворения – в богатстве личности лирического героя, не только в силе его искренности и в святости чувства к женщине, но и в том, что поэт считает любовь самым высоким чувством. Хотя в стихотворении употреблено прошедшее время, но на самом деле в нем сегодняшняя тоска, подавленная боль, сдержанное горе: Я вас любил так искренно, так нежно,/ Как дай вам Бог любимой быть другим. В этих строках – сила великой души, отступающей без упреков и жалоб ради покоя другой души. Поэтому-то мы и не можем согласиться с трактовкой данных строк В.Н. Яхонтовым, который делал паузу – «и с резким движением плеча, как бы отрубая, говорил с непередаваемым презрением: Как дай вам Бог любимой быть другим, вкладывая в эти строки содержания такое: "Никто, никогда тебя так не полюбит! Глупая женщина! Пушкина ты видела у своих ног и прошла мимо"» [14, с. 45]. Но не о себе, не о своем счастье думает герой, а только о ней, о той, которую любит. Выражение альтруистического чувства и должно лежать в основе исполнения этого стихотворения. Основной тон чтения – спокойный, сдержанный, но начиная со второй строфы ощущается постепенное нарастание напряжения. Внутреннее волнение передано поворотом местоимения так, которое следует выделить интонацией. Опираясь на свой жизненный опыт, личные впечатления, чтецу необходимо представить в воображении образы, на которых строится отношение ко всему изображенному. Однако исполнитель не должен подменять собой лирического героя. Задача так называемого самовыражения в лирике требует косвенного общения. Эпическая лирика воссоздает окружающих людей, вещи, черты наружности человека, раскрывает его внутренний облик, а также рисует природу. Повествовательные стихотворения – это предельно лаконичные рассказы о каких-то фактах, событиях, которые не изображаются детально, а лишь кратко обозначаются. Таковы, например, стихи Н.А. Некрасова, баллады В.А. Жуковского, некоторые произведения М.Ю. Лермонтова. Остановимся на стихотворении А.С. Пушкина «На холмах Грузии». Уже первые две строки представляют собой законченную картину природы, но в центре стихотворения – образ любящего человека. Пейзажная зарисовка лишь создает определенный душевный настрой – картины ночной природы созвучны печали. При чтении этой зарисовки важно правильное пространственное распределение образов – надо представить себе картину природы Грузии, услышать шум реки, ощутить ночную тишину, вникнуть во внутреннее состояние героя. Особая выразительность создается благодаря сочетанию контрастных по звучанию слов. В стихотворении контрастируют два основных чувства – грусти и любви; соответственно группируются и остальные образы: слова мгла, грустно, печаль, уныние противопоставлены словам легко, светла; ничего не мучит, не тревожит. Сочетание слов печаль и светла составляет эмоциональный центр стихотворения. Произведение представляет собой страстный монолог. Это подчеркнуто рифмой: мною – тобою. Лирический герой печалится от того, что любимой нет рядом, троекратное повторение местоимения тобой усиливает волнение и подчеркивает драматическую напряженность. Вслушивание в звучание стихов – важнейший этап работы. Особенно важны в стихотворении паузы, обозначенные многоточием и тире, что вызывает экспрессивный накал речи. Взволнованность повествования передается и ритмикой стиха – паузами, аритмией в седьмом стихе, цезурой. Разнообразие ритма создается членением стихотворения на три части, каждая из которых имеет свой ритмический узор. В произведении утверждается сложное и прекрасное чувство любви. Основная его тональность – глубоко затаенная, но светлая печаль, проникнутая мыслью о жизнеутверждающей силе любви.
О драматическом типе лирики можно говорить тогда, когда в ткань стихотворения проникает первоэлемент драмы – диалог, создавая ощущение живого общения между героями. В стихах этого типа на первом плане не столько самовыражение лирического Я, сколько внутренний спор, обращенный ко второму лицу. К этому типу лирики относится, например, поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Работа над драматической лирикой должна вестись как работа над ролью, предполагающая выстраивание линии взаимодействия героев. Поэма построена как спор-диалог, хотя слов собеседника юноши мы не слышим ни разу. Однако, стремясь подчеркнуть эту особенность, некоторые исполнители вносят излишнюю полемичность в рассказ Мцыри: начинают нападать на старика-монаха, упрекать его от лица героя. Вряд ли это справедливо. В какой-то степени Мцыри даже завидует своему духовнику, сознательно избравшему в качестве смысла жизни смирение, отказ от земных радостей и тревог, от борьбы. Но Мцыри – другой человек, поэтому он не смог принять монастырскую жизнь, она оказалась для него невыносимой. Три дня свободы стоили герою жизни, но он умирает несломленным и непокоренным. Очень часто поэму М.Ю. Лермонтова читают как предсмертную исповедь героя, потерпевшего поражение в борьбе с трагическими обстоятельствами, упиваются страданиями его и безысходностью, связывая их с якобы пессимистическими переживаниями самого автора, так и не нашедшего выхода из противоречий своей действительности. Однако такая интерпретация противоречит творческому замыслу поэта: мы не воспринимает поэму как произведение мрачное, исполненное отчаяния и безнадежности. На первый план произведения поэт выдвигает все же не страдания героя, а его любовь к жизни, к свободе, к родине. И чем лучше чтецу удастся передать счастье и радость, которые тот испытал за три блаженных дня свободы, тем ближе будет он к голосу автора.
В ряде лирических произведений прямое излияние души, рассуждение, описание и повествование составляют нерасторжимое единство. Необычайно разнообразна по степени выражения авторского сознания поэзия серебряного века с ее эстетизмом, склонностью к стилизации, патетичностью. Для художественного мышления ХХ века были характерны: новая, более сложная организация пространства и времени в произведении, масштабность образов, проникновение в невидимый мир, образное воплощение новых представлений о структуре мира, о взаимоотношениях человека и общества, человека и природы [322]. В поэзии ХХ века усиливается контекстуальная многозначность слова. Свободный ход ассоциаций создает структуру, аналогом и моделью которой является монтажный принцип: отдельные представления соединяются так, как следующие друг за другом кинокадры. Этот принцип «рождает сочетание картин, мыслей, образов, связь между которыми остается в подтексте» [322, с. 28].
Одним из важных способов изображения мира и обновления традиционных тропов в поэзии ХХ века является паронимия. Причем созвучия зачастую несут на себе печать рифмы. Например, времени бремя (О.Э. Мандельштам), шалью шелковой шаля (С. Кирсанов), чинная чиновница, задолицая полиция (В.В. Маяковский) и др. Заметим, что в творчестве А. Ахматовой, М. Волошина, Н. Гумилева, В. Ходасевича больше представлен классический стих, а паронимия – лишь частное явление. Для творчества В. Тушновой паронимия вообще не характерна, мало ее у Н. Рубцова, Н. Рыленкова, Ю. Друниной и др. Чтецу важно знать, что главное в творчестве того или иного поэта. У каждого из них свои темы и проблемы. Так, Н. Асеев тревожится о сохранении лада и гармонии в отношениях человека и общества, человека и природы, слова и мысли. М. Светлов боялся чувствительности, сентиментальности, умствования в стихах. В его голосе, его интонации есть что-то мягкое, душевное, чеховское, осторожная ирония. Особую трудность для исполнения чтеца представляет верлибр как форма версификации, принесенная в литературу авангардом. С формальной точки зрения верлибр – это стих, свободный от рифм и канонических ритмов. К нему обращались В. Брюсов, В. Хлебников, К. Бальмонт, А. Блок, А. Вознесенский, И. Бродский и др.
Чтение басен имеет свои особенности, обусловленные спецификой их жанра [470]. Остановимся на баснях И.А. Крылова, которые стали общепризнанным образцом произведений этого жанра. В них заключена вся житейская мудрость народа, его опыт [418]. Реалистические тенденции И.А. Крылова ярко сказываются на характерах его басенных персонажей. Баснописец настолько приближает поведение животных к поведению человека, наделяет такими живыми, реальными деталями, что мы видим за ними живых людей с их индивидуальными чертами.
Жанровые и стилистические особенности басен определяют и основные требования к манере их исполнения. Приступая к работе, чтец должен прежде всего разобраться в содержании басни. Ее дидактичность с особой остротой требует от него целенаправленности исполнения: зачем я это рассказываю, что хочу сказать своим чтением? Хотя идея часто оказывается сформулированной автором, чтецу важно сделать мораль убедительной. А для этого необходимо как можно конкретнее и нагляднее раскрыть слушателем характер каждого персонажа через описание его поступков и передачу его слов, отчетливо показать конфликт, на котором строится сюжет. Персонажи басни в интерпретации чтеца – это не олицетворенные добродетели и пороки, а живые люди с их характерными чертами, даже если описываются не люди, а животные, птицы, неживые предметы. Важно также, чтобы события и образы басни в представлении чтеца опирались на какие-либо конкретные явления современной ему жизни, что вполне допускает обобщенный характер басенного содержания. Например, в басне «Квартет» И.А. Крылов намекал на учрежденный Александром I Государственный совет. Однако басня эта с таким же успехом может быть направлена против любой организации, в которой сидят несведущие люди, деятельность которых бессмысленна и бесполезна.
Показ характеров персонажей – главное условие при чтении басен, но он необходим не сам по себе, а для выявления идеи произведения. Именно поэтому исполнитель во время чтения никогда не перестает быть рассказчиком и должен видеть персонажей как бы со стороны. Не изображать, не перевоплощаться в эти образы, а именно рассказывать о них. Показ персонажей может проявиться в передаче интонационного рисунка его речи, внешней характерности, манеры поведения. При этом следует помнить, что идейная функция персонажей в басне заключается в том, что они всегда являются носителями какой-то определенной черты характера, разоблачаемой или утверждаемой автором, следовательно, чтец должен особенно ярко передать именно эту ведущую черту характера, подчиняя ей все детали.
И. Ильинский [181], называя себя читающим актером, первоначально изображал животных, доходил до звукоподражания, так что кошка у него мяукала, собака лаяла. Но позднее он все больше отказывался от перевоплощения. До сих пор многие чтецы при исполнении басни С.В. Михалкова «Заяц во хмелю» настолько переигрывают опьянение Зайца, что трудно бывает даже разобрать слова, которые они произносят. Шатаясь из стороны в сторону, размахивая руками, они бессвязно бормочут что-то себе под нос. Основное – передача характера, а звериные маски – лишь прием более яркого изображения персонажа.
Однако другие требования предъявляются к чтению басен по ролям. Задача исполнителя – наиболее полно выявить характер воплощаемого им действующего лица. Он присваивает себе его мысли, чувства, побуждения, действия и в возможной мере интонационно перевоплощается в образ персонажа. Это обязывает его общаться не со слушателями, а со своими партнерами (кроме исполнителя роли от автора), воздействовать не на слушателей, а на партнеров. Чтец от автора остается рассказчиком, наблюдающим за происходящим, комментирующим сценку отдельными репликами-пояснениями, выносящим свой приговор продемонстрированному событию. Художественные особенности басни определяют и способы общения чтеца с аудиторией. Разговорность басни, ее близость к обычной устной речи, накладывает отпечаток на манеру исполнения: это своеобразная беседа со слушателями, требующая прямого общения с ними, обращения к ним. Чтец должен привлекать их к активному участию в рассказе, иногда как бы отвечая на предполагаемый вопрос: И чем же кончились забавы величавы?/ Синица со стыдом в-свояси убралась. Именно так, по воспоминаниям современников, читал свои басни автор: он их как бы не читал, а пересказывал [470].
Образ рассказчика в баснях И.А. Крылова близок к образу народного сказителя с характерными для него чертами: мудростью, простодушием, веселым лукавством. Однако он не старался встать в позу учителя жизни и как-то подчеркнуть свою мудрость. И.А. Крылов часто предоставляет возможность высказаться своим героям и даже рисует события с их точки зрения, т. е. как бы от их лица. Но за внешним спокойствием и объективностью чувствуются ирония и юмор человека мудрого, хорошо знающего жизнь и людей. Правдоподобие повествования обычно зависит от убежденности исполнителя. Он должен передавать содержание басни совершенно серьезно: как истинное происшествие, которое как будто действительно случилось. Уверенность в действительности событий достигается искренностью и доверчивостью рассказчика.
Басни И.А. Крылов обычно писал вольным стихом, для которого характерен разностопный ямб. Стихи эти нельзя превращать в прозу. Исполнение басен так же, как и стихов, требует соблюдения изохронности (равновременности), которая достигается удлинением межстиховых пауз при чтении несоразмерных строк. Мысли чтеца, заложенные в подтексте басни, должны опираться на образные представления, которые он наживает в процессе освоения авторского текста. Небольшой размер басни не оставляет места авторским описаниям, и чтецу необходимо дорисовать намеченные Крыловым образы и картины, обогащая их бытовыми деталями.
Таким образом, во второй главе мы пришли к выводу о том, что:
1. Развитие искусства художественного чтения связано с развитием литературы и театра. Его расцвет наступил в конце ХVIII – начале ХIХ веков благодаря публичным выступлениям писателей и актеров. Этапы становления искусства выразительного чтения теснейшим образом переплетаются с этапами становления театра. Так, работы В.П. Острогорского адресованы одновременно и актерам и педагогам.
2. Принципы искусства художественного чтения и его условия впервые были сформулированы А.Я. Закушняком, который предлагал не играть те или иные образы, а попытаться рассказать о них, сделавшись как бы вторым автором. Большой вклад в развитие методики выразительного чтения на основе системы К.С. Станиславского снесли Г.В. Артоболевский, В.В. Голубков, Т.Ф. Завадская, Б.С. Найденов, М.А. Рыбникова, Н.М. Соловьева, Н.Н. Шевелев и другие.
3. Основная проблема искусства чтения – проблема устности. Мы попытались выяснить, что такое выразительность речи и чтения с лингвистической, общефилософской и эстетической точек зрения, и убедились, что интонация живой речи всегда адекватна смыслу, а не значению (Н.И. Жинкин, М.М. Бахтин, А.Н. Леонтьев и др.). В отличие от письменной речи, устная речь – всегда живое общение. Эстетическое предполагает наличие другого сознания, к которому направлено выражение (Е.В. Басин, М.М. Бахтин, Л.С. Рубинштейн и др.).
4. Искусство художественного чтения лежит на стыке литературы и театра, и процесс перевоплощения – то общее, что сближает искусство чтеца и актера. Именно организация тесного общения чтеца со слушателями лежит в основе исполнительского анализа как метода подготовки к чтению произведения и способу его художественной интерпретации.
5. Подготовка к чтению – действие уникальное, как уникален и сам художественный текст. Здесь недопустим шаблон, подгонка под общие схемы. Исполнителю необходимо находить такие способы и приемы анализа, которые должны быть направлены на передачу жанрово-родового своеобразия произведения. Задача режиссера – помочь чтецу пройти по герменевтическому кругу, кругу понимания текста по спирали (А.Е. Бочкарёв), организовать живое общение со слушателями.
Глава III. Техника выразительной речи и чтения
3.1. Постановка голоса и пути предупреждения голосовых нарушений у будущих педагогов
Первой ступенью в овладении основами искусства чтения является обучение технике речи. Многие выпускники школ, поступающие в педагогические вузы, имеют низкую культуру устной речи. Самыми распространенными недостатками их речи являются: слабая разработанность фонационного дыхания; узкий голосовой диапазон; хриплый, грубоватый тембр голоса; нечеткое произнесение гласных и согласных звуков; механическое проговаривание слов. С теми, кто имеет такие недостатки, приходится много работать, чтобы научить их выразительно говорить и читать.
В систему работы по обучению студентов выразительному чтению входят упражнения по технике речи, которые проводятся систематически по 10–15 минут на каждом занятии. Они направлены на то, чтобы повысить произносительную культуру речи студентов и побудить их к дальнейшей самостоятельной работе по совершенствованию правильного дыхания, хорошей дикции, устойчивого к большим нагрузкам, динамичного по высоте и интенсивности голоса, благозвучности тембра. В последнее время все большее социальное значение приобретает проблема нарушений голоса у лиц голосо-речевых профессий, особенно у педагогов и артистов. К числу причин, вызывающих нарушения голоса, О.С. Орлова [317] относит интенсивность голосовой нагрузки, низкий уровень владения техникой речи, влияние стрессовых факторов, простудных заболеваний, несоблюдение правил гигиены голоса, курение, злоупотребление алкоголем и др. По ее мнению, способность владеть своим голосом для педагогов не менее существенна, чем их высокий профессиональный уровень. Неумение владеть голосом – основная причина афоний и дисфоний.
Ю.С. Василенко [342] считает, что постановка, развитие и воспитание голоса, или техника речи, – единые понятия. Под постановкой голоса он понимает «развитие определенных навыков голосо-образования и голосоведения в соответствии с предъявляемыми к голосу требованиями» [Там же, с. 3]. Во-первых, голос должен быть достаточно выносливым для ежедневной интенсивной работы в течение нескольких часов на протяжении нескольких десятилетий. Возраст, пол, стаж работы особого значения не имеют. Во-вторых, профессионал должен обладать определенными качествами голоса: силой, мелодичностью, гибкостью, приятным тембром. Монотонная речь, произнесенная глухим или крикливым голосом, плохо воспринимается слушателями и раздражает их.
Когда человек говорит, в этом процессе принимает участие почти весь его мозг. Память отбирает слова и звуки; двигательные приказы из клеток, управляющих нашими мышцами, приводит в действие различные группы дыхательных, артикуляционных и гортанных мышц; слух контролирует звуковое выполнение задания. Во время выполнения упражнений важно ритмические и двигательные процессы довести до автоматизма, с помощью которого логопеды исправляют многие голосо-речевые нарушения.
Голосовой аппарат устроен так, что малейшее его усилие не может пройти бесследно для голоса и зачастую приводит к расстройству его функций, что может привести к профессиональным заболеваниям: фонастении (потере звучности голоса), его утомлению, першению, кашлю, чувству давления или раздражения в горле. Часто наблюдаются утолщения и узелки на голосовых складках. Педагоги и артисты болеют хроническим ларингитом в 2,5 раза чаще, чем люди других профессий. Физические нормы позволяют использовать голос без ущерба его качества не более четырех академических часов в день с перерывом между ними в 15 минут.
Вопросам совершенствования техники и психотехники речи и чтения посвящено немало работ (В.И. Аннушкина, В.Ф. Биркенбила, А.М. Бруссер, Ю.С. Василенко, Ю.А. Васильева, С.В. Гиппиус, О.Ю. Ермолаева, П.М. Ершова, А.П. Ершовой, Е.В. Кожары, И.П. Козляниновой, А.А. Князькова, К. Линклейтер, С.Т. Никольской, О.С. Орловой, А.Н. Петровой, З.В. Савковой, А.И. Савостьянова, З.А. Солиловой, А.И. Стрельниковой, Э.М. Чарели и др.).
Техника речи – это комплекс умений и навыков по сознательному воспитанию и овладению: 1) правильным типом речевого дыхания, т. е. смешанным, диафрагмально-нижнереберным; 2) хорошей дикцией, которая дает четкое и ясное произношение, чистоту и правильное звучание каждого гласного и согласного звука в отдельности, а также сочетание их в словах и фразах; 3) речевым голосом, который при правильно поставленном дыхании приобретает звучность, гибкость, объемность и благозвучность.
По мнению С.Т. Никольской [309], в качестве подготовительного этапа в технику речи входят: 1) самомассаж и вибрационный массаж и 2) элементы аутогенной тренировки с целью релаксации. Целью самомассажа является, с одной стороны, снятие напряженности и скованности лицевых, мимических мышц речевого аппарата, мышц рук, шеи и т. д., а с другой стороны – увеличение тонуса этих мышц. Вибрационный массаж – это своего рода настройка голоса перед речевой работой.
Дыхание – источник звука. Быть в голосе – значит освоить навык фонационного (речевого) дыхания, снять мышечное напряжение, приобрести выносливость, гибкость, звонкость, устойчивость и собранность звука. Опора дыхания – позвоночник, поэтому первая ступень к освобождению голоса – выработка привычки держать осанку, осознавать работу мышц, обеспечивающих потребность в общении. Важно научиться наблюдать себя как бы со стороны, акцентируя при этом внимание не на том, что мы делаем, а на том, как мы это делаем. Освобождение (релаксация) порождает энергию, продуктивность речевого аппарата. Напряжение убивает вибрации (на губах, на лице, в груди), усиливающие их. Правильный тип дыхания помогает нам ставить звук и говорить с посылом, а не горлом. К. Линклейтер [260] советует находить правильное дыхание с помощью слога ХА, произнесенного интенсивно на выдохе. Особенно полезен для студентов просмотр видео-презентации «Сценическая речь с А.Н. Петровой» [428].