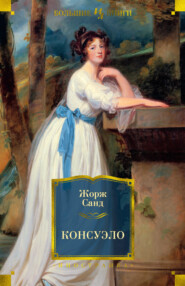По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прекрасные господа из Буа-Доре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Придумав повод для испуга, она убежала посмотреть на портрет, чтобы либо утвердиться в своих подозрениях, либо отказаться от них.
Глава седьмая
День быстро угасал, и, поскольку уже начало темнеть, она зашла за свечой в свою комнату, расположенную во флигеле, связанном маленькой галереей с часовней, затем сразу же отправилась к шкафчику, в котором находился портрет. Открыв шкафчик, Лориана поставила свечу так, чтобы получше разглядеть лицо нечестивца.
Портрет был очень хорош[68 - Портрет был очень хорош. – Неизвестно, какова его дальнейшая судьба. Мне случалось видеть похожий в коллекции знаменитого генерала Пепа. Известно, что существует также шедевр, вышедший из-под кисти Рафаэля. На нем Борджа почти красив, по крайней мере, в лице его столько достоинства, а в образе столько элегантности, что не сразу начинаешь его ненавидеть. Но пристально на него посмотрев, ощущаешь неподдельный ужас. Правая рука, тонкая и белая, как у женщины, спокойно сжимает рукоятку клинка, висящего на боку, со столь замечательной ловкостью, что понимаешь: он вот-вот ударит. Так хорошо передано движение, что заранее видно, как будет нанесен удар: сверху вниз, прямо в сердце жертвы. Портрет велик тем, что вышел из-под кисти великого мастера, не пытавшегося приукрасить моральный облик своей модели, прорывающийся сквозь ужасающее спокойствие его лица. (Примеч. авт.)]. Чезаре и Луиза Борджа были современниками Рафаэля[69 - Рафаэль Санти (1483–1520) – знаменитый итальянский живописец эпохи Возрождения.] и Микеланджело[70 - Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – знаменитый итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.], так что при холодном изучении картина напоминала манеру раннего Рафаэля. Художник принадлежал к его школе.
Кардинал-бандит был изображен в профиль, и глаза на портрете смотрели прямо. На лице герцога де Валентинуа не было ни синеватых пятен, ни отвратительных прыщей, о которых пишут некоторые историки, ни косых глаз, «сверкающих адским огнем, который был невыносим даже для его близких и друзей». Либо художник хотел ему польстить, либо портрет был написан в тот период жизни, когда порок и преступления еще не «сочились с его лица» и не обезобразили его.
Он был бледен, чудовищно бледен и худ, острый и узкий нос, рот почти незаметен, настолько губы были тонки и бесцветны, острый подбородок, изящное лицо, довольно правильные черты, красные борода и усы. Длинные узкие глаза, казалось, погружены в блаженное размышление о каком-либо злодеянии, а невозмутимая улыбка на прозрачных губах будто говорила о дремотной мягкости, присущей удовлетворенной свирепости.
Трудно было сказать, что именно производило ужасное впечатление: оно крылось во всем. Кровь стыла в жилах при виде этой бесстыдной и жестокой физиономии.
– Мне показалось! – сказала себе Лориана, вглядываясь в его черты. – Ни лоб, ни глаза, ни рот этого испанца вовсе не похожи на портрет. Сколько я ни смотрю, не нахожу ничего общего.
Закрыв глаза, она попыталась представить лицо гостя. Она вспомнила его лицо: ему весьма шло выражение сдержанной и гордой меланхолии. Она вспомнила его профиль: жизнерадостный, даже немного насмешливый, он улыбался. Но стоило ей восстановить в памяти его улыбку, как перед ней возник профиль злодея Чезаре, и тут же оба отражения будто склеились и стали неразделимыми.
Закрыв шкаф, она посмотрела на кафедру резного дерева, маленький алтарь и подушку черного бархата, истертую коленями святой Шарлотты за те часы, что она провела за молитвою. Лориана тоже встала на колени и принялась молиться, не раздумывая, где она, в церкви или в храме, протестантка она или католичка.
Она молилась Богу слабых и обиженных, Богу Шарлотты д’Альбре и Жанны Французской.
Успокоившись и заметив через окно, что лошади для отъезда гостей уже готовы, она спустилась в гостиную, чтобы попрощаться.
Она нашла своего отца в сильном возбуждении.
– Идите сюда, мадам, моя дорогая дочь, – сказал он, протягивая ей руку, чтобы усадить в кресло, которое поспешили ей подвинуть Буа-Доре и д’Альвимар. – Вы должны помирить нас. Когда мужчины остаются одни, без женщин, они становятся мрачными, начинаются разговоры о политике, религии, а в подобных вопросах согласие невозможно. Добро пожаловать, моя кроткая голубица, и расскажите нам о ваших птичках, которых вы, вероятно, сейчас укладывали спать.
Лориане пришлось признаться, что она совсем позабыла о своих горлицах. Чувствуя на себе ясный и пронзительный взгляд д’Альвимара, она еле осмелилась поднять на него глаза. Конечно же, он похож на Чезаре Борджа ничуть не больше, чем добрейший господин Сильвен.
– Так вы опять поссорились с нашим соседом? – спросила она отца, поцеловав его и протягивая руку старому маркизу. – Не вижу в этом большой беды, поскольку вы сами говорите, что вам надо немного поспорить, чтобы лучше переваривать пищу.
– Нет, черт побери! – возразил де Бевр. – Если бы я поспорил с ним, я бы в этом не каялся. Ведь это мой привычный грех. Но, поддавшись духу противоречия, я поспорил с господином де Виллареалем, а это противоречит всем законам гостеприимства и приличия. Помирите нас, дорогая дочь. Вы ведь хорошо меня знаете, так скажите ему, что хоть я старый и упрямый гугенот и спорщик, но я честен и по-прежнему к его услугам.
Господин де Бевр преувеличивал. Он не был столь ревностным гугенотом, религиозные понятия в его голове вообще были чрезвычайно запутаны. Но у него были твердые политические убеждения, и он слышать не мог о некоторых противниках без того, чтобы не дать волю своей резкой откровенности.
Он обиделся на д’Альвимара, который встал на защиту бывшего правителя Берри, герцога де Шатра, который случайно был помянут в разговоре.
Лориана, которая была в курсе дела, мягко произнесла свой вердикт:
– Я оправдываю вас обоих. Вас, господин мой отец, за то, что вы подумали, что ни в чем, кроме отваги и ума, господин де Шатр не заслуживает подражания. Вас, господин де Виллареаль, за то, что вы заступились за человека, которого больше нет и который не может сам себя защитить.
– Прекрасное решение, – воскликнул Буа-Доре, – и давайте сменим тему разговора.
– Конечно, довольно о тиранах, – не унимался старый дворянин, – довольно об этом фанатике.
– Вы называете его фанатиком, – возразил д’Альвимар, который не умел уступать, – но я придерживаюсь другого мнения. Я хорошо знал его при дворе и смею утверждать, что он, скорее, недостаточно любил истинную религию и видел в ней лишь средство подавления мятежа.
– Верно, – подтвердил де Буа-Доре, который терпеть не мог споры и мечтал, чтобы все это поскорее окончилось. Но господин де Бевр ерзал на стуле, и было видно, что он не считает спор завершенным.
– В конце концов, – добавил д’Альвимар, надеясь таким образом положить конец распре, – он ведь верно и преданно служил королю Генриху, памяти которого преданы все здесь присутствующие.
– И неспроста, месье! – воскликнул господин де Бевр. – Неспроста, черт подери! Где еще найти столь мудрого и доброго короля? Но сколько времени наш взбесившийся лигер де Шатр сражался против него, сколько раз он его предавал? И сколько потребовалось денег, чтобы он наконец успокоился? Вы еще молоды, вы человек света. Вы видели в нем куртизана и хорошего рассказчика. Но мы, старые провинциалы, прекрасно знаем провинциальных тиранов! Пусть господин де Буа-Доре расскажет вам о лжи и предательстве, которыми ваш вояка прославился во время битвы при Сансере!
– Увольте меня! – сказал Буа-Доре с явным неудовольствием. – Как я могу об этом помнить?
– А чем вам не нравятся эти воспоминания? – взвился де Бевр, не обращая внимания на настроение друга. – Вы ведь тогда уже вышли из пеленок, я полагаю.
– По крайней мере, я был так молод, что ничего не помню, – настаивал маркиз.
– Я-то помню, – воскликнул де Бевр, взбешенный отступничеством де Буа-Доре, – хотя я на десять лет младше вас и меня там не было. Тогда я был пажом храброго Конде, предка нынешнего, и смею вас заверить, что он был совсем другим человеком.
– Послушайте, – вмешалась Лориана, решившая прибегнуть к хитрости, чтобы утихомирить отца и увести разговор в сторону от опасной темы, – наш маркиз должен признаться, что он присутствовал при осаде Сансера и храбро там сражался, а вспомнить об этом не хочет из скромности.
– Вы прекрасно знаете, что меня там не было, поскольку я провел все это время здесь, с вами.
– О, я имею в виду не последнюю осаду, которая продолжалась всего сутки, в мае прошлого года, это был лишь последний удар. Я говорю о великой, знаменитой осаде тысяча пятьсот семьдесят второго года.
Буа-Доре панически боялся дат. Он закашлялся, суетливо задвигался, поправил свечу, которая и без того хорошо стояла. Но Лориана решила пожертвовать им ради всеобщего спокойствия, усыпав его цветами похвал.
– Я знаю, что, хотя вы были чрезвычайно молоды, вы сражались как лев.
– Друзья мои действительно отличились в сражении, – ответил Буа-Доре, – а дело было жаркое! Но в мои лета при всем своем рвении я не мог быть хорошим воином.
– Черт побери! Да вы лично захватили двоих пленных! – вскричал де Бевр, топая ногой. – Меня просто бесит, когда храбрец, военный человек, как вы, отказывается от своей доблести, лишь бы скрыть свои годы!
Эти слова больно ранили господина Сильвена, лицо его опечалилось. Это был единственный способ, которым он давал понять друзьям свое неудовольствие.
Лориана поняла, что зашла слишком далеко.
– Нет, месье, – обратилась она к отцу, – позвольте вашей дочери сказать, что вы пошутили. Поскольку маркизу не исполнилось тогда и двадцати лет, его подвиг тем более замечателен.
– Как! – воскликнул де Бевр. – Вам не было тогда и двадцати лет? Я внезапно стал старше вас?
– Человеку столько лет, на сколько он выглядит, – сказала Лориана, – а стоит только посмотреть на маркиза…
Она остановилась, будучи не в силах произнести столь откровенную ложь, даже чтобы его утешить. Но оказалось достаточно доброго намерения, Буа-Доре довольствовался малым.
Он поблагодарил ее взглядом, лоб его разгладился, де Бевр засмеялся, д’Альвимар выразил восхищение умом Лорианы, и гроза прошла стороной.
Глава восьмая
Мирная беседа текла еще некоторое время.
Господин де Бевр попросил д’Альвимара не сердиться на его упрямство и послезавтра пожаловать вместе с маркизом к нему на обед, поскольку господин де Буа-Доре обедал в Ла Мотт каждое воскресенье. Подали карету господина де Буа-Доре, представляющую собой тяжелую и просторную берлину[71 - Берлина – четырехместная дорожная карета.], которую тянула четверка сильных и красивых лошадей, правда, слегка толстоватых.
Эта достопочтенная колымага, проходившая как по пригодным для карет дорогам, так и по непригодным, была необычайно прочна. Пусть мягкость ее хода оставляла желать лучшего, в ней, по крайней мере, можно было быть уверенным, что не поломаешь себе кости в случае падения благодаря толстенной внутренней обивке.
Под обивкой из шелковой узорчатой ткани слой шерсти и пакли достигал толщины шести дюймов, так что вы в ней чувствовали себя если не удобно, то наверняка в безопасности.
Глава седьмая
День быстро угасал, и, поскольку уже начало темнеть, она зашла за свечой в свою комнату, расположенную во флигеле, связанном маленькой галереей с часовней, затем сразу же отправилась к шкафчику, в котором находился портрет. Открыв шкафчик, Лориана поставила свечу так, чтобы получше разглядеть лицо нечестивца.
Портрет был очень хорош[68 - Портрет был очень хорош. – Неизвестно, какова его дальнейшая судьба. Мне случалось видеть похожий в коллекции знаменитого генерала Пепа. Известно, что существует также шедевр, вышедший из-под кисти Рафаэля. На нем Борджа почти красив, по крайней мере, в лице его столько достоинства, а в образе столько элегантности, что не сразу начинаешь его ненавидеть. Но пристально на него посмотрев, ощущаешь неподдельный ужас. Правая рука, тонкая и белая, как у женщины, спокойно сжимает рукоятку клинка, висящего на боку, со столь замечательной ловкостью, что понимаешь: он вот-вот ударит. Так хорошо передано движение, что заранее видно, как будет нанесен удар: сверху вниз, прямо в сердце жертвы. Портрет велик тем, что вышел из-под кисти великого мастера, не пытавшегося приукрасить моральный облик своей модели, прорывающийся сквозь ужасающее спокойствие его лица. (Примеч. авт.)]. Чезаре и Луиза Борджа были современниками Рафаэля[69 - Рафаэль Санти (1483–1520) – знаменитый итальянский живописец эпохи Возрождения.] и Микеланджело[70 - Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – знаменитый итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.], так что при холодном изучении картина напоминала манеру раннего Рафаэля. Художник принадлежал к его школе.
Кардинал-бандит был изображен в профиль, и глаза на портрете смотрели прямо. На лице герцога де Валентинуа не было ни синеватых пятен, ни отвратительных прыщей, о которых пишут некоторые историки, ни косых глаз, «сверкающих адским огнем, который был невыносим даже для его близких и друзей». Либо художник хотел ему польстить, либо портрет был написан в тот период жизни, когда порок и преступления еще не «сочились с его лица» и не обезобразили его.
Он был бледен, чудовищно бледен и худ, острый и узкий нос, рот почти незаметен, настолько губы были тонки и бесцветны, острый подбородок, изящное лицо, довольно правильные черты, красные борода и усы. Длинные узкие глаза, казалось, погружены в блаженное размышление о каком-либо злодеянии, а невозмутимая улыбка на прозрачных губах будто говорила о дремотной мягкости, присущей удовлетворенной свирепости.
Трудно было сказать, что именно производило ужасное впечатление: оно крылось во всем. Кровь стыла в жилах при виде этой бесстыдной и жестокой физиономии.
– Мне показалось! – сказала себе Лориана, вглядываясь в его черты. – Ни лоб, ни глаза, ни рот этого испанца вовсе не похожи на портрет. Сколько я ни смотрю, не нахожу ничего общего.
Закрыв глаза, она попыталась представить лицо гостя. Она вспомнила его лицо: ему весьма шло выражение сдержанной и гордой меланхолии. Она вспомнила его профиль: жизнерадостный, даже немного насмешливый, он улыбался. Но стоило ей восстановить в памяти его улыбку, как перед ней возник профиль злодея Чезаре, и тут же оба отражения будто склеились и стали неразделимыми.
Закрыв шкаф, она посмотрела на кафедру резного дерева, маленький алтарь и подушку черного бархата, истертую коленями святой Шарлотты за те часы, что она провела за молитвою. Лориана тоже встала на колени и принялась молиться, не раздумывая, где она, в церкви или в храме, протестантка она или католичка.
Она молилась Богу слабых и обиженных, Богу Шарлотты д’Альбре и Жанны Французской.
Успокоившись и заметив через окно, что лошади для отъезда гостей уже готовы, она спустилась в гостиную, чтобы попрощаться.
Она нашла своего отца в сильном возбуждении.
– Идите сюда, мадам, моя дорогая дочь, – сказал он, протягивая ей руку, чтобы усадить в кресло, которое поспешили ей подвинуть Буа-Доре и д’Альвимар. – Вы должны помирить нас. Когда мужчины остаются одни, без женщин, они становятся мрачными, начинаются разговоры о политике, религии, а в подобных вопросах согласие невозможно. Добро пожаловать, моя кроткая голубица, и расскажите нам о ваших птичках, которых вы, вероятно, сейчас укладывали спать.
Лориане пришлось признаться, что она совсем позабыла о своих горлицах. Чувствуя на себе ясный и пронзительный взгляд д’Альвимара, она еле осмелилась поднять на него глаза. Конечно же, он похож на Чезаре Борджа ничуть не больше, чем добрейший господин Сильвен.
– Так вы опять поссорились с нашим соседом? – спросила она отца, поцеловав его и протягивая руку старому маркизу. – Не вижу в этом большой беды, поскольку вы сами говорите, что вам надо немного поспорить, чтобы лучше переваривать пищу.
– Нет, черт побери! – возразил де Бевр. – Если бы я поспорил с ним, я бы в этом не каялся. Ведь это мой привычный грех. Но, поддавшись духу противоречия, я поспорил с господином де Виллареалем, а это противоречит всем законам гостеприимства и приличия. Помирите нас, дорогая дочь. Вы ведь хорошо меня знаете, так скажите ему, что хоть я старый и упрямый гугенот и спорщик, но я честен и по-прежнему к его услугам.
Господин де Бевр преувеличивал. Он не был столь ревностным гугенотом, религиозные понятия в его голове вообще были чрезвычайно запутаны. Но у него были твердые политические убеждения, и он слышать не мог о некоторых противниках без того, чтобы не дать волю своей резкой откровенности.
Он обиделся на д’Альвимара, который встал на защиту бывшего правителя Берри, герцога де Шатра, который случайно был помянут в разговоре.
Лориана, которая была в курсе дела, мягко произнесла свой вердикт:
– Я оправдываю вас обоих. Вас, господин мой отец, за то, что вы подумали, что ни в чем, кроме отваги и ума, господин де Шатр не заслуживает подражания. Вас, господин де Виллареаль, за то, что вы заступились за человека, которого больше нет и который не может сам себя защитить.
– Прекрасное решение, – воскликнул Буа-Доре, – и давайте сменим тему разговора.
– Конечно, довольно о тиранах, – не унимался старый дворянин, – довольно об этом фанатике.
– Вы называете его фанатиком, – возразил д’Альвимар, который не умел уступать, – но я придерживаюсь другого мнения. Я хорошо знал его при дворе и смею утверждать, что он, скорее, недостаточно любил истинную религию и видел в ней лишь средство подавления мятежа.
– Верно, – подтвердил де Буа-Доре, который терпеть не мог споры и мечтал, чтобы все это поскорее окончилось. Но господин де Бевр ерзал на стуле, и было видно, что он не считает спор завершенным.
– В конце концов, – добавил д’Альвимар, надеясь таким образом положить конец распре, – он ведь верно и преданно служил королю Генриху, памяти которого преданы все здесь присутствующие.
– И неспроста, месье! – воскликнул господин де Бевр. – Неспроста, черт подери! Где еще найти столь мудрого и доброго короля? Но сколько времени наш взбесившийся лигер де Шатр сражался против него, сколько раз он его предавал? И сколько потребовалось денег, чтобы он наконец успокоился? Вы еще молоды, вы человек света. Вы видели в нем куртизана и хорошего рассказчика. Но мы, старые провинциалы, прекрасно знаем провинциальных тиранов! Пусть господин де Буа-Доре расскажет вам о лжи и предательстве, которыми ваш вояка прославился во время битвы при Сансере!
– Увольте меня! – сказал Буа-Доре с явным неудовольствием. – Как я могу об этом помнить?
– А чем вам не нравятся эти воспоминания? – взвился де Бевр, не обращая внимания на настроение друга. – Вы ведь тогда уже вышли из пеленок, я полагаю.
– По крайней мере, я был так молод, что ничего не помню, – настаивал маркиз.
– Я-то помню, – воскликнул де Бевр, взбешенный отступничеством де Буа-Доре, – хотя я на десять лет младше вас и меня там не было. Тогда я был пажом храброго Конде, предка нынешнего, и смею вас заверить, что он был совсем другим человеком.
– Послушайте, – вмешалась Лориана, решившая прибегнуть к хитрости, чтобы утихомирить отца и увести разговор в сторону от опасной темы, – наш маркиз должен признаться, что он присутствовал при осаде Сансера и храбро там сражался, а вспомнить об этом не хочет из скромности.
– Вы прекрасно знаете, что меня там не было, поскольку я провел все это время здесь, с вами.
– О, я имею в виду не последнюю осаду, которая продолжалась всего сутки, в мае прошлого года, это был лишь последний удар. Я говорю о великой, знаменитой осаде тысяча пятьсот семьдесят второго года.
Буа-Доре панически боялся дат. Он закашлялся, суетливо задвигался, поправил свечу, которая и без того хорошо стояла. Но Лориана решила пожертвовать им ради всеобщего спокойствия, усыпав его цветами похвал.
– Я знаю, что, хотя вы были чрезвычайно молоды, вы сражались как лев.
– Друзья мои действительно отличились в сражении, – ответил Буа-Доре, – а дело было жаркое! Но в мои лета при всем своем рвении я не мог быть хорошим воином.
– Черт побери! Да вы лично захватили двоих пленных! – вскричал де Бевр, топая ногой. – Меня просто бесит, когда храбрец, военный человек, как вы, отказывается от своей доблести, лишь бы скрыть свои годы!
Эти слова больно ранили господина Сильвена, лицо его опечалилось. Это был единственный способ, которым он давал понять друзьям свое неудовольствие.
Лориана поняла, что зашла слишком далеко.
– Нет, месье, – обратилась она к отцу, – позвольте вашей дочери сказать, что вы пошутили. Поскольку маркизу не исполнилось тогда и двадцати лет, его подвиг тем более замечателен.
– Как! – воскликнул де Бевр. – Вам не было тогда и двадцати лет? Я внезапно стал старше вас?
– Человеку столько лет, на сколько он выглядит, – сказала Лориана, – а стоит только посмотреть на маркиза…
Она остановилась, будучи не в силах произнести столь откровенную ложь, даже чтобы его утешить. Но оказалось достаточно доброго намерения, Буа-Доре довольствовался малым.
Он поблагодарил ее взглядом, лоб его разгладился, де Бевр засмеялся, д’Альвимар выразил восхищение умом Лорианы, и гроза прошла стороной.
Глава восьмая
Мирная беседа текла еще некоторое время.
Господин де Бевр попросил д’Альвимара не сердиться на его упрямство и послезавтра пожаловать вместе с маркизом к нему на обед, поскольку господин де Буа-Доре обедал в Ла Мотт каждое воскресенье. Подали карету господина де Буа-Доре, представляющую собой тяжелую и просторную берлину[71 - Берлина – четырехместная дорожная карета.], которую тянула четверка сильных и красивых лошадей, правда, слегка толстоватых.
Эта достопочтенная колымага, проходившая как по пригодным для карет дорогам, так и по непригодным, была необычайно прочна. Пусть мягкость ее хода оставляла желать лучшего, в ней, по крайней мере, можно было быть уверенным, что не поломаешь себе кости в случае падения благодаря толстенной внутренней обивке.
Под обивкой из шелковой узорчатой ткани слой шерсти и пакли достигал толщины шести дюймов, так что вы в ней чувствовали себя если не удобно, то наверняка в безопасности.