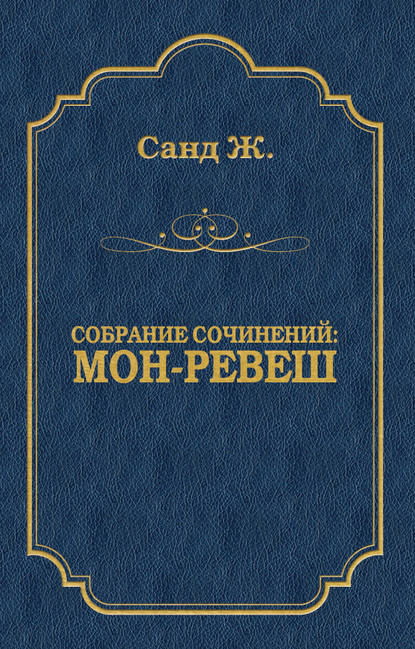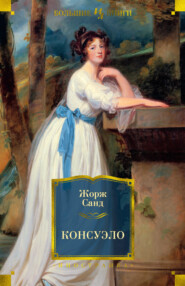По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мон-Ревеш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мать и дочь обняли Дютертра без лишней суеты, но с большой нежностью; затем Каролина горячо поцеловала руку отца и, как истинно наивное прелестное дитя, подойдя к огню, передала его руку Олимпии, которая незаметно прикоснулась к ней губами. Дютертр вздрогнул, хотел еще раз поцеловать жену, но та опять немного отступила и подтолкнула к нему Каролину.
«Да, она очень виновата перед ним! – снова подумал Тьерре, стоя позади них и не упуская ни одного движения Олимпии. – Как много измен в прошлом, если мать семейства так смиренно отступает перед человеком, простившим ее в силу забвенья или привычки!»
– Я точно убедился, – сказал он, подходя к Флавьену, вслед за тем, как были представлены оба гостя и завязалась оживленная беседа.
– Убедился в возрасте?
– О, возраст здесь ни при чем; но это большая грешница.
– Ну да, уже? – воскликнул Флавьен, думая о том, как мало времени понадобилось Тьерре, чтобы установить подозрительное единомыслие с хозяйкой замка.
– Ты хочешь сказать – все еще? – ответил Тьерре, думая о возрасте дамы и не поняв восклицания друга.
Обрадованные свиданием и старавшиеся как можно приветливее принять обоих посторонних людей, хозяева забыли позвонить, чтобы принесли свет. Но мало-помалу все успокоились; промокшая амазонка по настоянию родителей ушла переодеваться. Натали, с виду очень молчаливая и равнодушная ко всему, не привлекала ничьего внимания. Каролина, не отходившая от отца и державшая его за руку, словно боясь, как бы его не отняли у нее, восхищенно внимала каждому его слову. Госпожа Дютертр говорила мало, но умно, ее ответы и вопросы были всегда уместны, и вела она себя спокойно и уверенно, как женщины из высшего общества; звуки ее голоса, чистого и мелодичного, как у молодой девушки, радовали музыкальный слух Тьерре. Господин Дютертр приятно и степенно беседовал с тремя мужчинами, не забывая время от времени оборачиваться к жене, словно советуясь с ней или призывая ее в свидетели; его внимание и предупредительность скорее были результатом привязанности, чем просто благовоспитанности.
«Какой сильный человек, – думал, наблюдая за ним, Тьерре. – Трудно поверить в виновность такой безупречной супруги, если б я не видел, что она поцеловала его руку!»
Дютертр стал предметом его восхищения, и Тьерре решил изучить его как тип. А в тусклом свете, который огонь бросал на бледное лицо Олимпии, был виден лишь чистый овал и, по-видимому, очень черные волосы. Тьерре, разглядывая ее и вновь восхищаясь прелестным обликом, который раньше так пленил его, спрашивал себя, не привиделось ли это ему во сне или, быть может, продолжает сниться до сих пор.
В этот момент господин Дютертр позвонил, чтобы принесли свет, и Флавьен, воспользовавшись беспорядком, поспешил откланяться.
Тьерре последовал за ним; в передней они встретили слуг, несших зажженные канделябры.
– Давно пора! – сказал Тьерре, смеясь.
III
– Ну, признайся, – говорил он Флавьену, который начал хохотать пуще его самого, как только они уселись в семейную колымагу, – признайся, что можно ошибиться, если у тебя очень хорошее зрение, и что эта женщина очень молодо выглядит…
Флавьен продолжал хохотать.
Тьерре был уязвлен и, чтобы сдержать данное самому себе слово, принялся так высмеивать свою близорукость, что веселость его друга сделалась просто конвульсивной. Но вдруг Флавьен перестал смеяться.
– Могу поспорить: ты не знаешь, над чем я смеюсь.
Это внезапное восклицание ошеломило Тьерре.
– Я смеюсь над впечатлительностью поэтов. Они на все смотрят, ничего не видя, а когда уже могли бы и увидеть, то перестают смотреть. Ты исследовал, анализировал внешность этой женщины, высчитывал ее возраст, но не увидел ее такой, какая она есть, потому что основывался на случайно брошенных утром словах Жерве, и тебе показалось, что ей чуть ли не пятьдесят. Твои воспоминания, именовавшиеся страстью, не вселили в тебя никакой уверенности, и ты не смог преодолеть простой ошибки. Сейчас ты снова увидел эту женщину и мог так же отлично все понять, как и я. Ведь ты подошел к ней до смешного близко, а света было достаточно. Но, будучи убежден, что она стара, ты и не соизволил заметить, что она молода, и теперь принимаешь ее за почтенную матрону, а я – не влюбленный и не поэт – наконец разгадал тайну: вот увидишь, ошибся я или нет.
Жерве, – возвысив голос, обратился Флавьен к старому слуге, который все еще твердой рукой направлял Сезара по песчаной колее, – господин Дютертр уже был один раз женат?
– Конечно, господин граф, – не колеблясь, ответил Жерве, – то была мать его детей.
– А сколько лет его второй жене?
– Могу вам сказать – ведь я был в церкви, когда оглашали их брак. Госпоже Олимпии должно быть сейчас… погодите… около двадцати четырех, господин граф. Ей было двадцать, когда господин Дютертр женился на ней в Италии.
– Двадцать четыре! – воскликнул Тьерре. – Госпоже Дютертр двадцать четыре года! А этот старый идиот и не подумал нам это сказать!
– Знаете, сударь, – ответил Жерве, услыхав слишком громкое восклицание Тьерре, – если бы вы подумали спросить меня, я бы подумал вам ответить.
– Вот ты и наказан! – сказал своему другу Флавьен. – Наказан за то, что не дал себе труда проверить, за то, что твои любовные воспоминания не устояли перед пустой, водевильной ошибкой. Позволь тебе объяснить, дорогой мой, что ты видишь женщин глазами семинариста, то есть сквозь пелену болезненных галлюцинаций. Знаешь, ты куда моложе, чем выглядишь, и куда менее развращен, чем стараешься казаться.
– Флавьен! Если ты сейчас же не перестанешь говорить со мной об Олимпии, я заведу речь о Леонисе.
– Как хочешь! Это меня больше не трогает, потому что мне хочется влюбиться в Олимпию, раз ты в нее не влюблен.
– Почем ты знаешь?
– Да ты никогда и не был влюблен в нее!
– Возможно; но тебя я прошу не влюбляться. Она мне позирует, не мешай моей натурщице.
– Что ж! Если ты поведешь разговор в таком направлении, то я тебя пойму. Ты играешь с женщинами в игру, в которой другой обжегся бы изрядно, но ты будешь жечь лишь благовония поэзии в курильнице из веленевой бумаги с золотым обрезом.
– Неважно. Вот мы и приехали. Я хочу спать и проведу ночь лучше, чем ожидал. Я боялся, что увижу во сне a Lady in the sacque[1 - Даму в старинном платье (англ.).], вроде той, что была в комнате с гобеленами[11 - …увижу во сне a Lady in the sacque, вроде той, что была в комнате с гобеленами… – Речь идет о рассказе В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье» (1828), где герой пробуждается среди ночи от появления призрака женщины в старинном наряде, лицо которой повергает его в смятение и ужас.] у Вальтера Скотта, но если образ дамы из Пюи-Вердона теперь будет витать над моим изголовьем, я жаловаться не стану.
– Иначе говоря, с твоих мужественных плеч и с твоей поэтической души гора свалилась. Теперь, мой друг, после такого тяжелого дня и таких ужасных волнений ты можешь спать спокойно. – И Флавьен покинул приятеля.
А теперь предоставим двоих друзей, которых мы никак не могли покинуть ранее, спокойному сну и взглянем, что происходит в это время в замке Пюи-Вердон.
Господин Дютертр, наскоро пообедавший в дороге, проголодался; шестнадцатилетняя Каролина, которую сестры прозвали «папина Малютка», сбегала на кухню и, как истая буржуазка в лучшем смысле этого слова, собственноручно приготовила и сама подала ужин дорогому папочке. Девочка с пылким сердцем и спокойным воображением, она покамест знала только одно чувство – дочернюю любовь. Она была и по внешности, и по уму наименее яркой из трех молодых девиц на выданье, расцветших в Пюи-Вердоне, но зато была и самой счастливой из них, ибо не старалась быть ни самой умной, ни самой красивой. Лишь бы папа и мама были ею довольны, и она будет считать себя самой счастливой девушкой на свете, – говорила она, и говорила вполне искренне.
Среди естественной для очень богатого дома роскоши простые вкусы и хозяйственные наклонности Малютки составляли забавный контраст с аристократическими вкусами и заносчивым видом той из ее сестер, которую прозвали львицей. Эта самая львица и отважная наездница, Эвелина, только что спустилась в гостиную, сменив суконную амазонку на прелестное платье. Тщательно причесанная, надушенная, в щегольских туфельках, она казалась совсем другой девушкой. Эвелина знала это и любила показываться людям то в виде бойкого мальчишки, равнодушного к иссушающему кожу ветру и усталости после охоты, то в виде беспечной и утонченной светской дамы, полной обольстительного кокетства, пока еще невинного, но грозящего стать опасным в будущем.
Она надеялась застать больше людей, которые оценили бы это волшебное мгновенное превращение. Натали, всегда одетая строго, не потому, что так ей больше нравилось, а скорее для того, чтобы поражать этой богатой строгостью рядом с изысканными нарядами и затейливыми прическами Эвелины, сразу же громко сказала: «Они ушли», явно желая доставить ей неприятность, как это свойственно девицам высокомерным и завистливым. При этом она бросила насмешливо-восторженный взгляд на белокурые косы, в которые Эвелина вплела живые цветы, и на платье из белого муслина, струящееся и воздушное, как облако.
– Кто ушел? – спросила Эвелина с неловким притворством. Но тут же, взяв себя в руки, добавила если не вполне чистосердечно, то по крайней мере очень любезно: – Разве папенька не здесь? Может быть, я зря наряжалась для него?
Каролина увела отца к столу.
– Папа проголодался. Сейчас он посмотрит, какая ты красивая. Но тебе тоже надо поесть, сестричка. Ты носилась верхом после обеда, и если не перекусишь сейчас, то опять разбудишь нас среди ночи, крича, что умираешь с голоду. Садитесь, я сейчас подам еду вам обоим. Можно, мама? – спросила она, поцеловав руку Олимпии, лежащую у нее на плече.
– Это дело нешуточное, – ответила госпожа Дютертр, нежно улыбаясь любимой падчерице. – Может быть, придется попросить еще разрешения у отца, а потом у твоей старшей сестры, а потом у второй…
– Я сегодня всем и все разрешаю, – весело сказал Дютертр, – только любите меня! За полгода разлуки я изголодался больше всего по вашей любви.
– Вас любят все, отец, – сказала Эвелина, – и я охотно разрешаю Малютке разыгрывать перед вами хозяйку дома. Она прекрасно с этим справляется, а я, когда перестаю бегать или скакать верхом, уже ни на что больше не гожусь. Мне легче заколоть кабана, чем разрезать жареную куропатку.
– Что касается меня, – сказала Натали, – то я совсем не разбираюсь во всех этих тонкостях домашнего хозяйства, которые носят возвышенное название «кулинария».
Довольная Каролина отослала слуг, уселась подле отца и с восторгом принялась за ним ухаживать, поминутно вскакивая с места.
– Послушайте, отец, – продолжала Натали, – расскажите нам что-нибудь об этом мыслителе, которого вы нам сегодня представили.
– Почему ты называешь его мыслителем? Он просто литератор; ведь ты, вероятно, говоришь о господине Тьерре?
– Да, о человеке, именуемом Тьерре, – с величественным презрением ответила Натали. – Нам так мало о нем говорили, – продолжала она, глядя на Олимпию, – мы и не предполагали, что он настолько важная особа. Наверно, это правда, потому что он говорит, садится, смотрит и ходит как великий человек. Он мыслитель по профессии, это видно даже по его одежде, вплоть до пуговиц на гамашах.
«Да, она очень виновата перед ним! – снова подумал Тьерре, стоя позади них и не упуская ни одного движения Олимпии. – Как много измен в прошлом, если мать семейства так смиренно отступает перед человеком, простившим ее в силу забвенья или привычки!»
– Я точно убедился, – сказал он, подходя к Флавьену, вслед за тем, как были представлены оба гостя и завязалась оживленная беседа.
– Убедился в возрасте?
– О, возраст здесь ни при чем; но это большая грешница.
– Ну да, уже? – воскликнул Флавьен, думая о том, как мало времени понадобилось Тьерре, чтобы установить подозрительное единомыслие с хозяйкой замка.
– Ты хочешь сказать – все еще? – ответил Тьерре, думая о возрасте дамы и не поняв восклицания друга.
Обрадованные свиданием и старавшиеся как можно приветливее принять обоих посторонних людей, хозяева забыли позвонить, чтобы принесли свет. Но мало-помалу все успокоились; промокшая амазонка по настоянию родителей ушла переодеваться. Натали, с виду очень молчаливая и равнодушная ко всему, не привлекала ничьего внимания. Каролина, не отходившая от отца и державшая его за руку, словно боясь, как бы его не отняли у нее, восхищенно внимала каждому его слову. Госпожа Дютертр говорила мало, но умно, ее ответы и вопросы были всегда уместны, и вела она себя спокойно и уверенно, как женщины из высшего общества; звуки ее голоса, чистого и мелодичного, как у молодой девушки, радовали музыкальный слух Тьерре. Господин Дютертр приятно и степенно беседовал с тремя мужчинами, не забывая время от времени оборачиваться к жене, словно советуясь с ней или призывая ее в свидетели; его внимание и предупредительность скорее были результатом привязанности, чем просто благовоспитанности.
«Какой сильный человек, – думал, наблюдая за ним, Тьерре. – Трудно поверить в виновность такой безупречной супруги, если б я не видел, что она поцеловала его руку!»
Дютертр стал предметом его восхищения, и Тьерре решил изучить его как тип. А в тусклом свете, который огонь бросал на бледное лицо Олимпии, был виден лишь чистый овал и, по-видимому, очень черные волосы. Тьерре, разглядывая ее и вновь восхищаясь прелестным обликом, который раньше так пленил его, спрашивал себя, не привиделось ли это ему во сне или, быть может, продолжает сниться до сих пор.
В этот момент господин Дютертр позвонил, чтобы принесли свет, и Флавьен, воспользовавшись беспорядком, поспешил откланяться.
Тьерре последовал за ним; в передней они встретили слуг, несших зажженные канделябры.
– Давно пора! – сказал Тьерре, смеясь.
III
– Ну, признайся, – говорил он Флавьену, который начал хохотать пуще его самого, как только они уселись в семейную колымагу, – признайся, что можно ошибиться, если у тебя очень хорошее зрение, и что эта женщина очень молодо выглядит…
Флавьен продолжал хохотать.
Тьерре был уязвлен и, чтобы сдержать данное самому себе слово, принялся так высмеивать свою близорукость, что веселость его друга сделалась просто конвульсивной. Но вдруг Флавьен перестал смеяться.
– Могу поспорить: ты не знаешь, над чем я смеюсь.
Это внезапное восклицание ошеломило Тьерре.
– Я смеюсь над впечатлительностью поэтов. Они на все смотрят, ничего не видя, а когда уже могли бы и увидеть, то перестают смотреть. Ты исследовал, анализировал внешность этой женщины, высчитывал ее возраст, но не увидел ее такой, какая она есть, потому что основывался на случайно брошенных утром словах Жерве, и тебе показалось, что ей чуть ли не пятьдесят. Твои воспоминания, именовавшиеся страстью, не вселили в тебя никакой уверенности, и ты не смог преодолеть простой ошибки. Сейчас ты снова увидел эту женщину и мог так же отлично все понять, как и я. Ведь ты подошел к ней до смешного близко, а света было достаточно. Но, будучи убежден, что она стара, ты и не соизволил заметить, что она молода, и теперь принимаешь ее за почтенную матрону, а я – не влюбленный и не поэт – наконец разгадал тайну: вот увидишь, ошибся я или нет.
Жерве, – возвысив голос, обратился Флавьен к старому слуге, который все еще твердой рукой направлял Сезара по песчаной колее, – господин Дютертр уже был один раз женат?
– Конечно, господин граф, – не колеблясь, ответил Жерве, – то была мать его детей.
– А сколько лет его второй жене?
– Могу вам сказать – ведь я был в церкви, когда оглашали их брак. Госпоже Олимпии должно быть сейчас… погодите… около двадцати четырех, господин граф. Ей было двадцать, когда господин Дютертр женился на ней в Италии.
– Двадцать четыре! – воскликнул Тьерре. – Госпоже Дютертр двадцать четыре года! А этот старый идиот и не подумал нам это сказать!
– Знаете, сударь, – ответил Жерве, услыхав слишком громкое восклицание Тьерре, – если бы вы подумали спросить меня, я бы подумал вам ответить.
– Вот ты и наказан! – сказал своему другу Флавьен. – Наказан за то, что не дал себе труда проверить, за то, что твои любовные воспоминания не устояли перед пустой, водевильной ошибкой. Позволь тебе объяснить, дорогой мой, что ты видишь женщин глазами семинариста, то есть сквозь пелену болезненных галлюцинаций. Знаешь, ты куда моложе, чем выглядишь, и куда менее развращен, чем стараешься казаться.
– Флавьен! Если ты сейчас же не перестанешь говорить со мной об Олимпии, я заведу речь о Леонисе.
– Как хочешь! Это меня больше не трогает, потому что мне хочется влюбиться в Олимпию, раз ты в нее не влюблен.
– Почем ты знаешь?
– Да ты никогда и не был влюблен в нее!
– Возможно; но тебя я прошу не влюбляться. Она мне позирует, не мешай моей натурщице.
– Что ж! Если ты поведешь разговор в таком направлении, то я тебя пойму. Ты играешь с женщинами в игру, в которой другой обжегся бы изрядно, но ты будешь жечь лишь благовония поэзии в курильнице из веленевой бумаги с золотым обрезом.
– Неважно. Вот мы и приехали. Я хочу спать и проведу ночь лучше, чем ожидал. Я боялся, что увижу во сне a Lady in the sacque[1 - Даму в старинном платье (англ.).], вроде той, что была в комнате с гобеленами[11 - …увижу во сне a Lady in the sacque, вроде той, что была в комнате с гобеленами… – Речь идет о рассказе В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье» (1828), где герой пробуждается среди ночи от появления призрака женщины в старинном наряде, лицо которой повергает его в смятение и ужас.] у Вальтера Скотта, но если образ дамы из Пюи-Вердона теперь будет витать над моим изголовьем, я жаловаться не стану.
– Иначе говоря, с твоих мужественных плеч и с твоей поэтической души гора свалилась. Теперь, мой друг, после такого тяжелого дня и таких ужасных волнений ты можешь спать спокойно. – И Флавьен покинул приятеля.
А теперь предоставим двоих друзей, которых мы никак не могли покинуть ранее, спокойному сну и взглянем, что происходит в это время в замке Пюи-Вердон.
Господин Дютертр, наскоро пообедавший в дороге, проголодался; шестнадцатилетняя Каролина, которую сестры прозвали «папина Малютка», сбегала на кухню и, как истая буржуазка в лучшем смысле этого слова, собственноручно приготовила и сама подала ужин дорогому папочке. Девочка с пылким сердцем и спокойным воображением, она покамест знала только одно чувство – дочернюю любовь. Она была и по внешности, и по уму наименее яркой из трех молодых девиц на выданье, расцветших в Пюи-Вердоне, но зато была и самой счастливой из них, ибо не старалась быть ни самой умной, ни самой красивой. Лишь бы папа и мама были ею довольны, и она будет считать себя самой счастливой девушкой на свете, – говорила она, и говорила вполне искренне.
Среди естественной для очень богатого дома роскоши простые вкусы и хозяйственные наклонности Малютки составляли забавный контраст с аристократическими вкусами и заносчивым видом той из ее сестер, которую прозвали львицей. Эта самая львица и отважная наездница, Эвелина, только что спустилась в гостиную, сменив суконную амазонку на прелестное платье. Тщательно причесанная, надушенная, в щегольских туфельках, она казалась совсем другой девушкой. Эвелина знала это и любила показываться людям то в виде бойкого мальчишки, равнодушного к иссушающему кожу ветру и усталости после охоты, то в виде беспечной и утонченной светской дамы, полной обольстительного кокетства, пока еще невинного, но грозящего стать опасным в будущем.
Она надеялась застать больше людей, которые оценили бы это волшебное мгновенное превращение. Натали, всегда одетая строго, не потому, что так ей больше нравилось, а скорее для того, чтобы поражать этой богатой строгостью рядом с изысканными нарядами и затейливыми прическами Эвелины, сразу же громко сказала: «Они ушли», явно желая доставить ей неприятность, как это свойственно девицам высокомерным и завистливым. При этом она бросила насмешливо-восторженный взгляд на белокурые косы, в которые Эвелина вплела живые цветы, и на платье из белого муслина, струящееся и воздушное, как облако.
– Кто ушел? – спросила Эвелина с неловким притворством. Но тут же, взяв себя в руки, добавила если не вполне чистосердечно, то по крайней мере очень любезно: – Разве папенька не здесь? Может быть, я зря наряжалась для него?
Каролина увела отца к столу.
– Папа проголодался. Сейчас он посмотрит, какая ты красивая. Но тебе тоже надо поесть, сестричка. Ты носилась верхом после обеда, и если не перекусишь сейчас, то опять разбудишь нас среди ночи, крича, что умираешь с голоду. Садитесь, я сейчас подам еду вам обоим. Можно, мама? – спросила она, поцеловав руку Олимпии, лежащую у нее на плече.
– Это дело нешуточное, – ответила госпожа Дютертр, нежно улыбаясь любимой падчерице. – Может быть, придется попросить еще разрешения у отца, а потом у твоей старшей сестры, а потом у второй…
– Я сегодня всем и все разрешаю, – весело сказал Дютертр, – только любите меня! За полгода разлуки я изголодался больше всего по вашей любви.
– Вас любят все, отец, – сказала Эвелина, – и я охотно разрешаю Малютке разыгрывать перед вами хозяйку дома. Она прекрасно с этим справляется, а я, когда перестаю бегать или скакать верхом, уже ни на что больше не гожусь. Мне легче заколоть кабана, чем разрезать жареную куропатку.
– Что касается меня, – сказала Натали, – то я совсем не разбираюсь во всех этих тонкостях домашнего хозяйства, которые носят возвышенное название «кулинария».
Довольная Каролина отослала слуг, уселась подле отца и с восторгом принялась за ним ухаживать, поминутно вскакивая с места.
– Послушайте, отец, – продолжала Натали, – расскажите нам что-нибудь об этом мыслителе, которого вы нам сегодня представили.
– Почему ты называешь его мыслителем? Он просто литератор; ведь ты, вероятно, говоришь о господине Тьерре?
– Да, о человеке, именуемом Тьерре, – с величественным презрением ответила Натали. – Нам так мало о нем говорили, – продолжала она, глядя на Олимпию, – мы и не предполагали, что он настолько важная особа. Наверно, это правда, потому что он говорит, садится, смотрит и ходит как великий человек. Он мыслитель по профессии, это видно даже по его одежде, вплоть до пуговиц на гамашах.