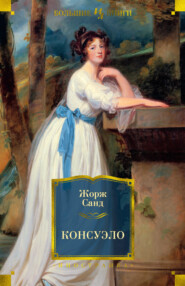По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Индиана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В октябре 1833 года, вскоре после окончания «Лелии», Жорж Санд познакомилась с Альфредом де Мюссе, и они вместе в марте 1834 года поехали в Венецию. Разрыв произошел довольно быстро, и Жорж Санд отправилась путешествовать в Альпы. Она писала своему покинутому другу длинные послания, которые были напечатаны в «Письмах путешественника». Эти письма являются этапом в идейном развитии Жорж Санд и, в частности, в истории ее борьбы с индивидуализмом. В них возникает образ молодого поэта, очень напоминающий образ Лорана в книге «Она и он». «Ты не осознавал своего величия, и жизнь твоя шла по воле страстей, которые истощали и губили ее… Ты хотел жить за собственный счет и убить свою славу из презрения к людям и ко всему, что с ними связано… Наконец твоему одинокому и полному гордыни сердцу открылась дружба. Ты соблаговолил поверить кому-то другому, кроме самого себя… Ужасная сила владела тобою. «Верните мне мою свободу, – кричал ты, – дайте мне бежать. Разве вы не видите, что я живу и что я молод?» Куда же ты хотел бежать?»
Очевидно, Мюссе болел той же болезнью, что и Жорж Санд в те дни, когда она задумывала свою «Лелию». Очевидно, она поняла своего безумного друга сквозь призму собственного отчаяния. Зрелище этой души, погрязающей в своем индивидуализме, оказалось великим поучением и началом спасения. Страдая от разрыва и не исчерпавшей себя любви, Жорж Санд хочет спастись от той «свободы», которая подобна одиночному заключению, и найти подлинную, захватывающую, спасительную любовь к тому, что не является ее собственным «я».
Путешественник, от лица которого написаны письма, бредет по альпийским скалам и горным лугам, входит в пещеры, собирает цветы, слышит ропот Бренты, вздохи ветра в тяжелой листве олив, шум дождевых капель, падающих с ветвей на скалы. Он вспоминает недавно покинутого одинокого безумца. Но внешний мир тоже существует. Он вторгся в сознание и доказал, что человек не одинок и что одиночество – это ошибка и ложь. Внутренний голос говорил: «Иди, двигайся вперед, познавай».
Пейзажи Альп, памятники искусства, статуи Кановы, каналы Венеции, беседы с мудрым доктором, предпочитающим краски и формы старой Италии фантастике и туманам Германии, веселая Беппа и лукавые гондольеры – великолепная поэзия здоровых чувств и общения с миром людей и вещей. Лелия ненавидела природу с ее «глупой красотой» и вечным молчанием. Жорж Санд, путешествуя по тем же местам Италии, восхищена природой, которая трогает ее своей особой жизнью, духовным содержанием и благостным отношением к человеку. Она хочет выйти из своего одиночества и ищет наставника, который бы указал ей путь к внешнему миру. Эта задача оказывается нелегкой. Ее друг Сент-Бёв советовал ей: «Выйдите за пределы самой себя». Так начинается долгая, прошедшая много стадий борьба за приятие мира.
4
В апреле 1834 года вспыхнуло восстание в Лионе, имевшее отклики в Париже и других городах. Все эти восстания были подавлены с жестокостью, вызвавшей смятение и негодование в широких слоях общества. Последовавший затем процесс «апрельских заговорщиков» слушался в Париже в палате пэров и был демонстрацией республиканских оппозиционных сил. Жорж Санд не могла остаться равнодушной к тому, что волновало всю Францию.
Одним из защитников апрельских заговорщиков был Мишель (из Буржа), адвокат и пламенный оратор-республиканец. Жорж Санд познакомилась с ним весной 1835 года, в начале знаменитого процесса. Сперва он eй не понравился. Все еще сохраняя свой индивидуализм, она боялась потерять своеобразно понимаемую свободу и подчиниться влиянию могучего оратора. Она не хочет над собой «господина» и предпочитает «цыганскую свободу» тому «кресту», к которому прикован политический деятель, непрерывно трудящийся на благо других и подчиненный надобностям своего дела. Ее пугает этот «Робеспьер», грозящий восстановить революционный пыл 1793 года; она утверждает, что в тот день, когда Мишель станет управлять государством, голова ее скатится с плахи. Слава, иначе говоря – политическая деятельность, кажется ей самой благородной погремушкой, какой тешит себя человечество. Ее путь – иной. Она художник. «О великодушные безумцы! Крепко правьте всеми этими гадкими идиотами и не жалейте на них плетей. А я тем временем, сидя на своей ветке, буду воспевать солнце». Так пишет она в письме, адресованном Мишелю, которого в «Письмах путешественника» называет Эвераром.
В ноябре 1835 года она все еще борется за свою «свободу» и не хочет подчинять себя слишком большим задачам. И все же: «Я дам себя четвертовать за идеи, которые, конечно, не будут осуществлены при моей жизни».
Но вскоре она переходит на сторону «Робеспьера» и упрекает сенсимонистов в том, что они предпочитают медленный и «евангельский» путь. Теперь она не стала бы сравнивать себя с птичкой, которая поет на дереве в то время, как другие сражаются и строят. Она солдат, вступающий в борьбу. Вместе с тем исчезает индивидуализм. Любование собственными страданиями, свойственными великой, особо чувствительной, особо глубокой душе, теперь кажется нелепостью.
Индивидуализм – это чувство одиночества, презрение к людям, мизантропия и пессимизм. Еще в 1837 году, в «Письмах к Марсии», Жорж Санд говорит о том, что «люди мысли» обречены на одиночество, – очевидно, она имела в виду аббата Ламенне, апологета христианства и вместе с тем пылкого проповедника демократических идей. Но затем она приходит к прямо противоположному выводу: «Не к чему возноситься над окружающими и презирать обыденные условия жизни. Не к чему искать одиночества, бежать в пустыни и жаждать освежающих гроз: наши жалобы – пустословие и богохульство. Что великого мы совершили, чтобы считать окружающих нас людей столь ничтожными и избегать даже следов их ног?.. Вместо того чтобы искать вокруг себя простые души и честные умы, мы начинаем ненавидеть род человеческий, мы становимся гордецами». Все эти «умники» требуют восхвалений и памятников, но «народ голодает; пусть умники разрешат нам подумать о хлебе для народа, прежде чем думать о том, чтобы сооружать им, умникам, храмы».
Она начинает исправлять «Лелию». «Яд, отравивший меня, теперь стал моим лекарством. Эта книга ввергла меня в скептицизм; теперь она меня спасает от скептицизма». В новой «Лелии», напечатанной в 1839 году, акценты переставлены, добавлены новые главы, и «книга гнева» превратилась в «книгу кротости». «Броситься в объятия матери Природы; стоически и благоговейно изгнать из своей жизни все, что связано с удовлетворенным тщеславием; упорно противостоять горделивым и злым; быть смиренным и малым с несчастными; оплакивать бедняка в его нищете и не желать другого утешения, кроме падения богача… жить скудно, все отдавать, чтобы восстановить первобытное равенство…»
Теперь скептицизм, то есть неверие в нравственность, в человечество и в историю, кажется ей неким мостом, переброшенным через бездну. «Скептицизм – опасный переход, которого мы не можем избежать; люди без ума и без сердца гибнут, люди отважные и сильные проходят…» («Письма к Марсии»).
Очевидно, борьба Жорж Санд с эгоизмом имела своею целью не только личное счастье. Она имела не только нравственный, но и общественный смысл.
«Порок, которого ты должен бояться, – пишет она своему двенадцатилетнему сыну Морису в 1835 году, – это слишком большая любовь к самому себе… Никогда, ни в какие времена люди не были так преданы эгоизму, как в наше время. Полвека тому назад началась яростная война между чувством справедливости и чувством жадности. Эта война далеко еще не закончена, хотя жадные пока еще побеждают».
Это оптимизм. Эпоха находится все в том же сумраке, но теперь Жорж Санд уже не волнует вопрос, беспокоивший целое поколение: вечерний это сумрак или предрассветная мгла. «Встань и взгляни: сквозь виноградные ветви и левкои твоего окна спускается к тебе утро. Одинокая лампа борется с зарей и бледнеет; сейчас взойдет солнце» («Письма к Марсии»).
Эти слова были написаны в 1837 году. Жорж Санд двигалась вместе с веком. Во второй половине 1830-х годов пошли на убыль республиканские восстания, волновавшие Париж и провинцию и всегда кончавшиеся жестоким поражением. Очевидно, сбросить июльский режим пока что было невозможно. Демократическая и республиканская оппозиция переходила на путь медленной, хотя бы даже подспудной работы. Начиналась новая фаза июльского режима – пора министерских кризисов.
У Жорж Санд появились новые учителя. Кроме Сент-Бёва, проповедовавшего в то время христианское смирение, и Мишеля, сторонника бурного действия, можно указать на друга Жорж Санд композитора Ференца Листа, увлекавшегося сенсимонизмом, на Ламенне и в особенности нa Пьера Леру, с которым Жорж Санд познакомилась лично в 1835 году, то есть после разлуки с Мишелем и некоторого ослабления дружеских связей с Листом.
Учение Пьера Леру – типичный пантеизм, в разных формах распространявшийся во Франции особенно с середины 1830-х годов. С этого времени пантеизм является теорией демократической по преимуществу. Пантеистическое учение о единстве материи и духа было противопоставлено христианскому дуализму и, следовательно, оправдывало борьбу за материальные блага обездоленных. Единство человека и человечества требовало солидарности и равенства людей всех сословий и состояний. Если человек – ничто как особь и представляет собой нечто лишь как частица человечества, то страдания всего человечества или каждой его частицы являются страданием всех остальных частиц. Пантеизм отрицал существование зла самого по себе, зла в природе, и рассматривал его как явление дурно организованного общества, следовательно, по существу своему был оптимистичен. Учение Леру не было статично, как, например, учение Спинозы. Мир находится в непрерывном движении и совершенствовании, говорит он. Развитие идет от камня к Богу. Человек должен помогать этому одухотворению материи, утверждению единства материи и духа в самом человеке. Счастье заключается не в том, чтобы подавлять человеческие страсти, а в том, чтобы направлять их ко благу не только собственному, но и всеобщему.
Жорж Санд почитала Леру «как нового Платона, как нового Христа». «Мои мысли стали ясными, мне уже не нужно бороться с сомнениями», – писала она в 1841 году. Все прояснилось в свете учения этого бедняка-самоучки, едва сводившего концы с концами. «Меня спас Пьер Леру», – говорила она в старости.
Путь для Жорж Санд был открыт. Она никогда не откажется от того, что завоевала на рубеже 1830-х и 1840-х годов. Отныне во всех ее произведениях все более отчетливо выступают основные идеи пантеизма с выводами, которые делал из них Леру. Самым важным для Жорж Санд было широкое оправдание бытия и всех жизненных процессов, так как с этой точки зрения история человечества представляется непрерывным развитием и совершенствованием.
В «Новых письмах путешественника» (1850—1860-е гг.) философия истории отсутствует; на смену ей приходит философия природы. После 1848-го и особенно после 1852 года, утратив надежду на скорое торжество своих социальных идей, Жорж Санд все больше интересуется естественными науками, особенно ботаникой и энтомологией, а несколько позже и геологией. Гербарии, коллекции бабочек и минералов доставляют ей философское и эстетическое наслаждение. Естественные науки заключают в себе нравственный смысл. Это средство борьбы с эгоизмом и эгоцентризмом, с мещанством. Изучение природы приводит к мысли, как будто древней как мир, но являющейся завоеванием нашего времени, пишет Жорж Санд в предисловии к роману «Вальведр». Эту мысль можно выразить в немногих словах: «Выйти за пределы самого себя». Так в 1861 году она повторяет то, что тридцать лет до того писал ей Сент-Бёв.
Естественно-научные интересы, углубленные пантеистическими размышлениями, стоят на заднем плане многих ее романов. Отвергая и спиритуализм и материализм (ей был известен только материализм вульгарный), она говорит о «бессознательной душе» растений и вместе с тем открывает себе путь к изучению подсознательных явлений психической жизни. Такое понимание «души», основанное на достижениях современной науки, характеризует ее художественную психологию.
Но психическая жизнь человека не обособлена от мировых процессов, и единство – не только в пределах данного организма: «Наблюдать движение жизни во вселенной и одновременно ее движение в нас самих – значит чувствовать всеобщую жизнь внутри нас и нашу личную – во вселенной». Для Жорж Санд это проблема не только философии, но и нравственного здоровья, а вместе с тем проблема этики и эстетики.
Индивидуализм, порожденный послереволюционными настроениями, презрение к роду человеческому, которое так мучительно переживала Жорж Санд в период первой «Лелии», вызвал противопоставление «великих людей» всем остальным, то есть «черни», мещанам, «бакалейщикам», всем тем, кто, наживаясь и делая карьеру, преуспевал при июльском режиме. «Лелия» построена на идее высшей личности, каковыми являются и сама Лелия и Стенио.
Эти высшие люди, приходившие в отчаяние от того, что творится вокруг них, были людьми мысли. При их взглядах делать им в реальной жизни было нечего, – всякий контакт с обществом казался нравственным компромиссом и как бы предательством. Поэтому люди действия легко могли отождествляться с дельцами самого низкого пошиба.
Но прошло несколько лет – и все изменилось. «Великая ошибка думать, что есть люди только действия и люди только мысли. Кто действовал больше Наполеона? Но если бы он не размышлял точно и глубоко накануне сражения, он не смог бы его выиграть. Правда, он размышлял быстрее, чем мы, но это значит, что он размышлял больше, чем мы». Так в 1841 году поучала Жорж Санд Шарля Дюверне, республиканца, считавшего себя только «человеком действия» и не желавшего размышлять.
В политическом плане «мысль» проповедовали сенсимонисты, а «действие» – республиканцы. Приблизительно то же было и в 1848 году. В письме сенсимонисту А. Геру, после того как Луи-Наполеон был избран президентом, Жорж Санд говорила уже в новых терминах о единстве мысли и действия: «Давно уже мы все согласны с тем, что социализм не может обойтись без политики и что политика не может обойтись без социализма».
Как бы ни были дискриминированы в ее глазах великие люди, она все еще искала учителей, которые могли бы открыть ей истину и укрепить дух, изнемогающий в борьбе с недоверием и отчаянием. Сенсимонисты, Сент-Бёв, Ламенне, Мишель, Леру – все это были этапы ее поисков и умственного развития. К середине 1830-х годов она почувствовала необходимость единого руководства всем прогрессивным движением. «Я говорила с сенсимонистами, с карлистами, с Ламенне, с Коэссеном, с золотой серединой и вчера – с самим олицетворенным Робеспьером (то есть Мишелем. – Б. Р.). У всех них я нашла большую долю добродетели, честности, понимания и разума». Но это только «клочки истины», которую эти «секты» растерзали на части. Если бы появился «человек ума и сердца», умеющий понять обстоятельства и владеть ими, он смог бы направить все партии к одной цели.
Через десять лет, в 1845 году, в период широкого развития прогрессивного движения, в романе, исполненном идей утопического социализма, Жорж Санд призывает к «борьбе слабых против сильных» («Грех господина Антуана»). Борьба эта трудна, и мысль возвращается к самому деспотическому из правителей Франции: «Если бы гений Наполеона воспитался в этом учении, оно, может быть, преобразовало бы мир». Но в конце того же романа оказывается, что «гений одного человека – почти ничто» и нужно сто человек, чтобы что-нибудь совершить.
5
С середины 1830-х годов и вплоть до государственного переворота 1851 года Жорж Санд остро интересуется политическими вопросами. Она так удручена общественной несправедливостью, что быть счастливой кажется ей чуть ли не преступлением. «Каждое счастье – почти воровство посреди этого плохо устроенного человечества, когда в силу обстоятельств и по закону неравенства можно пользоваться благосостоянием и свободой только за счет своего ближнего» (1845). В основанном при ее участии журнале «Ревю эндепандант» («Независимое обозрение») она печатает художественные и публицистические произведения, привлекающие внимание широких демократических слоев.
«Я люблю пролетариев, – писала Жорж Санд в 1836 году, – во-первых, потому, что они пролетарии, а затем потому, что в них заключается зерно истины, зародыш будущей цивилизации». В 1840-е годы она была уверена, что новое общество будет создано народом, хотя нельзя предвидеть формы, в которых эта революция осуществится, так как нельзя предсказать, какие формы в будущем примет человеческая мысль. Таким образом, к революции 1848 года Жорж Санд пришла подготовленной. Мало того – она готовила эту революцию своими статьями и художественным творчеством. Она проповедовала социализм того типа, который был представлен Луи Бланом. В марте 1848 года, когда социалистов стали называть коммунистами, она открыто приняла это имя, смертельно пугавшее буржуазию.
Первые дни революции были полны беспредельного энтузиазма. «Французский народ – первый народ в мире», – пишет Жорж Санд и удивляется порядку на улицах во время демонстраций. Она считает, что народ и буржуазия должны объединиться для достижения общей цели, и уверена, что «братское единство вычеркнет из книги нового человечества самое слово к л а с с».
Затем наступила реакция. Ни крупная, ни мелкая буржуазия не пошла с народом, крестьянство оказалось под ее влиянием, иллюзии Жорж Санд рассеялись. Начались репрессии. «Каждый, кто действует в духе революции… в настоящий момент встречает сопротивление, реакцию, ненависть, угрозы. Иначе нельзя, и какая была бы заслуга революционера, если бы все шло само собой и если бы нужно было только захотеть, чтобы всего достигнуть? Нет, мы в бою, и, может быть, всегда будем в бою». «Борьба начата, я знаю это. Мы погибнем в ней, и это меня утешает. После нас прогресс будет продолжаться. Я не сомневаюсь ни в Боге, ни в людях, но я не могу не чувствовать горечи в увлекающем нас потоке бедствий, в котором мы плывем, глотая столько желчи». Слова эти были написаны за несколько дней до июньского восстания, подавленного со страшной жестокостью.
Переворот Луи Бонапарта (декабрь 1851 г.) и оправдавший его плебисцит Жорж Санд переживала тяжело. Ее огорчало, что в кругах революционеров не было единства. «Нас убили наши разногласия, и мы, окровавленные, распростертые на поле сражения, все еще продолжаем убивать друг друга. Какое страшное время! Какое страшное безумие!» «Я не из тех, кто душит друг друга, находясь в объятиях смерти».
Разумеется, Жорж Санд не до конца понимала происходившее, и прежде всего не понимала, что господствующие классы никогда не примут социальной революции и не уступят своего положения добровольно. Не понимала она и того, что крестьяне, которым она отдала так много своей жизни, еще не «воспитаны» для революции. Она не хотела никакой диктатуры, даже диктатуры «коммунистов» – той партии, к которой она себя причисляла, полагая, что всякая диктатура есть уничтожение свободы и что революция возможна без насилия.
На многие месяцы она потеряла способность писать. «Страдание делает человека немым, единственная живая струна сердца – негодование», – писала она в 1850 году известному итальянскому революционеру Джузеппе Мадзини. «Да, я хотела бы пробудить народ от спячки и позора, чтобы он вознегодовал на самого себя и устыдился своего унижения. Я, может быть, нашла бы искры красноречия, и они стали бы более жаркими и плодотворными от уверенности в том, что я буду убита народом на следующий же день. Но меня удерживает только остаток жалости… Я думаю о страданиях и бедствиях этого виновного и так жестоко наказанного народа».
Но через два года душевное равновесие как будто восстановилось, надежда вернулась: «Я чувствую, что снова люблю народ и верю в его будущее так же, как накануне этих плебисцитов, которые могли вызвать сомнение в нем и побудили многих, пораженных в самое сердце, презирать и проклинать его». Ей казалось, что только время и терпение могут победить «слепой рок» реакции: «Лишь нравственное чувство, чувство всеобщего братства, евангельское чувство может спасти этот народ от упадка».
В те времена, когда Луи-Наполеон, находясь в заключении, писал брошюру «Об уничтожении пауперизма», Жорж Санд сочувствовала ему и переписывалась с ним. Теперь, когда он стал владыкой Франции, она обращалась к нему с постоянными просьбами о помиловании лиц, участвовавших в республиканских заговорах или сопротивлявшихся перевороту.
Она даже питала слабую надежду на то, что новый властитель после плебисцита уверится в том, что сила его – в народе, и сделает своей опорой демократию. Но старые бонапартистские идеи о «демократической» природе императорской власти утешали недолго, – политика Луи-Наполеона показала утопичность всех этих надежд. Приходилось действовать своими силами и теми средствами, которые были в ее распоряжении. Спасения она искала у своего письменного стола. В это время ей было легче писать пьесы для театра.
Драмы Жорж Санд писала еще в 1830-е и 1840-е годы, но это были редкие случаи («Габриэль», «Миссисипийцы», «Козима»). В 1846 году под руководством ее сына Мориса в Ноане стали сочинять и ставить на домашней сцене комедии дель арте, итальянские народные импровизированные пьесы. Жорж Санд почувствовала интерес к театру и могла проверять сценический эффект тех или иных персонажей, сюжетных ходов и психологических размышлений. Многие ее пьесы, которые ставились на парижских сценах в 1850—1860-е годы, были переработкой ее романов, другие были написаны специально для театра. Наибольшим успехом, по причине ее антиклерикального характера, пользовалась драма «Маркиз де Вильмер» (1864), переработка романа того же названия. Большинство этих пьес собрано в четырех томах французского издания.
Как и прежде, Жорж Санд живет в Ноане, с которым были связаны лучшие воспоминания ее молодости, изредка позволяя себе небольшие путешествия. В 1855 году она провела несколько месяцев в Италии, но теперь уже не в Венеции, а в Риме и Фраскати. Результатом этой поездки оказался роман «Даниэлла». Некоторое время Жорж Санд жила в Гаржилесе, где ее не беспокоили ни гости, ни просьбы о помощи со всей округи, затем в Тамарисе, на юге Франции, поблизости от Тулона, куда она выезжала, чтобы вылечиться от тяжелой болезни. Потом женился Морис, и Жорж Санд пришлось на три года переселиться в Палезо, местечко поблизости от Парижа. После 1867 года она почти все время живет в Ноане, лишь изредка выезжая в Париж для постановки пьесы или по литературным делам. Между тем творчество продолжается с той же интенсивностью. Она пишет ежегодно один, два или три романа и, кроме того, статьи политического, философского и литературно-критического характера, занимающие в целом больше десяти томов.
Франко-прусская война 1870 года была для Жорж Санд тяжелым потрясением. Отчаяние, охватившее ее во время этой несчастной для Франции войны, вскоре было преодолено тем несокрушимым историческим оптимизмом, который она усвоила еще в 1830-е годы. Жорж Санд не осознала политического и нравственного смысла Парижской коммуны, но она отлично понимала причины, вызвавшие ее, и так же, как прежде, сочувствовала идеям коммунистического переустройства общества. Она умерла 8 июня 1876 года и похоронена на фамильном кладбище Ноана, поблизости от своего дома, под тенью огромного развесистого тиса.
6
Индивидуалистические тенденции особенно долго сохранялись у Жорж Санд в вопросах искусства. Специфика художественного труда, особый, созерцательный и, при всей его конкретности, оторванный от практических целей взгляд на вещи делают художника одиноким в окружающей его среде. Его поведение и психология отличаются от общепринятых норм. Он не корыстолюбив, а стоимость его произведений не подлежит денежной оценке. Ему нужны особые условия жизни и особые эмоции, без которых другие люди могут обойтись, а потому его нельзя подчинять законам морали, обязательным для всех остальных.
Эти взгляды получили свое отражение в романе «Она и он», в образе Лорана, немного напоминающего Альфреда де Мюссе. От художника нельзя требовать того же, чего от других людей, он живет двойной жизнью – человека и художника одновременно, и, следовательно, как художник он не отвечает за поступки, которые совершает как человек. Специфические занятия и «независимая жизнь» часто заставляют его пренебрегать общественными условностями. Таковы характер и поведение Лорана. Но сама Жорж Санд давно отказалась от этой «эстетической» формы имморализма. Жорж Санд понимает искусство как общественный долг. Правда, художник должен быть свободен, – и тут она не согласна с Мишелем, требовавшим безусловного подчинения художника республиканской программе. Но это свобода долга, а не свобода имморализма. Не может быть великим художником слова тот, кто любит только самого себя («Приемная дочь»). Это то, что можно назвать «болезнью поэтов». «Не дай убедить себя в том, что художнику и поэту разрешено жить так называемой большой жизнью, не стесняя себя никакой нравственностью». Статью о Бальзаке Жорж Санд начала фразой, которая должна была вызвать возмущение сторонников искусства для искусства: «Сказать о гениальном человеке, что он был глубоко добрым человеком, значит выразить ему величайшую похвалу, на какую я способна».
В конце 1820-х годов, когда Аврора Дюдеван еще не помышляла о литературной деятельности, она была во власти сентиментальной традиции Жан-Жака Руссо и руссоистских, преимущественно женских, романов Империи и Реставрации. Она говорила о «чувствительных сердцах», считала любовь высшим занятием и счастьем человека. Затем, в 1830-е годы, чувствительность приобрела другие формы, она превратилась в неистовую страсть, противопоставила себя обществу и стала началом разрушительным, приводящим к убийству и к самоубийству. Наконец, к 1840-м годам чувствительность стала средством вживания в объективный мир, постижением природы и чужой души, необходимым для объективного искусства. «Выйти за пределы самого себя» стало для нее законом не только философии, но и художественного творчества.
Удрученная событиями, последовавшими за июньским восстанием, Жорж Санд объясняла свое молчание отсутствием контакта с действительностью. Теперь, писала она Мадзини, «самые искренние писатели – это самые молчаливые, потому что нельзя жить и чувствовать в изоляции. Писатель не инструмент, который может играть сам по себе. Будь ты хоть простой шарманкой, все же нужна рука, чтобы тебя вертеть. Рука, внешний толчок, ветер, от которого звучат эоловы арфы, – это всеобщее чувство, жизнь человечества, которая передается инструменту, художнику».
Таков закон высшего искусства, глубоко и полно выражающего действительность. Тот, кто всегда «в голосе» и поет сам по себе, – эгоист, удовлетворяющийся своим собственным существованием: «Жалкая жизнь, которая не является эманацией жизни всеобщей!»
Жорж Санд хотела, чтобы ее искусство передавало не только «жизнь человечества», но и «жизнь природы». В 1842 году она советовала Шарлю Понси, рабочему-поэту, насытить свои пейзажи большим человеческим чувством. «Мне хотелось бы, чтобы это беспощадное море, так хорошо вам известное, наполнилось личным чувством, стало более значительно, чтобы страх и восхищение, чувства, которые вызывает у нас волшебство поэзии, были всегда связаны с глубокими человеческими переживаниями. Словом, нужно говорить глазам воображения только для того, чтобы проникнуть в душу глубже, чем при помощи рассуждения… Поэт должен петь только для того, чтобы вызвать чувство и мысль».
Очевидно, Мюссе болел той же болезнью, что и Жорж Санд в те дни, когда она задумывала свою «Лелию». Очевидно, она поняла своего безумного друга сквозь призму собственного отчаяния. Зрелище этой души, погрязающей в своем индивидуализме, оказалось великим поучением и началом спасения. Страдая от разрыва и не исчерпавшей себя любви, Жорж Санд хочет спастись от той «свободы», которая подобна одиночному заключению, и найти подлинную, захватывающую, спасительную любовь к тому, что не является ее собственным «я».
Путешественник, от лица которого написаны письма, бредет по альпийским скалам и горным лугам, входит в пещеры, собирает цветы, слышит ропот Бренты, вздохи ветра в тяжелой листве олив, шум дождевых капель, падающих с ветвей на скалы. Он вспоминает недавно покинутого одинокого безумца. Но внешний мир тоже существует. Он вторгся в сознание и доказал, что человек не одинок и что одиночество – это ошибка и ложь. Внутренний голос говорил: «Иди, двигайся вперед, познавай».
Пейзажи Альп, памятники искусства, статуи Кановы, каналы Венеции, беседы с мудрым доктором, предпочитающим краски и формы старой Италии фантастике и туманам Германии, веселая Беппа и лукавые гондольеры – великолепная поэзия здоровых чувств и общения с миром людей и вещей. Лелия ненавидела природу с ее «глупой красотой» и вечным молчанием. Жорж Санд, путешествуя по тем же местам Италии, восхищена природой, которая трогает ее своей особой жизнью, духовным содержанием и благостным отношением к человеку. Она хочет выйти из своего одиночества и ищет наставника, который бы указал ей путь к внешнему миру. Эта задача оказывается нелегкой. Ее друг Сент-Бёв советовал ей: «Выйдите за пределы самой себя». Так начинается долгая, прошедшая много стадий борьба за приятие мира.
4
В апреле 1834 года вспыхнуло восстание в Лионе, имевшее отклики в Париже и других городах. Все эти восстания были подавлены с жестокостью, вызвавшей смятение и негодование в широких слоях общества. Последовавший затем процесс «апрельских заговорщиков» слушался в Париже в палате пэров и был демонстрацией республиканских оппозиционных сил. Жорж Санд не могла остаться равнодушной к тому, что волновало всю Францию.
Одним из защитников апрельских заговорщиков был Мишель (из Буржа), адвокат и пламенный оратор-республиканец. Жорж Санд познакомилась с ним весной 1835 года, в начале знаменитого процесса. Сперва он eй не понравился. Все еще сохраняя свой индивидуализм, она боялась потерять своеобразно понимаемую свободу и подчиниться влиянию могучего оратора. Она не хочет над собой «господина» и предпочитает «цыганскую свободу» тому «кресту», к которому прикован политический деятель, непрерывно трудящийся на благо других и подчиненный надобностям своего дела. Ее пугает этот «Робеспьер», грозящий восстановить революционный пыл 1793 года; она утверждает, что в тот день, когда Мишель станет управлять государством, голова ее скатится с плахи. Слава, иначе говоря – политическая деятельность, кажется ей самой благородной погремушкой, какой тешит себя человечество. Ее путь – иной. Она художник. «О великодушные безумцы! Крепко правьте всеми этими гадкими идиотами и не жалейте на них плетей. А я тем временем, сидя на своей ветке, буду воспевать солнце». Так пишет она в письме, адресованном Мишелю, которого в «Письмах путешественника» называет Эвераром.
В ноябре 1835 года она все еще борется за свою «свободу» и не хочет подчинять себя слишком большим задачам. И все же: «Я дам себя четвертовать за идеи, которые, конечно, не будут осуществлены при моей жизни».
Но вскоре она переходит на сторону «Робеспьера» и упрекает сенсимонистов в том, что они предпочитают медленный и «евангельский» путь. Теперь она не стала бы сравнивать себя с птичкой, которая поет на дереве в то время, как другие сражаются и строят. Она солдат, вступающий в борьбу. Вместе с тем исчезает индивидуализм. Любование собственными страданиями, свойственными великой, особо чувствительной, особо глубокой душе, теперь кажется нелепостью.
Индивидуализм – это чувство одиночества, презрение к людям, мизантропия и пессимизм. Еще в 1837 году, в «Письмах к Марсии», Жорж Санд говорит о том, что «люди мысли» обречены на одиночество, – очевидно, она имела в виду аббата Ламенне, апологета христианства и вместе с тем пылкого проповедника демократических идей. Но затем она приходит к прямо противоположному выводу: «Не к чему возноситься над окружающими и презирать обыденные условия жизни. Не к чему искать одиночества, бежать в пустыни и жаждать освежающих гроз: наши жалобы – пустословие и богохульство. Что великого мы совершили, чтобы считать окружающих нас людей столь ничтожными и избегать даже следов их ног?.. Вместо того чтобы искать вокруг себя простые души и честные умы, мы начинаем ненавидеть род человеческий, мы становимся гордецами». Все эти «умники» требуют восхвалений и памятников, но «народ голодает; пусть умники разрешат нам подумать о хлебе для народа, прежде чем думать о том, чтобы сооружать им, умникам, храмы».
Она начинает исправлять «Лелию». «Яд, отравивший меня, теперь стал моим лекарством. Эта книга ввергла меня в скептицизм; теперь она меня спасает от скептицизма». В новой «Лелии», напечатанной в 1839 году, акценты переставлены, добавлены новые главы, и «книга гнева» превратилась в «книгу кротости». «Броситься в объятия матери Природы; стоически и благоговейно изгнать из своей жизни все, что связано с удовлетворенным тщеславием; упорно противостоять горделивым и злым; быть смиренным и малым с несчастными; оплакивать бедняка в его нищете и не желать другого утешения, кроме падения богача… жить скудно, все отдавать, чтобы восстановить первобытное равенство…»
Теперь скептицизм, то есть неверие в нравственность, в человечество и в историю, кажется ей неким мостом, переброшенным через бездну. «Скептицизм – опасный переход, которого мы не можем избежать; люди без ума и без сердца гибнут, люди отважные и сильные проходят…» («Письма к Марсии»).
Очевидно, борьба Жорж Санд с эгоизмом имела своею целью не только личное счастье. Она имела не только нравственный, но и общественный смысл.
«Порок, которого ты должен бояться, – пишет она своему двенадцатилетнему сыну Морису в 1835 году, – это слишком большая любовь к самому себе… Никогда, ни в какие времена люди не были так преданы эгоизму, как в наше время. Полвека тому назад началась яростная война между чувством справедливости и чувством жадности. Эта война далеко еще не закончена, хотя жадные пока еще побеждают».
Это оптимизм. Эпоха находится все в том же сумраке, но теперь Жорж Санд уже не волнует вопрос, беспокоивший целое поколение: вечерний это сумрак или предрассветная мгла. «Встань и взгляни: сквозь виноградные ветви и левкои твоего окна спускается к тебе утро. Одинокая лампа борется с зарей и бледнеет; сейчас взойдет солнце» («Письма к Марсии»).
Эти слова были написаны в 1837 году. Жорж Санд двигалась вместе с веком. Во второй половине 1830-х годов пошли на убыль республиканские восстания, волновавшие Париж и провинцию и всегда кончавшиеся жестоким поражением. Очевидно, сбросить июльский режим пока что было невозможно. Демократическая и республиканская оппозиция переходила на путь медленной, хотя бы даже подспудной работы. Начиналась новая фаза июльского режима – пора министерских кризисов.
У Жорж Санд появились новые учителя. Кроме Сент-Бёва, проповедовавшего в то время христианское смирение, и Мишеля, сторонника бурного действия, можно указать на друга Жорж Санд композитора Ференца Листа, увлекавшегося сенсимонизмом, на Ламенне и в особенности нa Пьера Леру, с которым Жорж Санд познакомилась лично в 1835 году, то есть после разлуки с Мишелем и некоторого ослабления дружеских связей с Листом.
Учение Пьера Леру – типичный пантеизм, в разных формах распространявшийся во Франции особенно с середины 1830-х годов. С этого времени пантеизм является теорией демократической по преимуществу. Пантеистическое учение о единстве материи и духа было противопоставлено христианскому дуализму и, следовательно, оправдывало борьбу за материальные блага обездоленных. Единство человека и человечества требовало солидарности и равенства людей всех сословий и состояний. Если человек – ничто как особь и представляет собой нечто лишь как частица человечества, то страдания всего человечества или каждой его частицы являются страданием всех остальных частиц. Пантеизм отрицал существование зла самого по себе, зла в природе, и рассматривал его как явление дурно организованного общества, следовательно, по существу своему был оптимистичен. Учение Леру не было статично, как, например, учение Спинозы. Мир находится в непрерывном движении и совершенствовании, говорит он. Развитие идет от камня к Богу. Человек должен помогать этому одухотворению материи, утверждению единства материи и духа в самом человеке. Счастье заключается не в том, чтобы подавлять человеческие страсти, а в том, чтобы направлять их ко благу не только собственному, но и всеобщему.
Жорж Санд почитала Леру «как нового Платона, как нового Христа». «Мои мысли стали ясными, мне уже не нужно бороться с сомнениями», – писала она в 1841 году. Все прояснилось в свете учения этого бедняка-самоучки, едва сводившего концы с концами. «Меня спас Пьер Леру», – говорила она в старости.
Путь для Жорж Санд был открыт. Она никогда не откажется от того, что завоевала на рубеже 1830-х и 1840-х годов. Отныне во всех ее произведениях все более отчетливо выступают основные идеи пантеизма с выводами, которые делал из них Леру. Самым важным для Жорж Санд было широкое оправдание бытия и всех жизненных процессов, так как с этой точки зрения история человечества представляется непрерывным развитием и совершенствованием.
В «Новых письмах путешественника» (1850—1860-е гг.) философия истории отсутствует; на смену ей приходит философия природы. После 1848-го и особенно после 1852 года, утратив надежду на скорое торжество своих социальных идей, Жорж Санд все больше интересуется естественными науками, особенно ботаникой и энтомологией, а несколько позже и геологией. Гербарии, коллекции бабочек и минералов доставляют ей философское и эстетическое наслаждение. Естественные науки заключают в себе нравственный смысл. Это средство борьбы с эгоизмом и эгоцентризмом, с мещанством. Изучение природы приводит к мысли, как будто древней как мир, но являющейся завоеванием нашего времени, пишет Жорж Санд в предисловии к роману «Вальведр». Эту мысль можно выразить в немногих словах: «Выйти за пределы самого себя». Так в 1861 году она повторяет то, что тридцать лет до того писал ей Сент-Бёв.
Естественно-научные интересы, углубленные пантеистическими размышлениями, стоят на заднем плане многих ее романов. Отвергая и спиритуализм и материализм (ей был известен только материализм вульгарный), она говорит о «бессознательной душе» растений и вместе с тем открывает себе путь к изучению подсознательных явлений психической жизни. Такое понимание «души», основанное на достижениях современной науки, характеризует ее художественную психологию.
Но психическая жизнь человека не обособлена от мировых процессов, и единство – не только в пределах данного организма: «Наблюдать движение жизни во вселенной и одновременно ее движение в нас самих – значит чувствовать всеобщую жизнь внутри нас и нашу личную – во вселенной». Для Жорж Санд это проблема не только философии, но и нравственного здоровья, а вместе с тем проблема этики и эстетики.
Индивидуализм, порожденный послереволюционными настроениями, презрение к роду человеческому, которое так мучительно переживала Жорж Санд в период первой «Лелии», вызвал противопоставление «великих людей» всем остальным, то есть «черни», мещанам, «бакалейщикам», всем тем, кто, наживаясь и делая карьеру, преуспевал при июльском режиме. «Лелия» построена на идее высшей личности, каковыми являются и сама Лелия и Стенио.
Эти высшие люди, приходившие в отчаяние от того, что творится вокруг них, были людьми мысли. При их взглядах делать им в реальной жизни было нечего, – всякий контакт с обществом казался нравственным компромиссом и как бы предательством. Поэтому люди действия легко могли отождествляться с дельцами самого низкого пошиба.
Но прошло несколько лет – и все изменилось. «Великая ошибка думать, что есть люди только действия и люди только мысли. Кто действовал больше Наполеона? Но если бы он не размышлял точно и глубоко накануне сражения, он не смог бы его выиграть. Правда, он размышлял быстрее, чем мы, но это значит, что он размышлял больше, чем мы». Так в 1841 году поучала Жорж Санд Шарля Дюверне, республиканца, считавшего себя только «человеком действия» и не желавшего размышлять.
В политическом плане «мысль» проповедовали сенсимонисты, а «действие» – республиканцы. Приблизительно то же было и в 1848 году. В письме сенсимонисту А. Геру, после того как Луи-Наполеон был избран президентом, Жорж Санд говорила уже в новых терминах о единстве мысли и действия: «Давно уже мы все согласны с тем, что социализм не может обойтись без политики и что политика не может обойтись без социализма».
Как бы ни были дискриминированы в ее глазах великие люди, она все еще искала учителей, которые могли бы открыть ей истину и укрепить дух, изнемогающий в борьбе с недоверием и отчаянием. Сенсимонисты, Сент-Бёв, Ламенне, Мишель, Леру – все это были этапы ее поисков и умственного развития. К середине 1830-х годов она почувствовала необходимость единого руководства всем прогрессивным движением. «Я говорила с сенсимонистами, с карлистами, с Ламенне, с Коэссеном, с золотой серединой и вчера – с самим олицетворенным Робеспьером (то есть Мишелем. – Б. Р.). У всех них я нашла большую долю добродетели, честности, понимания и разума». Но это только «клочки истины», которую эти «секты» растерзали на части. Если бы появился «человек ума и сердца», умеющий понять обстоятельства и владеть ими, он смог бы направить все партии к одной цели.
Через десять лет, в 1845 году, в период широкого развития прогрессивного движения, в романе, исполненном идей утопического социализма, Жорж Санд призывает к «борьбе слабых против сильных» («Грех господина Антуана»). Борьба эта трудна, и мысль возвращается к самому деспотическому из правителей Франции: «Если бы гений Наполеона воспитался в этом учении, оно, может быть, преобразовало бы мир». Но в конце того же романа оказывается, что «гений одного человека – почти ничто» и нужно сто человек, чтобы что-нибудь совершить.
5
С середины 1830-х годов и вплоть до государственного переворота 1851 года Жорж Санд остро интересуется политическими вопросами. Она так удручена общественной несправедливостью, что быть счастливой кажется ей чуть ли не преступлением. «Каждое счастье – почти воровство посреди этого плохо устроенного человечества, когда в силу обстоятельств и по закону неравенства можно пользоваться благосостоянием и свободой только за счет своего ближнего» (1845). В основанном при ее участии журнале «Ревю эндепандант» («Независимое обозрение») она печатает художественные и публицистические произведения, привлекающие внимание широких демократических слоев.
«Я люблю пролетариев, – писала Жорж Санд в 1836 году, – во-первых, потому, что они пролетарии, а затем потому, что в них заключается зерно истины, зародыш будущей цивилизации». В 1840-е годы она была уверена, что новое общество будет создано народом, хотя нельзя предвидеть формы, в которых эта революция осуществится, так как нельзя предсказать, какие формы в будущем примет человеческая мысль. Таким образом, к революции 1848 года Жорж Санд пришла подготовленной. Мало того – она готовила эту революцию своими статьями и художественным творчеством. Она проповедовала социализм того типа, который был представлен Луи Бланом. В марте 1848 года, когда социалистов стали называть коммунистами, она открыто приняла это имя, смертельно пугавшее буржуазию.
Первые дни революции были полны беспредельного энтузиазма. «Французский народ – первый народ в мире», – пишет Жорж Санд и удивляется порядку на улицах во время демонстраций. Она считает, что народ и буржуазия должны объединиться для достижения общей цели, и уверена, что «братское единство вычеркнет из книги нового человечества самое слово к л а с с».
Затем наступила реакция. Ни крупная, ни мелкая буржуазия не пошла с народом, крестьянство оказалось под ее влиянием, иллюзии Жорж Санд рассеялись. Начались репрессии. «Каждый, кто действует в духе революции… в настоящий момент встречает сопротивление, реакцию, ненависть, угрозы. Иначе нельзя, и какая была бы заслуга революционера, если бы все шло само собой и если бы нужно было только захотеть, чтобы всего достигнуть? Нет, мы в бою, и, может быть, всегда будем в бою». «Борьба начата, я знаю это. Мы погибнем в ней, и это меня утешает. После нас прогресс будет продолжаться. Я не сомневаюсь ни в Боге, ни в людях, но я не могу не чувствовать горечи в увлекающем нас потоке бедствий, в котором мы плывем, глотая столько желчи». Слова эти были написаны за несколько дней до июньского восстания, подавленного со страшной жестокостью.
Переворот Луи Бонапарта (декабрь 1851 г.) и оправдавший его плебисцит Жорж Санд переживала тяжело. Ее огорчало, что в кругах революционеров не было единства. «Нас убили наши разногласия, и мы, окровавленные, распростертые на поле сражения, все еще продолжаем убивать друг друга. Какое страшное время! Какое страшное безумие!» «Я не из тех, кто душит друг друга, находясь в объятиях смерти».
Разумеется, Жорж Санд не до конца понимала происходившее, и прежде всего не понимала, что господствующие классы никогда не примут социальной революции и не уступят своего положения добровольно. Не понимала она и того, что крестьяне, которым она отдала так много своей жизни, еще не «воспитаны» для революции. Она не хотела никакой диктатуры, даже диктатуры «коммунистов» – той партии, к которой она себя причисляла, полагая, что всякая диктатура есть уничтожение свободы и что революция возможна без насилия.
На многие месяцы она потеряла способность писать. «Страдание делает человека немым, единственная живая струна сердца – негодование», – писала она в 1850 году известному итальянскому революционеру Джузеппе Мадзини. «Да, я хотела бы пробудить народ от спячки и позора, чтобы он вознегодовал на самого себя и устыдился своего унижения. Я, может быть, нашла бы искры красноречия, и они стали бы более жаркими и плодотворными от уверенности в том, что я буду убита народом на следующий же день. Но меня удерживает только остаток жалости… Я думаю о страданиях и бедствиях этого виновного и так жестоко наказанного народа».
Но через два года душевное равновесие как будто восстановилось, надежда вернулась: «Я чувствую, что снова люблю народ и верю в его будущее так же, как накануне этих плебисцитов, которые могли вызвать сомнение в нем и побудили многих, пораженных в самое сердце, презирать и проклинать его». Ей казалось, что только время и терпение могут победить «слепой рок» реакции: «Лишь нравственное чувство, чувство всеобщего братства, евангельское чувство может спасти этот народ от упадка».
В те времена, когда Луи-Наполеон, находясь в заключении, писал брошюру «Об уничтожении пауперизма», Жорж Санд сочувствовала ему и переписывалась с ним. Теперь, когда он стал владыкой Франции, она обращалась к нему с постоянными просьбами о помиловании лиц, участвовавших в республиканских заговорах или сопротивлявшихся перевороту.
Она даже питала слабую надежду на то, что новый властитель после плебисцита уверится в том, что сила его – в народе, и сделает своей опорой демократию. Но старые бонапартистские идеи о «демократической» природе императорской власти утешали недолго, – политика Луи-Наполеона показала утопичность всех этих надежд. Приходилось действовать своими силами и теми средствами, которые были в ее распоряжении. Спасения она искала у своего письменного стола. В это время ей было легче писать пьесы для театра.
Драмы Жорж Санд писала еще в 1830-е и 1840-е годы, но это были редкие случаи («Габриэль», «Миссисипийцы», «Козима»). В 1846 году под руководством ее сына Мориса в Ноане стали сочинять и ставить на домашней сцене комедии дель арте, итальянские народные импровизированные пьесы. Жорж Санд почувствовала интерес к театру и могла проверять сценический эффект тех или иных персонажей, сюжетных ходов и психологических размышлений. Многие ее пьесы, которые ставились на парижских сценах в 1850—1860-е годы, были переработкой ее романов, другие были написаны специально для театра. Наибольшим успехом, по причине ее антиклерикального характера, пользовалась драма «Маркиз де Вильмер» (1864), переработка романа того же названия. Большинство этих пьес собрано в четырех томах французского издания.
Как и прежде, Жорж Санд живет в Ноане, с которым были связаны лучшие воспоминания ее молодости, изредка позволяя себе небольшие путешествия. В 1855 году она провела несколько месяцев в Италии, но теперь уже не в Венеции, а в Риме и Фраскати. Результатом этой поездки оказался роман «Даниэлла». Некоторое время Жорж Санд жила в Гаржилесе, где ее не беспокоили ни гости, ни просьбы о помощи со всей округи, затем в Тамарисе, на юге Франции, поблизости от Тулона, куда она выезжала, чтобы вылечиться от тяжелой болезни. Потом женился Морис, и Жорж Санд пришлось на три года переселиться в Палезо, местечко поблизости от Парижа. После 1867 года она почти все время живет в Ноане, лишь изредка выезжая в Париж для постановки пьесы или по литературным делам. Между тем творчество продолжается с той же интенсивностью. Она пишет ежегодно один, два или три романа и, кроме того, статьи политического, философского и литературно-критического характера, занимающие в целом больше десяти томов.
Франко-прусская война 1870 года была для Жорж Санд тяжелым потрясением. Отчаяние, охватившее ее во время этой несчастной для Франции войны, вскоре было преодолено тем несокрушимым историческим оптимизмом, который она усвоила еще в 1830-е годы. Жорж Санд не осознала политического и нравственного смысла Парижской коммуны, но она отлично понимала причины, вызвавшие ее, и так же, как прежде, сочувствовала идеям коммунистического переустройства общества. Она умерла 8 июня 1876 года и похоронена на фамильном кладбище Ноана, поблизости от своего дома, под тенью огромного развесистого тиса.
6
Индивидуалистические тенденции особенно долго сохранялись у Жорж Санд в вопросах искусства. Специфика художественного труда, особый, созерцательный и, при всей его конкретности, оторванный от практических целей взгляд на вещи делают художника одиноким в окружающей его среде. Его поведение и психология отличаются от общепринятых норм. Он не корыстолюбив, а стоимость его произведений не подлежит денежной оценке. Ему нужны особые условия жизни и особые эмоции, без которых другие люди могут обойтись, а потому его нельзя подчинять законам морали, обязательным для всех остальных.
Эти взгляды получили свое отражение в романе «Она и он», в образе Лорана, немного напоминающего Альфреда де Мюссе. От художника нельзя требовать того же, чего от других людей, он живет двойной жизнью – человека и художника одновременно, и, следовательно, как художник он не отвечает за поступки, которые совершает как человек. Специфические занятия и «независимая жизнь» часто заставляют его пренебрегать общественными условностями. Таковы характер и поведение Лорана. Но сама Жорж Санд давно отказалась от этой «эстетической» формы имморализма. Жорж Санд понимает искусство как общественный долг. Правда, художник должен быть свободен, – и тут она не согласна с Мишелем, требовавшим безусловного подчинения художника республиканской программе. Но это свобода долга, а не свобода имморализма. Не может быть великим художником слова тот, кто любит только самого себя («Приемная дочь»). Это то, что можно назвать «болезнью поэтов». «Не дай убедить себя в том, что художнику и поэту разрешено жить так называемой большой жизнью, не стесняя себя никакой нравственностью». Статью о Бальзаке Жорж Санд начала фразой, которая должна была вызвать возмущение сторонников искусства для искусства: «Сказать о гениальном человеке, что он был глубоко добрым человеком, значит выразить ему величайшую похвалу, на какую я способна».
В конце 1820-х годов, когда Аврора Дюдеван еще не помышляла о литературной деятельности, она была во власти сентиментальной традиции Жан-Жака Руссо и руссоистских, преимущественно женских, романов Империи и Реставрации. Она говорила о «чувствительных сердцах», считала любовь высшим занятием и счастьем человека. Затем, в 1830-е годы, чувствительность приобрела другие формы, она превратилась в неистовую страсть, противопоставила себя обществу и стала началом разрушительным, приводящим к убийству и к самоубийству. Наконец, к 1840-м годам чувствительность стала средством вживания в объективный мир, постижением природы и чужой души, необходимым для объективного искусства. «Выйти за пределы самого себя» стало для нее законом не только философии, но и художественного творчества.
Удрученная событиями, последовавшими за июньским восстанием, Жорж Санд объясняла свое молчание отсутствием контакта с действительностью. Теперь, писала она Мадзини, «самые искренние писатели – это самые молчаливые, потому что нельзя жить и чувствовать в изоляции. Писатель не инструмент, который может играть сам по себе. Будь ты хоть простой шарманкой, все же нужна рука, чтобы тебя вертеть. Рука, внешний толчок, ветер, от которого звучат эоловы арфы, – это всеобщее чувство, жизнь человечества, которая передается инструменту, художнику».
Таков закон высшего искусства, глубоко и полно выражающего действительность. Тот, кто всегда «в голосе» и поет сам по себе, – эгоист, удовлетворяющийся своим собственным существованием: «Жалкая жизнь, которая не является эманацией жизни всеобщей!»
Жорж Санд хотела, чтобы ее искусство передавало не только «жизнь человечества», но и «жизнь природы». В 1842 году она советовала Шарлю Понси, рабочему-поэту, насытить свои пейзажи большим человеческим чувством. «Мне хотелось бы, чтобы это беспощадное море, так хорошо вам известное, наполнилось личным чувством, стало более значительно, чтобы страх и восхищение, чувства, которые вызывает у нас волшебство поэзии, были всегда связаны с глубокими человеческими переживаниями. Словом, нужно говорить глазам воображения только для того, чтобы проникнуть в душу глубже, чем при помощи рассуждения… Поэт должен петь только для того, чтобы вызвать чувство и мысль».