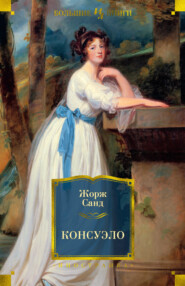По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Даниелла
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она водила меня по всем жилым комнатам дома, начиная с парадных покоев, до самых скромных горенок, объявляя цены найма с энергичной решительностью. Так как эти цены были сходнее всех, объявленных мне в других местах, то я торговался только для того, чтобы налюбоваться гримасами ее физиономии и наслушаться ее изумительной скороговорки. Я думал, что меня оберут порядком, ограбят, как жертву мелочных потребностей служанки-хозяйки, и готов был покориться неизбежной участи, но как только я выбрал себе помещение, дела приняли совершенно другой оборот. Мариуччия, или по внезапному расположению ко мне, или по врожденной доброте своей, начала за мной ухаживать, будто за старым знакомым. Она тревожилась, видя, что я очень бледен, и хлопотала, чтобы поскорее натопить мою комнату, разобрать мой чемодан и состряпать мне обед. Она принесла мне лучшее кресло и лучший матрац из целого дома, обшарила покои своих господ, чтобы найти мне книги, лампу, чистый ковер; отрыла на чердаке ширмы и набрала в саду охапку хвороста. Наконец, она назначила мне очень скромную цену за стол и свои услуги.
Все это расположило меня в ее пользу, не потому, чтобы я восставал против системы обирания кошельков, которой каждый путешественник должен подчиниться в Италии, если хочет жить мирно, но потому, что всякому отрадно видеть в подобном себе существе, каково бы оно ни было, равного себе по понятиям о честности.
Итак, я живу теперь в третьем этаже, который, принимая в расчет непомерную вышину двух нижних, был бы шестым в Париже. Вид из моих окон восхитительный; я должен бы сказать «два восхитительных вида», потому что мои две комнаты находятся на самом углу дома, так что из окон одной я вижу цепь гор от Дженнаро до Соракте, римскую Кампанью и целый Рим как на ладони, вижу его невооруженным глазом, несмотря на тридцать миль расстояния, в прямом направлении по равнине, отделяющей меня от города. Из окон другой комнаты открывается вид еще очаровательнее; за пределами неизмеримой степи виднеется море, тянется берег Остии, чернеет лес Лаурентума, светлеет устье Тибра, и над всем этим на последнем плане картины высятся в небо, как призраки, неясные очертания Сардинии. Перспектива необъятная! Вот блеснул луч солнца и придал этой панораме одухотворенный вид. Здесь могу я жить и больной, могу не скучая лениться, могу переносить заключение в дождливую погоду. Что касается пищи, я обеспечен; со мной живет добрая женщина, на смешную, но добрую физиономию которой я могу любоваться когда угодно; две комнаты, невысокие, но большие; воздух всегда чистый, по причине возвышенного положения и не очень плотной постройки моего жилья; несколько книг, из которых я могу почерпнуть много сведений о здешнем крае, и если будут, хотя и редко, ненастные дни, предо мной такой великолепный вид, каким я никогда не любовался.
В то самое время, когда я пишу вам это, как очарователен описанный мною ландшафт! Далекие горы блещут отливом опала, таким нежным, таким тонким, что они кажутся как бы прозрачными. Вся восточная сторона картины будто тонет в теплом свете вечерних отблесков. Напротив того, весь запад залит ярко-пурпурным заревом. Солнце, спустившееся на черту горизонта, жарко пылает, а столпившиеся около него темно-фиолетовые тучи придают ему еще более блеска. Болотистые излучины Тибра светлой нитью змеятся около темных масс леса, еще более фиолетовых, чем небо. Море стелется вдали огненной пеленой, а на террасе ближней виллы, будто нарочно, чтобы придать еще блеска и странности картине, на первом ее плане роскошный фонтан сыплет мириады золотых брызг, резко отбивающихся на темном ковре зелени.
Глава X
Фраскати, вилла Пикколомини
1 апреля
Недаром солнце садилось в тучи: в эту ночь разразилась такая гроза, какой я сроду не видывал. Несмотря на толщину стен и мои маленькие окна, отчего всякий внешний шум должен бы, казалось, отдаваться здесь глуше, я думал, что вилла Пикколомини улетит в пространство, по которому носились вчера мои изумленные взоры. Я, однако же, заснул, но мне снилось, будто я на корабле, который рассыпался вдребезги. Сегодня идет частый, но мелкий дождь. Колоссальный пейзаж, который я вам описывал, более не существует. Не видать ни Дженнаро, ни Соракте, ни базилики Святого Петра, ни Тибра, ни моря. Все туманно, как парижское утро. Я едва различаю дома Фраскати подо мною: надобно вам сказать, что вилла Пикколомини, лежащая на одной из оконечностей города, расположена на верхней площадке естественных зеленеющих уступов, которые мне очень хочется осмотреть поближе.
Мариуччия принесла мне чашку хорошего молока. Пока я вынужден сидеть дома, я расскажу вам о некоторых обстоятельствах, пропущенных мной во вчерашнем бюллетене.
Речь идет о поездке в Тиволи, о которой я намекнул вам, но приключения которой кажутся мне сегодня до того странными, что мне сдается, будто я видел все это в бреду моей болезни.
Я люблю странствовать по живописным местностям или один, или с артистами; но семейство Б… решило отправиться в Тиволи двадцать шестого прошлого месяца и меня взять с собою. Брюмьера не пригласили, хотя и для него нашлось бы место в коляске. Я предложил было разместиться с кучером на козлах, но от моего предложения уклонились, и, видя, что дамы этого не желают, в особенности леди Гэрриет, я не настаивал и, естественно, не предупредил Брюмьера, как прежде был намерен, что и ему есть возможность отправиться с нами.
Дорога казалась мне страшно скучной до Сольфатары, где начинается геологически интересная местность. В воздухе было то жарко, то прохладно; леди Гэрриет и ее племянница непременно хотели, чтобы лорд Б… и я восхищались поэзией и красотой равнины, а я находил, что она несносна и дорога по ней утомительно скучна. Мы ехали, впрочем, не тихо. Лорд Б… купил четверку отличных местных лошадей. Здесь славная порода, они невелики и хотя плотны, но не тяжелы, прытки на бегу, с огоньком и вполне сносны. Мастью они бывают обычно вороные, шерсти мелкой и гладкой, голова у них неказистая, нога похожа несколько на коровью, но прочие стати хороши. Часто бывают они норовисты, и на каждом шагу и во всякое время можно встретить в Риме и его окрестностях нешуточные ссоры этих животных с человеком. Здешние всадники и кучера очень смелы, но вообще обращаются с лошадью скорее бойко, круто, упрямо, чем искусно и разумно. Несчастные случаи, однако же, здесь редки; лошади крепки ногами и не спотыкаясь спускаются по мостовой из плитняка с самых крутых съездов на холмах столицы.
Вчера я заметил лорду Б…, который в первый раз объезжал эту четверку, что тип этих лошадей тот самый, что у лошади Адриана, из позолоченной бронзы, на дворе Ватикана. Лорд говорил мне, где именно в Церковной области водится эта порода, но я забыл. Это, я думаю, he Agro romano; жеребята этой породы, пасущиеся в степи, все чахлые, равно как и их матки. Быки здесь также малорослы и некрасивы, хотя и принадлежат к прекрасной породе скота, молочно-белой масти с огромными крутыми рогами; их употребляют для перевозки тяжестей и на земледельческих работах в нагорных странах. Эта порода не такая рослая, как рогатый скот во Франции, но тонкость стати и шерсти, красота ног и головы должны бы служить моделью для живописцев при изображении этих животных на картинах. Однако же на картинах римской школы мы чаще видим буйволов, вероятно, как животных более странных форм; по-моему, эти буйволы пребезобразные.
Эта порода белых быков происходит, как мне говорили, из Венецианской области; но чрезмерное развитие рогов, как мне кажется, есть уже перерождение, следствие влияния местных условий почвы и климата, и скорее признак слабости, чем силы. Здесь пашут на чем попало: на быках, на коровах, на ослах и на лошадях; пашут небрежно, не заботясь о стоках для воды, не принимая должных мер против загрязнения воздуха, не разрыхляя как следует земли. Земля здесь плодородна, климат благоприятный; но для хлебопашцев все дело в том, чтобы скорее закончить работы и, по возможности, не долго оставаться в этой зараженной стране. Они все нездешние; кочующие поденщики, они ночуют, в продолжение полумесячной работы своей, в развалинах или под соломенными навесами, которые служат путнику убежищем в степи; окончив кое-как работы, они спешат уйти, ищут заработков в более здоровых местах и возвращаются сюда не раньше, как ко времени жатвы, оставляя зерно попечениям природы и не заботясь о посеве, пока он не созреет.
Животные, брошенные в степи почти с той же беззаботностью, как и семена, очевидно, терпят от влияния атмосферы. В местах, лежащих выше уровня этой зараженной страны, скот, равно как и растительность, рослее и красивее.
Из домашних животных здесь красивее всех козы. Большое стадо коз кашмирской породы прилегло отдыхать близ дороги и спокойно спало, когда мы подъехали; посреди молодых коз спало также дитя, завернутое в козью шкуру. Услышав стук приближающегося экипажа, все проснулось, все вскочило в один прыжок и вихрем понеслось по равнине. Как волна белого шелка, катилось стадо по ровной поверхности степи. Молодые козы крупными прыжками подавались вперед, старые неслись, распустив по ветру блестящую бахрому своей шелковистой шерсти. Молодые пастухи, также белые, потому что единственной их одеждой были козьи шкуры, бежали вслед за стадом, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь на ноги и задыхаясь от быстрого бега и страха.
Мы остановились, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я вышел из коляски и сумел успокоить мальчика-пастуха, который позволил мне взять на руки маленького козленка, чтобы показать его мисс Медоре.
Здесь начинается, милый друг, мое странное приключение. Прекрасная Медора усадила козленка на колени, ласкала его, кормила хлебом, играла с ним, пока лорд Б… не вышел из терпения и не напомнил, что время проходит и что дай бог засветло осмотреть наскоро Тиволи и возвратиться в Рим. Отдавая мне животное, она устремила на меня странный взгляд и потом, откинувшись в глубь экипажа, закрыла платком лицо.
Это движение навело меня на мысль, что неприятный запах козленка заставил ее поднести к лицу платок, опрысканный духами.
Я поспешил возвратить козленка пастуху, который не забыл протянуть ко мне руку, еще прежде чем я опустил мою в карман, чтобы вынуть для него несколько байок. Когда я снова сел в коляску, я увидел, что мисс Медора рыдала, тетка ее старалась ее успокоить, а лорд Б… насвистывал какое-то lila burello, с видом человека, смущенного смешной сценой. Это непонятное положение смутило и меня. Я осмелился спросить, не нездорова ли мисс Медора? Она сейчас же отняла платок от лица и, взглянув на меня как-то странно, сквозь крупные слезы, еще дрожавшие в глазах ее, весело отвечала мне, что она никогда не чувствовала себя так хорошо, как теперь.
– Да, да, – поспешила сказать леди Б…, – это ничего, это нервный припадок.
«Какое мне дело», – подумал я и через несколько минут приискал благовидный предлог, чтобы пересесть на козлы, чего мне давно уже хотелось, и это желание очень усилилось со времени странной сцены, в которой я играл нескромную роль безучастного и, следовательно, лишнего свидетеля.
Немного далее мы остановились, чтобы осмотреть озерки deitartari[3 - Винного камня.] и окружающие их любопытные серные кристаллы. Вообразите себе миллионы маленьких вулканических конусов, из которых каждый имеет свое главное жерло и окружные отверстия. Это миллионы миниатюрных Этн. С первого взгляда эти крошечные сопки похожи на особый вид растений, окаменевших на корню, а потом покажутся вам жидкостью, мгновенно застывшей в минуту самого сильного кипения. Вокруг этого поля кратеров и по берегам этих луж мутной воды, называемых озерами, стоят грядами другие необъяснимые сталактиты, принимаемые здесь за окаменевшие растения. Я не очень верю этим догадкам и полагаю, что это, так же как и соседние конусы, продукт вулканической прихоти, отверделые брызги кипевшей грязи, смешанной с серой.
Я осматривал этот феномен с большим любопытством, отломил несколько образчиков и немало удивился, видя, что мисс Медора опять расплакалась. Тетка пожурила ее немного и поспешила увести в экипаж.
– Пойдем, – сказал мне лорд Б… – Если это вас так интересует, мы с вами, пожалуй, опять сюда приедем. Вы видите, что у моей любезной племянницы припадок сумасшествия.
– В самом деле? – воскликнул я в смущении. – Эта девица подвержена…
– Нет, нет, – возразил, смеясь, лорд Б…, – она не настоящая сумасшедшая. Она только дурачится, как и моя жена, которая придает этим странностям слишком большую важность, а вы сами хорошо знаете их причину.
– Я ничего не знаю, уверяю вас.
– Вы ничего не знаете? – спросил меня лорд Б…, останавливая меня и глядя мне пристально в глаза. – По чести, ничего не знаете?
– Честное слово, – отвечал я непринужденно.
– Гм… это странно, – возразил он. – Мы поговорим об этом после, если представится случай.
И, не дав мне времени расспросить его, он повел меня к коляске и принудил уступить ему место на козлах под предлогом, что сам хочет править лошадьми, чтобы попробовать, не слишком ли они перетянуты уздой.
Вы понимаете, что я опять сидел как на иголках. Мои английские дамы сначала хранили молчание. Леди Б…, казалось, была смущена не менее меня; племянница продолжала плакать. Вынужденный, по уверениям леди Б…, принять это за нервный припадок, я не мог придумать, чем бы тут помочь. Я то поднимал, то опускал стекла, – раз, чтобы впустить свежий воздух, другой, чтобы охранить от пыли. Мы стали подниматься шагом в гору, поросшую тысячелетними оливковыми деревьями, я предложил выйти из экипажа. Дамы с удовольствием приняли мое предложение, но леди Гэрриет, довольно полная, скоро утомилась и опять села в коляску. Лорд Б… оставался на козлах и понукал лошадей. Кучер тоже слез наземь, а мисс Медора, лениво шедшая позади, вдруг побежала, будто укушенная тарантулом, и пустилась, легкая, сильная и грациозная, по крутой, извилистой дороге.
– Славная женщина! – сказал наивно кучер с бесцеремонностью, свойственной итальянцам всех сословий, обратившись ко мне с братским дружелюбием. – Славная женщина! От души поздравляю вас, барин.
– Ты ошибаешься, друг мой, – отвечал ему я, – эта красавица не жена моя; она еще девушка, вовсе для меня посторонняя.
– Я знаю, – отвечал он спокойно, без всякого спроса вынимая у меня изо рта сигару, чтобы закурить свою. – Я нанялся к этим англичанам на лето и знаю, что она вам чужая, но вся наша дворня, да и весь Рим знает, что вы на ней женитесь.
– Так потрудись сказать, любезный, и свой дворне, и, пожалуй, всему Риму, что ваши предположения – сущий вздор и бессмыслица.
Я ускорил шаги свои, вовсе не собираясь слушать последствия глупой болтовни Даниеллы и сплетен ее помощника Тартальи. Мне было досадно, что эта челядь отводит мне такую глупую роль, и я старался забыть это, шагая по дороге.
Эта новая забота вовсе не кстати развлекла меня в то самое время, когда очарование начинало овладевать мною среди этой поистине удивительной местности. Гора была покрыта ярко-зеленой травой, а древние оливковые деревья сглаживали свои причудливые формы и судорожные изгибы своих ветвей под бархатной оболочкой свежего мха. Оливковое дерево некрасиво, пока оно не доросло до этой колоссальной дряхлости, которую оно сохраняет по несколько веков, не переставая быть плодоносным. В Провансе оно чахло, это пуки беловатых листьев, которые кажутся издали клочками седого тумана. Здесь оно достигает огромных размеров и осеняет сквозной тенью, просевая солнце золотым дождем через частую решетку своих полуобнаженных ветвей. Его растреснутый ствол разветвляется со временем на восемь или на десять огромных отщепин, вокруг которых обвиваются, как встревоженные змеи, новые отпрыски сильных корней.
Такой лес приводит на память очарованный лес Тассо[32 - Тассо Торквато (1544–1595) – знаменитый итальянский поэт, представитель вновь окрепшего католицизма в итальянской литературе, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).]. Невольно мнится, что и эти деревья – заколдованные чудовища, и вот, того и гляди, оживут, зашевелятся, заревут, заговорят. Но ни в помыслах этого итальянского поэта, ни в здешней природе нет настоящих, действительных ужасов. Зелень слишком прекрасна, а ясная синева дали, виднеющаяся сквозь плетень древесных ветвей, такого нежного колорита, что не бросит мрачной тени на грезу воображения. Здесь, как в поэме Тассо, предчувствуешь благотворное влияние фей, всегда готовых превратить огненных драконов в цветочные вязи, а тернистый кустарник – в обольстительных нимф.
Так мечтал я, когда прекрасная, убежавшая вперед Медора, о которой я совсем было забыл, появилась вдруг на повороте горной тропинки, выпрыгнув внезапно из дупла разветвленного дерева, где ей вздумалось притаиться. Я вздрогнул, а она бросилась ко мне, веселая, смеющаяся, как будто с ней отроду не было нервных припадков. В эту минуту она действительно была во сто раз прекраснее, чем мне казалось прежде. Излишняя мелочная заботливость о себе, которую я невольно приписываю чрезмерному самолюбию, всегда портила ее в моих глазах. Она всегда слишком хорошо одета, слишком хорошо причесана и цвет ее лица всегда слишком свеж, слишком неизменен. Это красавица из слоновой кости и перламутра, которая беспрестанно меняет платья, ленты и ожерелья, никогда не изменяя своего образа, и я часто очень искренне говорил Брюмьеру, что неизменная красота мисс Медоры надоела мне до смерти.
В эту минуту она была совершенно иная. Слезы подернули оттенком утомления ее прекрасные глаза; ее щеки, оживленные от ускоренного движения, покрылись румянцем, менее ровным, но более жарким, чем обыкновенно. Кожа ее утратила всегдашнюю сухость и приобрела больше жизненности; взоры сияли влагой чувства. Бегая, она потеряла заколку с головы, и ее коса рассыпалась по плечам. Может быть, она и спрятала в карман свою накладную косу, но и ее собственных волос было довольно, чтобы не нуждаться в поддельных. Ее не украшала уже неумолимая диадема приглаженных волос, лоснящаяся, как полированный черный мрамор, на беломраморном челе ее; это были ее природные волосы, рассыпавшиеся, как волнистые лучи сияния, на ее розовые, трепещущие жизнью плечи.
Вероятно, она заметила в моих глазах признаки удивления красотой ее, потому что подбежала ко мне дружески и взяла меня под руку с естественностью, вовсе не похожей на всегдашние презрительные ужимки.
– Что вы задумались, – спросила она меня, – и чему так удивились, когда я выскочила из дупла?
Я рассказал ей, как размечтался об очарованной роще Тассо и как появление ее совпало с воспоминаниями об этих волшебных вымыслах.
– Вы хотите сказать, что я показалась вам просто-напросто колдуньей? Мне, впрочем, нечего жаловаться; только в таком виде и можно вам понравиться.
– Что вам вздумалось приписывать мне такую странную мысль?
– А ваше восхищение прачкой Серебряного ключа? Единственное существо моего пола, которое понравилось со времени вашего приезда в Рим, вами же прозвано сивиллой[33 - Сивилла – женщина-пророк, ясновидящая, получившая от божества дар предсказаний; она делает их в состоянии экстаза, спонтанно, пророчества, как правило, грозят бедой. Наиболее известны сивиллы кумская и эритрейская.].
– Так вы думаете, что, с точки зрения волшебства, я хочу приравнять вас к семидесятилетней старушонке?
– Что вы сказали? – прервала она меня, стиснув мою руку своими точеными пальцами. – Этой женщине семьдесят лет?
Все это расположило меня в ее пользу, не потому, чтобы я восставал против системы обирания кошельков, которой каждый путешественник должен подчиниться в Италии, если хочет жить мирно, но потому, что всякому отрадно видеть в подобном себе существе, каково бы оно ни было, равного себе по понятиям о честности.
Итак, я живу теперь в третьем этаже, который, принимая в расчет непомерную вышину двух нижних, был бы шестым в Париже. Вид из моих окон восхитительный; я должен бы сказать «два восхитительных вида», потому что мои две комнаты находятся на самом углу дома, так что из окон одной я вижу цепь гор от Дженнаро до Соракте, римскую Кампанью и целый Рим как на ладони, вижу его невооруженным глазом, несмотря на тридцать миль расстояния, в прямом направлении по равнине, отделяющей меня от города. Из окон другой комнаты открывается вид еще очаровательнее; за пределами неизмеримой степи виднеется море, тянется берег Остии, чернеет лес Лаурентума, светлеет устье Тибра, и над всем этим на последнем плане картины высятся в небо, как призраки, неясные очертания Сардинии. Перспектива необъятная! Вот блеснул луч солнца и придал этой панораме одухотворенный вид. Здесь могу я жить и больной, могу не скучая лениться, могу переносить заключение в дождливую погоду. Что касается пищи, я обеспечен; со мной живет добрая женщина, на смешную, но добрую физиономию которой я могу любоваться когда угодно; две комнаты, невысокие, но большие; воздух всегда чистый, по причине возвышенного положения и не очень плотной постройки моего жилья; несколько книг, из которых я могу почерпнуть много сведений о здешнем крае, и если будут, хотя и редко, ненастные дни, предо мной такой великолепный вид, каким я никогда не любовался.
В то самое время, когда я пишу вам это, как очарователен описанный мною ландшафт! Далекие горы блещут отливом опала, таким нежным, таким тонким, что они кажутся как бы прозрачными. Вся восточная сторона картины будто тонет в теплом свете вечерних отблесков. Напротив того, весь запад залит ярко-пурпурным заревом. Солнце, спустившееся на черту горизонта, жарко пылает, а столпившиеся около него темно-фиолетовые тучи придают ему еще более блеска. Болотистые излучины Тибра светлой нитью змеятся около темных масс леса, еще более фиолетовых, чем небо. Море стелется вдали огненной пеленой, а на террасе ближней виллы, будто нарочно, чтобы придать еще блеска и странности картине, на первом ее плане роскошный фонтан сыплет мириады золотых брызг, резко отбивающихся на темном ковре зелени.
Глава X
Фраскати, вилла Пикколомини
1 апреля
Недаром солнце садилось в тучи: в эту ночь разразилась такая гроза, какой я сроду не видывал. Несмотря на толщину стен и мои маленькие окна, отчего всякий внешний шум должен бы, казалось, отдаваться здесь глуше, я думал, что вилла Пикколомини улетит в пространство, по которому носились вчера мои изумленные взоры. Я, однако же, заснул, но мне снилось, будто я на корабле, который рассыпался вдребезги. Сегодня идет частый, но мелкий дождь. Колоссальный пейзаж, который я вам описывал, более не существует. Не видать ни Дженнаро, ни Соракте, ни базилики Святого Петра, ни Тибра, ни моря. Все туманно, как парижское утро. Я едва различаю дома Фраскати подо мною: надобно вам сказать, что вилла Пикколомини, лежащая на одной из оконечностей города, расположена на верхней площадке естественных зеленеющих уступов, которые мне очень хочется осмотреть поближе.
Мариуччия принесла мне чашку хорошего молока. Пока я вынужден сидеть дома, я расскажу вам о некоторых обстоятельствах, пропущенных мной во вчерашнем бюллетене.
Речь идет о поездке в Тиволи, о которой я намекнул вам, но приключения которой кажутся мне сегодня до того странными, что мне сдается, будто я видел все это в бреду моей болезни.
Я люблю странствовать по живописным местностям или один, или с артистами; но семейство Б… решило отправиться в Тиволи двадцать шестого прошлого месяца и меня взять с собою. Брюмьера не пригласили, хотя и для него нашлось бы место в коляске. Я предложил было разместиться с кучером на козлах, но от моего предложения уклонились, и, видя, что дамы этого не желают, в особенности леди Гэрриет, я не настаивал и, естественно, не предупредил Брюмьера, как прежде был намерен, что и ему есть возможность отправиться с нами.
Дорога казалась мне страшно скучной до Сольфатары, где начинается геологически интересная местность. В воздухе было то жарко, то прохладно; леди Гэрриет и ее племянница непременно хотели, чтобы лорд Б… и я восхищались поэзией и красотой равнины, а я находил, что она несносна и дорога по ней утомительно скучна. Мы ехали, впрочем, не тихо. Лорд Б… купил четверку отличных местных лошадей. Здесь славная порода, они невелики и хотя плотны, но не тяжелы, прытки на бегу, с огоньком и вполне сносны. Мастью они бывают обычно вороные, шерсти мелкой и гладкой, голова у них неказистая, нога похожа несколько на коровью, но прочие стати хороши. Часто бывают они норовисты, и на каждом шагу и во всякое время можно встретить в Риме и его окрестностях нешуточные ссоры этих животных с человеком. Здешние всадники и кучера очень смелы, но вообще обращаются с лошадью скорее бойко, круто, упрямо, чем искусно и разумно. Несчастные случаи, однако же, здесь редки; лошади крепки ногами и не спотыкаясь спускаются по мостовой из плитняка с самых крутых съездов на холмах столицы.
Вчера я заметил лорду Б…, который в первый раз объезжал эту четверку, что тип этих лошадей тот самый, что у лошади Адриана, из позолоченной бронзы, на дворе Ватикана. Лорд говорил мне, где именно в Церковной области водится эта порода, но я забыл. Это, я думаю, he Agro romano; жеребята этой породы, пасущиеся в степи, все чахлые, равно как и их матки. Быки здесь также малорослы и некрасивы, хотя и принадлежат к прекрасной породе скота, молочно-белой масти с огромными крутыми рогами; их употребляют для перевозки тяжестей и на земледельческих работах в нагорных странах. Эта порода не такая рослая, как рогатый скот во Франции, но тонкость стати и шерсти, красота ног и головы должны бы служить моделью для живописцев при изображении этих животных на картинах. Однако же на картинах римской школы мы чаще видим буйволов, вероятно, как животных более странных форм; по-моему, эти буйволы пребезобразные.
Эта порода белых быков происходит, как мне говорили, из Венецианской области; но чрезмерное развитие рогов, как мне кажется, есть уже перерождение, следствие влияния местных условий почвы и климата, и скорее признак слабости, чем силы. Здесь пашут на чем попало: на быках, на коровах, на ослах и на лошадях; пашут небрежно, не заботясь о стоках для воды, не принимая должных мер против загрязнения воздуха, не разрыхляя как следует земли. Земля здесь плодородна, климат благоприятный; но для хлебопашцев все дело в том, чтобы скорее закончить работы и, по возможности, не долго оставаться в этой зараженной стране. Они все нездешние; кочующие поденщики, они ночуют, в продолжение полумесячной работы своей, в развалинах или под соломенными навесами, которые служат путнику убежищем в степи; окончив кое-как работы, они спешат уйти, ищут заработков в более здоровых местах и возвращаются сюда не раньше, как ко времени жатвы, оставляя зерно попечениям природы и не заботясь о посеве, пока он не созреет.
Животные, брошенные в степи почти с той же беззаботностью, как и семена, очевидно, терпят от влияния атмосферы. В местах, лежащих выше уровня этой зараженной страны, скот, равно как и растительность, рослее и красивее.
Из домашних животных здесь красивее всех козы. Большое стадо коз кашмирской породы прилегло отдыхать близ дороги и спокойно спало, когда мы подъехали; посреди молодых коз спало также дитя, завернутое в козью шкуру. Услышав стук приближающегося экипажа, все проснулось, все вскочило в один прыжок и вихрем понеслось по равнине. Как волна белого шелка, катилось стадо по ровной поверхности степи. Молодые козы крупными прыжками подавались вперед, старые неслись, распустив по ветру блестящую бахрому своей шелковистой шерсти. Молодые пастухи, также белые, потому что единственной их одеждой были козьи шкуры, бежали вслед за стадом, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь на ноги и задыхаясь от быстрого бега и страха.
Мы остановились, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я вышел из коляски и сумел успокоить мальчика-пастуха, который позволил мне взять на руки маленького козленка, чтобы показать его мисс Медоре.
Здесь начинается, милый друг, мое странное приключение. Прекрасная Медора усадила козленка на колени, ласкала его, кормила хлебом, играла с ним, пока лорд Б… не вышел из терпения и не напомнил, что время проходит и что дай бог засветло осмотреть наскоро Тиволи и возвратиться в Рим. Отдавая мне животное, она устремила на меня странный взгляд и потом, откинувшись в глубь экипажа, закрыла платком лицо.
Это движение навело меня на мысль, что неприятный запах козленка заставил ее поднести к лицу платок, опрысканный духами.
Я поспешил возвратить козленка пастуху, который не забыл протянуть ко мне руку, еще прежде чем я опустил мою в карман, чтобы вынуть для него несколько байок. Когда я снова сел в коляску, я увидел, что мисс Медора рыдала, тетка ее старалась ее успокоить, а лорд Б… насвистывал какое-то lila burello, с видом человека, смущенного смешной сценой. Это непонятное положение смутило и меня. Я осмелился спросить, не нездорова ли мисс Медора? Она сейчас же отняла платок от лица и, взглянув на меня как-то странно, сквозь крупные слезы, еще дрожавшие в глазах ее, весело отвечала мне, что она никогда не чувствовала себя так хорошо, как теперь.
– Да, да, – поспешила сказать леди Б…, – это ничего, это нервный припадок.
«Какое мне дело», – подумал я и через несколько минут приискал благовидный предлог, чтобы пересесть на козлы, чего мне давно уже хотелось, и это желание очень усилилось со времени странной сцены, в которой я играл нескромную роль безучастного и, следовательно, лишнего свидетеля.
Немного далее мы остановились, чтобы осмотреть озерки deitartari[3 - Винного камня.] и окружающие их любопытные серные кристаллы. Вообразите себе миллионы маленьких вулканических конусов, из которых каждый имеет свое главное жерло и окружные отверстия. Это миллионы миниатюрных Этн. С первого взгляда эти крошечные сопки похожи на особый вид растений, окаменевших на корню, а потом покажутся вам жидкостью, мгновенно застывшей в минуту самого сильного кипения. Вокруг этого поля кратеров и по берегам этих луж мутной воды, называемых озерами, стоят грядами другие необъяснимые сталактиты, принимаемые здесь за окаменевшие растения. Я не очень верю этим догадкам и полагаю, что это, так же как и соседние конусы, продукт вулканической прихоти, отверделые брызги кипевшей грязи, смешанной с серой.
Я осматривал этот феномен с большим любопытством, отломил несколько образчиков и немало удивился, видя, что мисс Медора опять расплакалась. Тетка пожурила ее немного и поспешила увести в экипаж.
– Пойдем, – сказал мне лорд Б… – Если это вас так интересует, мы с вами, пожалуй, опять сюда приедем. Вы видите, что у моей любезной племянницы припадок сумасшествия.
– В самом деле? – воскликнул я в смущении. – Эта девица подвержена…
– Нет, нет, – возразил, смеясь, лорд Б…, – она не настоящая сумасшедшая. Она только дурачится, как и моя жена, которая придает этим странностям слишком большую важность, а вы сами хорошо знаете их причину.
– Я ничего не знаю, уверяю вас.
– Вы ничего не знаете? – спросил меня лорд Б…, останавливая меня и глядя мне пристально в глаза. – По чести, ничего не знаете?
– Честное слово, – отвечал я непринужденно.
– Гм… это странно, – возразил он. – Мы поговорим об этом после, если представится случай.
И, не дав мне времени расспросить его, он повел меня к коляске и принудил уступить ему место на козлах под предлогом, что сам хочет править лошадьми, чтобы попробовать, не слишком ли они перетянуты уздой.
Вы понимаете, что я опять сидел как на иголках. Мои английские дамы сначала хранили молчание. Леди Б…, казалось, была смущена не менее меня; племянница продолжала плакать. Вынужденный, по уверениям леди Б…, принять это за нервный припадок, я не мог придумать, чем бы тут помочь. Я то поднимал, то опускал стекла, – раз, чтобы впустить свежий воздух, другой, чтобы охранить от пыли. Мы стали подниматься шагом в гору, поросшую тысячелетними оливковыми деревьями, я предложил выйти из экипажа. Дамы с удовольствием приняли мое предложение, но леди Гэрриет, довольно полная, скоро утомилась и опять села в коляску. Лорд Б… оставался на козлах и понукал лошадей. Кучер тоже слез наземь, а мисс Медора, лениво шедшая позади, вдруг побежала, будто укушенная тарантулом, и пустилась, легкая, сильная и грациозная, по крутой, извилистой дороге.
– Славная женщина! – сказал наивно кучер с бесцеремонностью, свойственной итальянцам всех сословий, обратившись ко мне с братским дружелюбием. – Славная женщина! От души поздравляю вас, барин.
– Ты ошибаешься, друг мой, – отвечал ему я, – эта красавица не жена моя; она еще девушка, вовсе для меня посторонняя.
– Я знаю, – отвечал он спокойно, без всякого спроса вынимая у меня изо рта сигару, чтобы закурить свою. – Я нанялся к этим англичанам на лето и знаю, что она вам чужая, но вся наша дворня, да и весь Рим знает, что вы на ней женитесь.
– Так потрудись сказать, любезный, и свой дворне, и, пожалуй, всему Риму, что ваши предположения – сущий вздор и бессмыслица.
Я ускорил шаги свои, вовсе не собираясь слушать последствия глупой болтовни Даниеллы и сплетен ее помощника Тартальи. Мне было досадно, что эта челядь отводит мне такую глупую роль, и я старался забыть это, шагая по дороге.
Эта новая забота вовсе не кстати развлекла меня в то самое время, когда очарование начинало овладевать мною среди этой поистине удивительной местности. Гора была покрыта ярко-зеленой травой, а древние оливковые деревья сглаживали свои причудливые формы и судорожные изгибы своих ветвей под бархатной оболочкой свежего мха. Оливковое дерево некрасиво, пока оно не доросло до этой колоссальной дряхлости, которую оно сохраняет по несколько веков, не переставая быть плодоносным. В Провансе оно чахло, это пуки беловатых листьев, которые кажутся издали клочками седого тумана. Здесь оно достигает огромных размеров и осеняет сквозной тенью, просевая солнце золотым дождем через частую решетку своих полуобнаженных ветвей. Его растреснутый ствол разветвляется со временем на восемь или на десять огромных отщепин, вокруг которых обвиваются, как встревоженные змеи, новые отпрыски сильных корней.
Такой лес приводит на память очарованный лес Тассо[32 - Тассо Торквато (1544–1595) – знаменитый итальянский поэт, представитель вновь окрепшего католицизма в итальянской литературе, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).]. Невольно мнится, что и эти деревья – заколдованные чудовища, и вот, того и гляди, оживут, зашевелятся, заревут, заговорят. Но ни в помыслах этого итальянского поэта, ни в здешней природе нет настоящих, действительных ужасов. Зелень слишком прекрасна, а ясная синева дали, виднеющаяся сквозь плетень древесных ветвей, такого нежного колорита, что не бросит мрачной тени на грезу воображения. Здесь, как в поэме Тассо, предчувствуешь благотворное влияние фей, всегда готовых превратить огненных драконов в цветочные вязи, а тернистый кустарник – в обольстительных нимф.
Так мечтал я, когда прекрасная, убежавшая вперед Медора, о которой я совсем было забыл, появилась вдруг на повороте горной тропинки, выпрыгнув внезапно из дупла разветвленного дерева, где ей вздумалось притаиться. Я вздрогнул, а она бросилась ко мне, веселая, смеющаяся, как будто с ней отроду не было нервных припадков. В эту минуту она действительно была во сто раз прекраснее, чем мне казалось прежде. Излишняя мелочная заботливость о себе, которую я невольно приписываю чрезмерному самолюбию, всегда портила ее в моих глазах. Она всегда слишком хорошо одета, слишком хорошо причесана и цвет ее лица всегда слишком свеж, слишком неизменен. Это красавица из слоновой кости и перламутра, которая беспрестанно меняет платья, ленты и ожерелья, никогда не изменяя своего образа, и я часто очень искренне говорил Брюмьеру, что неизменная красота мисс Медоры надоела мне до смерти.
В эту минуту она была совершенно иная. Слезы подернули оттенком утомления ее прекрасные глаза; ее щеки, оживленные от ускоренного движения, покрылись румянцем, менее ровным, но более жарким, чем обыкновенно. Кожа ее утратила всегдашнюю сухость и приобрела больше жизненности; взоры сияли влагой чувства. Бегая, она потеряла заколку с головы, и ее коса рассыпалась по плечам. Может быть, она и спрятала в карман свою накладную косу, но и ее собственных волос было довольно, чтобы не нуждаться в поддельных. Ее не украшала уже неумолимая диадема приглаженных волос, лоснящаяся, как полированный черный мрамор, на беломраморном челе ее; это были ее природные волосы, рассыпавшиеся, как волнистые лучи сияния, на ее розовые, трепещущие жизнью плечи.
Вероятно, она заметила в моих глазах признаки удивления красотой ее, потому что подбежала ко мне дружески и взяла меня под руку с естественностью, вовсе не похожей на всегдашние презрительные ужимки.
– Что вы задумались, – спросила она меня, – и чему так удивились, когда я выскочила из дупла?
Я рассказал ей, как размечтался об очарованной роще Тассо и как появление ее совпало с воспоминаниями об этих волшебных вымыслах.
– Вы хотите сказать, что я показалась вам просто-напросто колдуньей? Мне, впрочем, нечего жаловаться; только в таком виде и можно вам понравиться.
– Что вам вздумалось приписывать мне такую странную мысль?
– А ваше восхищение прачкой Серебряного ключа? Единственное существо моего пола, которое понравилось со времени вашего приезда в Рим, вами же прозвано сивиллой[33 - Сивилла – женщина-пророк, ясновидящая, получившая от божества дар предсказаний; она делает их в состоянии экстаза, спонтанно, пророчества, как правило, грозят бедой. Наиболее известны сивиллы кумская и эритрейская.].
– Так вы думаете, что, с точки зрения волшебства, я хочу приравнять вас к семидесятилетней старушонке?
– Что вы сказали? – прервала она меня, стиснув мою руку своими точеными пальцами. – Этой женщине семьдесят лет?