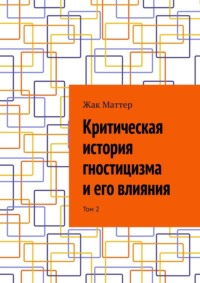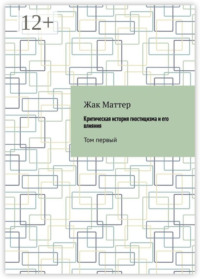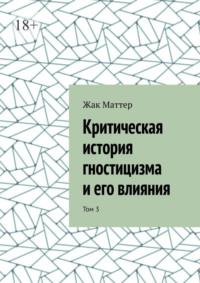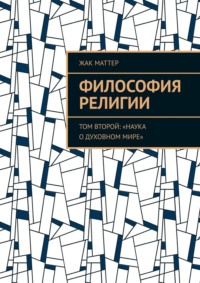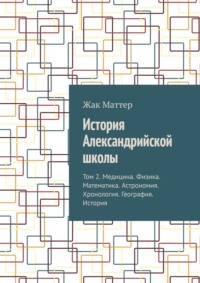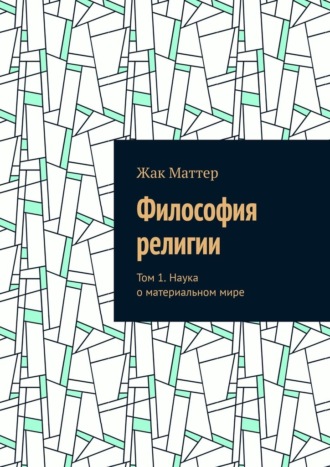
Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире
Если до сих пор одних лишь отталкиваний чувства и старых опровержений хватало, чтобы поддерживать веру в Бога и нравственный порядок, им установленный, то сегодня этого уже недостаточно, когда серьёзные философы – притом высокой нравственности и ума – выдвигают принципы новых атеистических теорий, а практический атеизм делает новые успехи. С той минуты, как учёная и глубокая философия – а антропотеизм обладает этими чертами – выдвигает более решительные отрицания, ей необходимо противопоставить и более убедительные доказательства. Впрочем, каждая эпоха имеет склонность и потребность познавать Бога согласно своему положению; и наша эпоха в особенности обязана отныне утверждать бытие Бога так ясно, как того требует нравственное состояние века, и так сильно, как позволяет его научное состояние. Если это возможно, нужно не просто добавить новые теории к тем, что были созданы в прежние времена, но и создать некоторые из тех шедевров, какие человеческий дух умеет производить в великие эпохи. Если в порядке провидения каждой эпохе дано формировать свои представления о Боге согласно своим всё более чистым познаниям, то в том же порядке ей надлежит и доказывать Его могущество согласно своим всё более глубоким чувствам. Непрерывный прогресс в этом отношении явствует из факта огромного значения. Во времена Канта критика, исходящая из уст этого философа, находила все прежние доказательства слабыми, и труд, который знаменитый метафизик посвятил их анализу, чтобы указать на их недостаточность, составляет одну из самых блестящих частей его учения. И что же? Довод, который он поставил на место всех прочих и который тогда казался неопровержимым даже самому выдающемуся мыслителю, уже не кажется таковым в наших глазах. Мы уже находим его столь же слабым, какими он находил доводы своих предшественников. Не указывает ли это на реальный прогресс – не в наших завоеваниях, конечно, но по крайней мере в наших требованиях?
Говорят вообще, что не следует доказывать бытие Бога, что все доказательства грешат желанием установить разумом то, что доказать нельзя.
«Откуда вывести бесконечное и необходимое Единство? Доказывают лишь относительное: абсолютное ускользает от всякого доказательства. Оно имеет своё основание в себе самом, и потому является основанием всего. Что значит доказать? Показать, что одна вещь содержится в другой, что она необходима при данных условиях. Следовательно, то, что необходимо абсолютно, что содержит всё и само ничем не содержится, очевидно, не поддаётся доказательству».
Но все эти утверждения Ламенне о невозможности доказательства сами нуждаются в доказательстве.
Ещё до автора «Очерка философии» другие говорили, что всякое доказательство требует более или менее философского ума и что Бог дан человеку не столько наукой, сколько совестью.
Утверждать, что Он дан наукой, было бы, в самом деле, столь же странным преувеличением, как говорить вместе с мистиками, что Он дан непосредственным созерцанием, озарением или просветлением. Но противопоставлять совесть науке – значит тоже играть словами, ибо в этом вопросе они нераздельны.
Единственная истина заключается в том, что если для философов бытие Бога – вопрос науки, то для простого народа – дело веры, управляемой чувством, и что чувство человечества говорит с большим авторитетом, чем наука священника или философа. Этим фактом и следует оценивать значение всякого философского доказательства. Однако догмат о существовании Бога нельзя основывать лишь на чувстве, не только на нравственной потребности и нуждах сердца – но также на наших умственных потребностях, на нашем разуме, его природе и его необходимости.
Действительно, атеизм, сводя человека лишь к нему самому, представляется нам прежде всего печальной гипотезой отречения, ибо лишает нас всякого высшего начала, превосходящего нас – существ, не являющихся первоначалом, – а значит, и всякой опоры во вселенной. Более того, он есть печальное безумие, поскольку Бог есть абсолютная необходимость для мироздания. Гностики, среди множества своих причудливых представлений, создали на этот счет миф, исполненный глубокого смысла. Ангелы, сотворившие человека по своему образу, выпустили его из рук живым, но лишенным того, что было для него столь же необходимо, как жизнь, и что могло исходить лишь от Бога – разумной души. И тогда они вынуждены были обратиться к высшему началу, чтобы завершить свое творение. Они умоляли его о помощи. Он откликнулся; но, ниспослав в душу их создания луч своей божественной природы, сделал его своим творением. В этом мифе заключен ответ на главный вопрос. Без Бога человек – лишь грубый набросок, а теизм – не только чистейшее учение, но и самое неотвратимое из всех. Если что и странно, так это то, что в здравом уме могут возникать возражения против единственного существования, необходимого для всего остального. Оспаривать своего Творца – тем более поразительный акт человеческого разума, что человечество никогда не переставало приписывать себе такового.
Действительно, величайшие умы всех времен были убежденнейшими теологами, а самые просвещенные народы – наиболее религиозными. Там же, где встречаются отрицания, они суть плод нравственного расстройства или схоластических ухищрений, но никогда – естественного порыва или народного чувства. Однако несомненно, что, однажды посеянные в умах, сомнения производят свои естественные последствия: колебания, терзания, споры. И в эпохи, когда они вспыхивают, одна из прекраснейших задач философии – дать человечеству отчет в тревожащих его мыслях, указать ему доказательства величайшего факта, утвердившегося в его сердце и жизни. Ведь величайшие философы доказывали. Величайшие теологи, начиная с апостола Павла, тоже доказывают.
Доказать бытие Бога – значит вложить перст в следы Его стоп, прикоснуться к лону Божию; и Он позволяет всем сомневающимся то же, что Сын Его позволил апостолу Фоме. Но лучше, чем доказывать бытие Бога, – ощутить его, ибо это значит открыть источник всех нравственных благодатей. И чем более это есть дело Божественного домостроительства, тем легче дается человеку. В самом деле, если доказать бытие Бога логическими доводами нелегко, то сердце охотно внимает простому наставлению, не имеющему иной основы, кроме чувства. Возвышеннейшие доказательства, представленные от имени науки, часто производят наименьшее действие, тогда как простейшие обращения к сердцу рождают в нем неколебимые убеждения. Поэтому иные хотели вовсе отказаться от доказательств, полагая, что в этом деле чувство превосходит разум.
Отказывались от доказательств и по другим причинам. Раз мы желаем, чтобы Бог был, раз нам это выгодно, и раз вера в Его бытие, даже будь она заблуждением, есть заблуждение спасительное – значит, следует исповедовать ее всегда и повсюду, не вдаваясь в излишние тонкости. Но то, что мы желаем существования Бога, есть довод в пользу этого существования – хотя и не самый сильный. Во всяком случае, это не доказательство. Из всего, чего мы желаем в течение жизни, даже самого прекрасного, осуществится лишь малая толика. Правда, это личные желания, тогда как бытие Бога есть единодушное чаяние, всеобщий вопль – более того, формальный догмат. Однако из того, что человечество всегда верило в Бога, еще не следует достаточного доказательства Его бытия, ибо оно верило и в тысячи вещей, никогда не существовавших. А поскольку мисс Уилсон еще недавно доказывала, что из всех верований это – самое пагубное, то даже спасительность этого «заблуждения» для всех неочевидна.
Следует, значит, сохранить за разумом его право – науку, доказывающую Бога, и вновь и вновь пересматривать доказательства Его существования. Но делать это надо во имя науки, ищущей истину, а не во имя диалектики, спорящей ради самого спора, которая то бесплодная схоластика, то опасная софистика; и не во имя скептической критики, всегда ведущей к нигилизму под прикрытием сомнения. Чтобы выполнить задачу, объемлющую Бога и Вселенную, надо действовать во имя всех сил – мысли, чувства, веры и любви, – что составляют жизнь человека, украшают судьбу человечества и управляют им по воле Божией.
Прежде признавали доказательства онтологические, космологические, физико-теологические и нравственные, но доказательства физические, нравственные и метафизические охватывают все известные доказательства бытия Божия.
II. Физические доказательства
Для людей светских (я не говорю о простонародье), именно этот первый ряд доказательств доставляет наиболее ощутимые и сильные из всех; простонародье их не улавливает или мало ими трогается, но человек сколько-нибудь образованный живо ими поражается.
В самом деле, постоянство, правильность и порядок, царящие в мире, кажутся ярко раскрывающими нашему уму руку верховного устроителя, чей совершенный разум направляет каждую вещь к её цели с удивительным разнообразием средств и согласно мудрейшему плану.
Когда такого рода аргументация особенно настаивает на неизменном движении всего к высшей цели, она называется доказательством конечных причин. Оно поражает внимательного наблюдателя свойственной ему величественной очевидностью; священный поэт, рассматривая её с наиболее живописной точки зрения, резюмирует её с блестящей краткостью, восклицая: «Небеса проповедуют славу Божию».
Эту концепцию философы систематизировали и облекли в разнообразные формы. Одна из самых простых среди этих форм или доказательств – та, что выводится из необходимости первичной субстанции, источника и причины всех остальных. Но от этого тезиса легко перейти к теории «ἐν καὶ πᾶν» (единое и всё). По крайней мере, аргумент Декарта, который по сути физический, хотя он и называет его онтологическим, привёл в мысли Спинозы к единству субстанции, представляющему собой самый бесспорный пантеизм. Декарт, чтобы избежать этого предвиденного следствия, допустил, в виде поправки к своему собственному определению, коренное различие между субстанцией, понимаемой в абсолютном смысле, и субстанцией, взятой в относительном смысле.
Таким образом, он пришёл к подлинному множеству субстанций, употребляя этот термин в двух значениях – строгом и расширительном; но его ученик, пренебрегая различием, которое казалось ему лишь уступкой, открыл для современной спекуляции эту пропасть, в которую за ним последовало столько умов, столь же мощных, как и его. Впрочем, главный недостаток физического аргумента в том, что он не доходит до конца, показывая в итоге лишь субстанцию, а не личного Бога; одним словом, он делает не совсем то, что требуется, а лишь часть этого. Он даёт то, что в спекулятивной философии иногда называют prius – первично существующее, первое в том смысле, что до него ничего нельзя помыслить; но этот prius, сколь угодно абстрактный и пустой, – не Бог. Это, конечно, абсолют, но настолько чистый и пустой, что лишён атрибутов, что доказывает необходимость для человеческого ума мыслить и доказывать себе первичное единство, которое есть не только реальная субстанция, но и моральная личность. Меньшего недостаточно.
Аргумент, основанный на движении, несколько более прямой, чем доказательство необходимости первичной субстанции, и даёт нам более реальное представление о Божестве. Вот он. Столь быстрое, мощное, удивительное и в то же время столь правильное течение вселенной есть следствие движения, и это движение непрерывно. Оно остаётся неизменным с момента своего возникновения до сего дня. Однако оно не есть свойство материи; материя не имеет движения в себе самой, и чтобы оно возникло в ней, потребовался перводвигатель, то есть необходимо было всемогущее, вечное, всеобщее Существо, ибо только такое Существо можно мыслить как принцип движения. Следовательно, это Существо существует, и это Существо, приводящее всё в действие верховной силой и управляющее всем бесконечным разумом, есть Бог.
Это доказательство древнее; его можно найти в «Законах» Платона, и сам этот философ не называет себя его изобретателем. Оно встречается и у Аристотеля, перейдя из греческих школ в средневековые. Поскольку идея правильности и идея замысла, подразумеваемые движением, в свою очередь, подразумевают разум, этот аргумент действительно превосходит предыдущий. Тем не менее, установив его, почувствовали потребность в других.
Аргумент, основанный на случайности мира, – лишь его вариант. Декарт, особенно повлиявший на западную философию этим доказательством, пришёл к нему, пытаясь несколько точнее определить понятия случайного и необходимого. В этих усилиях он добился лишь частичного успеха, и Лейбниц, просвещённый Арно относительно дефектного определения Декарта, с величайшей тщательностью занялся усовершенствованием аргументации своего знаменитого предшественника. Последний утверждал, что Бог существует положительно через самого себя, как через причину, и эта схоластическая формула вызвала недовольство Арно. «Поскольку причина всегда предшествует своему следствию, – сказал великий доктор Пор-Рояля, – если бы Божество было причиной своего бытия, оно предшествовало бы самому себе; оно дало бы себе то, чем уже обладало; оно сохраняло бы себя или, вернее, возвращало бы себе то, чего никогда не может лишиться – следствие недопустимое, даже абсурдное». Поскольку это опровержение было неотразимым, Лейбниц попытался заменить априорный аргумент апостериорным, который мог бы получить всеобщее признание. Но он был прав, полагая, что абстрактному доказательству предпочтут более популярное. Его аргументация, действительно более доступная умам, чем декартова, тем не менее не обладала большей убедительной силой, чем у его предшественника. И это станет ясно, ибо вот она.
Во всей области эмпирического наблюдения господствует высший принцип достаточного основания. Чтобы существования были, необходимо, чтобы в отношении их имелось основание, достаточное для объяснения их существования. Но поскольку это основание не находится в них самих, оно, естественно, должно быть в другом – в высшей причине, необходимой, то есть в Боге, который един есть причина самого себя и в то же время достаточное основание для ряда существований, равно как и для фактов, всеобщим образом связанных. Более того, поскольку ничто не зависит от Бога, Бог должен быть безграничен и объединять все возможные реальности. Иными словами, во всей вселенной всё случайно, ничто не необходимо, ничто не есть causa sui (причина себя). Следовательно, чтобы объяснить существование всего, необходимо допустить причину, которая необходимо есть causa sui и rerum omnium (причина себя и всех вещей). Поскольку эта причина существует (ибо она необходима), из этого следует, что Бог существует, ибо она и есть Бог.
«Что в этой новой форме онтологический аргумент, ставший космологическим доказательством, яснее и разработаннее, чем в прежней, – едва ли стоит и говорить. Но и он не лишен недостатков. Ведь при внимательном рассмотрении этого мира, его сил и законов можно прийти к выводу, что он вовсе не нуждается в чём-то ином как в своей достаточной причине, а, напротив, представляет собой самодостаточное целое, обладающее всем необходимым и функционирующее настолько хорошо, что, по крайней мере в данный момент, не обнаруживает ни малейшей нужды в чём-то внешнем – да, пожалуй, и никогда не обнаруживало.
Несмотря на этот изъян, следующее за Лейбницем поколение приняло его доказательство со всем почтением, внушаемым его авторитетом. Однако Вольф счел этот аргумент допускающим более удачную формулировку и развил его следующим образом:
«В связи существований и вещей следует различать относительную необходимость от абсолютной. Абсолютная необходимость заключается в том, что если бы малейшее событие произошло иначе, чем происходит, то и всё предшествующее должно было бы быть иным, и всё последующее также пошло бы другим путём. Но совершенно верно и то, что возможны были бесконечные иные комбинации, кроме реализованной. В божественном разуме существовало множество других возможных миров, и многое, невозможное в нашем, было бы вполне возможным в ином. Таким образом, невозможное, как и необходимое, относительно. Та или иная вещь необходима или невозможна лишь в связи с общим состоянием мира. При ином состоянии первая не была бы невозможной, вторая – необходимой. Сам нынешний мир отнюдь не был необходимым. Напротив, он случаен. Но если он случаен и существует не в силу собственной необходимости, то у него есть Творец. Следовательно, Он существует, и этот Творец – Бог».
Так сформулированный, аргумент, по сути физический, но сначала названный онтологическим, затем космологическим, стал по существу теологическим. И каждая новая его форма означала прогресс по сравнению с предыдущей – этого отрицать нельзя. Тем не менее ни одна из них не доказывает ничего, кроме необходимости причины; ни одна не доказывает необходимости личного Бога. Каждая из них действительно демонстрирует некую абстрактную причину, некий принцип – но этот принцип может быть как духовным, так и материальным. Все системы, истинные или ложные – пантеизм, материализм и даже атеизм – могут принять его, фактически приспосабливая к себе. Становится ясно, что, несмотря на все последовательные видоизменения, всё это доказательство едва ли ценнее, чем в своём первоначальном виде.
Ему придавали иные формы – возможно, более удачные, во всяком случае, более популярные, и мы рассмотрим их с большой симпатией, поскольку именно в так называемом физико-теологическом варианте этот аргумент обретает наибольшую ясность и привлекательность.
Поразительный порядок царит во Вселенной. Если не все замечают его с первого взгляда, то по крайней мере вдумчивый ум его обнаруживает. Наука демонстрирует его с такой точностью, что астрономия и общая физика принадлежат к числу дисциплин, дающих наиболее убедительные уроки о существовании совершенного и мудрого Бога. Во взаимодействии явлений, сил и законов мироздания всё указывает на удивительную цель. И если для толпы, для которой солнце всё ещё вращается вокруг земли, чтобы освещать и согревать её со всех сторон, эта цель неочевидна, то для просвещённого разума она поразительно ясна. Для него за видимостью раскрываются идеи и замыслы, осуществление которых требовало высшего разума, совокупности комбинаций, которые могли быть задуманы лишь этой божественной мыслью – тем Нусом, открытие которого Анаксагором стало величайшей славой ионийской философии.
Эта блистательная концепция философа из Клазомен покорила мир, оторвав школы от грубой физики и чувственной метафизики. Преобразование, которое она внесла в политеистический натурализм и которое подготовило крушение его самых дорогих заблуждений, могло огорчить толпу, заменив космические силы, повсеместно обожествляемые, спиритуалистической теорией. Народ в негодовании говорил, что ему пытаются навязать новый принцип, веру, противоречащую принятым догмам, – словом, нечто вроде атеизма. Под этим предлогом учение Анаксагора, Сократа и Платона, доказывавшее необходимость высшего разума, могло быть встречено на улицах враждебно. Но оно было слишком истинным, чтобы не восторжествовать в школах. И его последовали как в Риме, так и в Афинах. А затем и апостол Павел пришёл представить тот же аргумент в философском городе:
«Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли (Вселенной), даёт всему жизнь, дыхание и всё. Он создал людей, дабы они искали Его, не ощутят ли Его, ведь Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы Им живём, движемся и существуем» (Деян. 17:24—28).
Христианство донесло этот аргумент до народов, не лишив его при этом ценности для философии. Выдающиеся мыслители и знатоки природы – Бэкон, Дерхэм, Реймарус и Бонне – находили его достойным самых возвышенных умов. Христианская теология долго восхищалась концепцией, которая раздражала теологию языческую; и под пером Фенелона этот круг идей, который в Англии называют физико-теологическим, породил самые красноречивые страницы французской литературы о следах Творца в Его творениях. Даже сегодня нельзя слишком увлекаться удовольствием от влияния этих столь возвышенных и чистых концепций. Сам Кант – Кант, который с такой строгостью подвел баланс доказательств за и против существования Бога, – не мог не сказать, что это доказательство заслуживает того, чтобы его всегда чтили, как самое древнее и самое ясное; как то, которое из всех наиболее соответствует разуму большинства людей, оживляя изучение природы и даруя новые силы.
Тем не менее, этот круг идей не имеет ничего категоричного, абсолютного, способного принудить к подчинению. Напротив, у него есть слабая сторона: он раскрывает нам лишь несовершенного, урезанного Бога, необходимого исключительно для физического мира. Однако религиозная душа требует не полубога, не относительного божества, не устрояющего материю разума – ей нужен полный, совершенный Бог. Духовный мир требует Бога духовного, нравственный разум человечества – Бога нравственного. И уже сейчас видно, что вся реальная сила этих доказательств, по сути физических, заимствована из более высокой спекуляции, из более глубоких рассуждений, из метафизических концепций.
Дело в том, что все физические доказательства становятся метафизическими по мере своего возвышения.
III. Метафизические доказательства
Они многочисленны по той причине, которую мы только что указали: все остальные доказательства становятся метафизическими, когда прослеживают их принципы вплоть до конечных оснований.
Наибольшую роль в философии играет идеологический аргумент, который обычно называют онтологическим. Существование Бога считается доказанным в нем, как только показано, что оно мыслится разумом с рациональной необходимостью.
Этот аргумент древний. Святой Ансельм, вдохновленный учением святого Августина, который, в свою очередь, опирался на Платона, сделал его знаменитым, изложив следующим образом:
«Созерцание каждой отдельной вещи, хорошей или прекрасной, приводит к представлению о единой и высшей благости и красоте, из которой с необходимостью проистекает всё доброе и прекрасное в частностях. Мы не можем мыслить даже самое частное благо, не восходя по закону нашего ума к всеобщему, универсальному благу, чье сообщение или эманация создает или составляет все индивидуально хорошие вещи.
Но из одной лишь возможности мыслить Бога, или, точнее, придавать смысл этому слову, с необходимостью следует реальное существование Бога. Ибо если мы мыслим Бога как существо высочайшей совершенности, но при этом отрицаем реальность Его существования, то получится, что тот, кто добавит к этому понятию Бога идею реального существования, помыслит существо, превосходящее первое. Ведь существование – это тоже часть совершенства.
Следовательно, когда мы мыслим Бога как существо высочайшей совершенности, мы необходимо мыслим Его как существующего, и Его реальность устанавливается для нас на том же основании, что и все остальные Его качества.
Если это еще не убеждает, вот неопровержимый довод:
«Тот, кто верит в Бога, верит, что Он есть нечто такое, выше чего нельзя помыслить ничего. Существует ли такая природа на самом деле? Безумец, отрицающий ее, тем не менее понимает сказанное, и то, что он понимает, пребывает в его уме, даже если нигде больше.
Идея предмета не подразумевает веры в его существование. Художник, задумавший картину, знает, что ее еще нет. Но то, что лучше и больше всего, что можно помыслить, не может находиться только в уме; ибо если бы оно было только в уме, его можно было бы помыслить существующим в реальности – то есть помыслить еще большим, что противоречит исходному предположению.
Следовательно, то, выше чего ничего нельзя помыслить, существует и в уме, и в действительности. Как только оно мыслится, оно уже есть.
Если бы существо, выше которого нельзя ничего вообразить, можно было считать несуществующим, то это несравненное существо уже не было бы тем, выше чего ничего нельзя помыслить. Противоречие очевидно.
Значит, действительно есть существо, выше которого нельзя вознести другое, и поэтому оно мыслится как не могущее не существовать. Это существо – Ты, о Боже!»
Et hoc es tu, Domine, Deus noster! (Ансельм, De Fid. Trin., гл. II, изд. Gerberon, стр. 42.)
Этот ход мысли часто критиковали, и справедливо указывали на его чисто схоластический характер. Его знаменитый автор, развивавший его в разных формах (см. его Прослогион и Монологион), приписывал ему почти всемогущую силу; но уже в Средние века даже те, кто меньше всего сомневался в существовании Бога, признавали его недостаточность.
Пока святой Ансельм, чувствуя свою правоту, восклицал в духе псалмопевца: «Сказал безумец в сердце своем: „Нет Бога“» (Пс. 13:1), – монах из Мармутье (близ Тура) Гаунилон, который, впрочем, считал Прослогион Ансельма великолепным сочинением, очень наивно ответил ему, что, напротив, безумец должен так сказать – именно потому, что он безумец (Liber pro insipiente).
Тем не менее, святой Ансельм оставался настолько убежден в своей теории, что продолжал повторять ее в своих трудах, и его Трактат о Троице, среди прочего, дает ее в наиболее краткой форме: