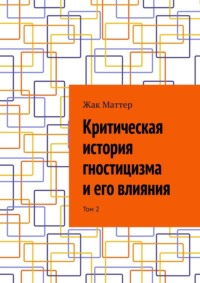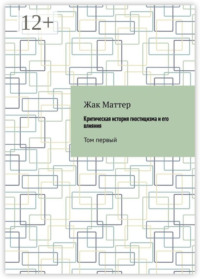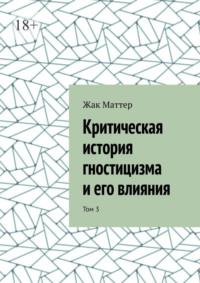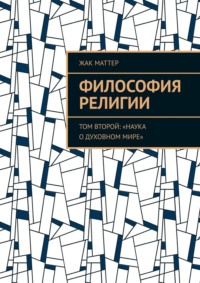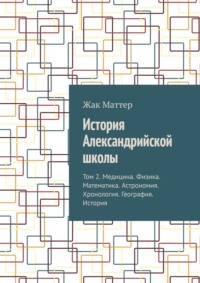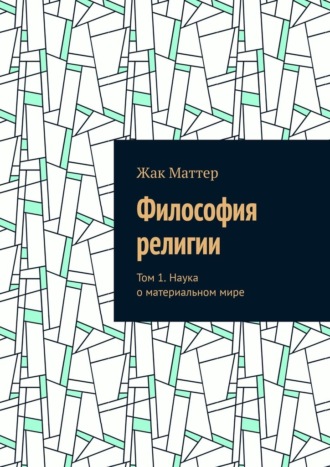
Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире
Означает ли это, что истина будет отдана на произвол субъективности и права разума принесены в жертву крайностям исключительного энтузиазма? Напротив, все, что доказывают эти преувеличенные мнения, – это то, что именно исключительный, то есть слепой, энтузиазм разжег чисто схоластический спор о превосходстве спекуляции или веры и что именно субъективность делает его бесконечным. Правда же в том, что отныне трудно четко разграничить эти две сферы. Современная философия вышла из христианства, как и древняя философия, которую она считает своей прародительницей, вышла из древних религий. Наше рациональное умозрение пропитано самой сутью откровения и росло только благодаря его прогрессу. Даже плохое философское преподавание все еще сверяется с христианством и щадит его, даже борясь с ним, как с авторитетом, который было бы досадно иметь полностью против себя; что же касается возвышенной мысли, то христианское учение, несомненно, играет в ней наибольшую роль.
Тем не менее, для него важно следить за разграничением этих двух сфер и, насколько возможно, определять долю каждой: долю философии и долю теологии.
В теории это очень легко; трудности возникают только на практике.
III. Философия христианства в отличие от философии религии
Христианская религия следует всем достижениям – как в области физических наук, так и в области наук моральных, – принимает все просвещение и расширяет свое влияние благодаря всему, что соединяется с ней в той атмосфере, где она существует. Но она также отличается от всего; и сколько бы философия ни присваивала себе идеи христианства, ни шла тем же путем, она не отождествилась бы с ним настолько, чтобы называться просто и исключительно философией.
Действительно, то, что именуют философией христианства, не следует смешивать ни с философией вообще, ни даже с той всеобщей наукой, которую обычно называют философией религии.
Философия христианства совершенно отлична от философии религии, и ничто так ясно не доказывает необходимость восстановления этого различия, как та путаница, которая возникла. У большинства авторов это смешение сводится лишь к одному из трех вариантов: либо к совокупности теорий, где сущность христианства приносится в жертву философии, так что от христианского остается лишь терминология; либо к совокупности теорий, где философия приносится в жертву христианству, так что философским остается только язык; либо к какому-то эклектизму, где жертвы взаимны настолько, что в равной мере вредят и христианству, и философии.
Ничего из этого христианство не признает своей философией, и столь же далеки от истины те, кто выдает за философию христианства либо какую-то рациональную легитимацию христианской религии в ее самых существенных догматах, либо обещает примирение между философией и христианством, где ни то ни другое не пострадает. Такое примирение – удел будущего; в настоящем же мы к нему еще не пришли, и следует откровенно заявить: при нынешнем состоянии философии и теологии последняя учит таинствам, которые первая не может принять, не поступившись частью своих методов и доктрин.
Помимо этих систематических попыток примирения, которые терпят крах там, где ничто не желает уступать, часто с уверенностью ссылаются на естественные слияния, происходящие сами собой в умах, питающихся из двух источников, открытых Провидением для человеческого гения. Говорят, что эти компромиссы, совершаемые между покорной верой и свободным разумом, столь же законны, сколь и привычны человеческой душе, и они возникают во все эпохи, поскольку разум, как того желает Бог, есть непрестанное стремление к гармонии религии и философии.
Но ни одна из этих точек зрения, сколь бы уважаемой она ни была, не является ни достаточно истинной, чтобы ее принять, ни достаточно ясной, чтобы в нее поверить. Истинная философия христианства – это та, которую оно само создает на основе своих собственных доктрин, перед лицом всех умозрительных учений, будь они сходны с ним или противоположны, обсуждая все, но отвергая в своих доктринах то, что с ними не согласуется, утверждая свою долю посредством разума, но не во имя разума. Вот подлинный религиозный, или теологический, рационализм. Его необходимо всегда сохранять и отличать от ложного. Это трудно среди осуждений, которым справедливо подвергся старый рационализм – некогда абсолютный хозяин теологии, а ныне именуемый вульгарным рационализмом; но это право и необходимость.
Именно так мы понимаем философию христианства.
Однако эта наука не является исключительным предметом нашего рассмотрения – она лишь главный его объект: мы излагаем философию религии вообще и, в частности, философию христианства, потому что именно эта система играет наибольшую роль в религиозной спекуляции, и ее невозможно изгнать с того места, которое она сама заняла в сфере мысли, какое бы отношение к ней ни демонстрировали.
Со всем цивилизованным миром мы будем по существу обращаться к свету христианства – если не прежде всего, то, по крайней мере, после всех остальных.
Действительно, мы всегда будем отличать его от тех истин, которые даны разуму более непосредственно и составляют отправную точку всякого человеческого воспитания, всякого изучения и всякой подлинной науки – от той, где сам Бог является главным предметом, а Библия – основным текстом.
Чтобы не допустить никакой путаницы в этом вопросе, мы сочли необходимым так точно определить подлинную философию христианства. Причина, по которой ее иногда смешивают с философией религии вообще, заключается в том, что последнюю часто понимают в столь же узком и ложном смысле, как и саму философию христианства. Судите сами по примерам.
«Ее проблема, ее задача, – говорит один очень религиозный и ученый философ, – состоит в том, чтобы рационально определить границы религиозной или философской науки и обосновать веру» (Тауте, «Философии религии», I, стр. 7). Но разве не очевидно, что ограничиваться этим – определять границы религиозной или философской науки – значит лишь обозначать пределы ее области или подтверждать ее законную собственность, а не создавать саму науку? В самом широком смысле философию религии превратили в некий более или менее критический эклектизм, смешение всего самого лучшего из всех известных религий. По словам одного знаменитого теолога, она должна представлять критический обзор различных форм, данных благочестивым обществам, поскольку их совокупность дает полное проявление благочестия в человеческой природе.
(Шлейермахер, «Вероучение»; т. I, стр. 6, 1842):
Но философия религии – это ни критический обзор одной из существующих религий, ни историческая картина всех религий, и уж тем менее эклектическое извлечение из них самого чистого или самого рационального. Ибо она есть самостоятельное учение. Она излагает доктрину, совокупность теорий о высочайших вопросах, способных занимать человеческий разум. Это – научная система, построенная во имя света разума, на основе универсальных верований человечества и с учетом частных учений народов. Она, таким образом, обращается к христианской теологии в христианском мире, но отличается от этой частной теологии, как и от всех прочих. Она – ни библейская теология, основанная на священных текстах, ни догматическая теология, систематизированная по канонам и исповеданиям церкви. Далекая от того, чтобы представлять позитивную теологию, господствующую в народных нравах и управляющих ими институтах, она, напротив, всецело спекулятивна, возносясь с некоей идеальной свободой к высочайшим и абсолютнейшим концепциям, следуя за элитой мыслителей как в пределах, так и за пределами откровенных теорий и авторитарно установленных, более или менее неизменных верований. Она даже не имеет среди своих приверженцев всех тех, кто носит имя или мантию философа.
Однако, будучи порождением безграничной мысли, философия религии – ни беспорядочное исследование, ни утопическая наука. Это – вера самых твердых и религиозных умов среди спекулятивных мыслителей и выдающихся метафизиков, и в этом качестве она допускает лишь то, что достойно господствовать в умах, созданных для высших истин. Ее доверительные грамоты – в ее естественной законности и божественном возвышении; но у нее никогда нет ни амбиций, ни авторитета откровенного учения.
Тем не менее, поскольку в конечном счете именно высочайшая мысль господствует в мире и поскольку все умы созданы для высших истин, спекулятивная теология всегда остается явным или скрытым регулятором прочих. В странах и в периоды, когда позитивная теология отрекается от всей своей власти, именно она занимает ее место.
IV Философия религии – внутри религии или рядом с ней.
Обычно считают, что эта наука имеет современное происхождение; однако она так же древна, как и сам разум; философия современна религии. Человеческий ум всегда обладал всеми своими способностями, и наряду с религиозными идеями всегда развивались те, что называют философскими. Первые, несомненно, составляли как бы душу жизни в первобытных поколениях, и в этом их слава; но нет ни одной из них, которая не имела бы философского характера, которая не была бы матерью или дочерью философской идеи. И последние должны были играть тем более значительную роль в изначальном мышлении, что величию зрелища, развернутого перед ним, соответствовали изначально более мощные и чистые способности.
Все сохранившиеся древние литературы представляют два вида религиозных произведений. Одни образуют положительную, официальную, священную и малоизменчивую теологию, состоящую из откровенных (или называемых таковыми) слов, культовых формул, гимнов и молитв, предписаний обрядов и жертвоприношений, учений догматов и нравственных наставлений. Другие образуют спекулятивную теологию – более свободную, прогрессивную, неофициальную и несвященную, весьма изменчивую, состоящую из трактатов и комментариев, преданий и мифов, в которых проглядывает спекулятивный разум, столь могущественный, что он подготовил если не яркие революции, то, по крайней мере, заметные преобразования в сердцевине положительной теологии.
На Востоке философия религии формируется и развивается в самой среде жречества. Литература Индии свидетельствует об этом самым поразительным образом в множестве трактатов по спекулятивной теологии, смешанных с писаниями положительной теологии. И это в определенной степени повторяется в истории Персии, а также в священной литературе Иудеи; ведь книги Иова, Екклесиаста, Премудрости и Сираха представляют ту же самую спекулятивную теологию, которая позже принимает столь свободные формы в Каббале и у Филона, все труды которого принадлежат религиозной философии.
Тот же факт – наличие двух теологий, одной положительной, другой спекулятивной – наблюдается и в Греции. Здесь большинство священных текстов для нас утрачено, но прежде всего именно потому, что рядом с жреческими учениями существовали предания и мифы, удовлетворявшие религиозные потребности древних поколений. А затем потому, что во имя спекулятивного духа мудрецов или народа философия подготовила – через космогонию, пневматологию и свою собственную теологию – резкое разделение между свободной мыслью, мыслью школ, и положительной верой, традицией святилищ. Тем не менее, даже в этой Греции, ставшей столь философской благодаря своим школам, спекулятивная теология строилась на элементах священной теологии. Ведь, несмотря на отделение от святилищ, самые выдающиеся мыслители испытывали влияние жреческих мистерий до такой степени, что фундаментальные идеи поэтического политеизма не переставали служить отправной точкой их теорий.
Действительно, если Фалес и Анаксагор создали независимую космогонию; если Сократ основал рациональную теологию, а Платон – спекулятивную, то это происходило благодаря обращению то к восточной традиции, то к жреческой поэзии Фракии, то к философской поэзии Эмпедокла и даже к таинственным церемониям Элевсина, цель которых, по словам Платона, заключалась в том, чтобы возвысить душу туда, откуда она нисходила. Таким образом, метафизики Греции создали – без вмешательства жрецов и теологов – целиком философскую религию, которая поначалу нашла признание лишь среди образованных умов; но, сколь бы философской она ни казалась, она проистекала из религии, и именно поэтому перешла из школ в литературу, а из литературы – в нравы. Это настолько верно, что примеру этих великих людей последовали все школы, даже евгемеристов и эпикурейцев, которые строили свои негативные теории на некоторых из самых положительных преданий.
Кроме того, если в конце концов возобладали отрицания эвгемеристов и эпикурейцев, поддержанные в этих тенденциях скептиками, и если – религиозные философы и нерелигиозные философы – все вместе сначала подрывали, а в итоге низвергли религию, которая так долго питала их системы, то лишь потому, что такова была их провиденциальная миссия. Не будем забывать и о том, что политеизм был покинут всеми, когда пришло время. Его предали жрецы, не сумевшие защитить его через развитие, и государство, не пожелавшее допустить его реформу ни через какие уступки. Так философы преобразовывали всё, а жрецы не умели ни противопоставить урокам философии лучшее учение, ни предложить доктрину более здравую, чем их собственная – и политеизм сам вырыл себе могилу. Жречество, предав религиозные интересы народа, чье воспитание было ему доверено, и государство, желавшее именем закона навязать всем совестям мнения, которые уже ни для кого не были авторитетными, – все оказались готовы к иному порядку вещей. Однако эта подготовка была скорее негативной, чем позитивной. Действительно, закон запрещал любые нововведения, а дух прогресса требовал их непрестанно. Отсюда – неизбежные преследования всех мыслителей, столь законное осуждение и столь оплакиваемая смерть Сократа, столь прозрачный эзотеризм Платона, столь осторожное бегство Аристотеля и, наконец, столь страстное раздражение школ против святилищ, не говоря уже о столь горькой враждебности святилищ к школам.
Если бы нужно было говорить об этом, легко было бы вскрыть эти противоречия, выделив их из множества фактов, которые недостаточно исследованы под этим поучительным углом зрения.
У римлян, как и у греков, следует четко различать позитивную религию – религию государства, жречества, прежде всего народа – и религиозную философию людей, воспитанных в Греции или греками. Хотя у этой философии в Риме было лишь три писателя – Лукреций, Цицерон и Сенека, – она выполнила ту же миссию, что и греческая метафизика, и, достигнув того же предела, так же разбила сосуд, вкладывая новые идеи в старые формы, в старые институты, которые их не вмещали. Не осознавая того, римские философы, как и греческие, открывали дверь той высшей религии, которая тем менее боится философии, что повсюду наследует её, даже при жизни своей жертвы. Действительно, христианская религия обязана своими величайшими триумфами тому, что с самого рождения восприняла философию. Она допустила её в свои исторические повествования и догматические тексты, как и в свои этические предписания. Она сделала это сдержанно, в границах истины и скорее для нужд борьбы, чем для поиска решений. Но главное – она сделала это независимо и с чувством превосходства, заявляя всем, что отличает истинную науку от той, что ложно носила это имя.
Союз с философией, даже если бы он не был выбором христиан, стал для них необходимостью.
С первых же шагов христианство обнаружило, что две главные религии, которые оно пришло заменить, тесно связаны с философией. Иудаизм как бы возродился в метафизических формах – я имею в виду каббалу и филонизм, – а также в этических, под которыми я разумею ессеизм и терапевтизм, предлагавшие великие соблазны теории и практики, ибо мистицизм и аскетизм всегда этим отличаются.
С самого возникновения христианской веры политеизм, в свою очередь, перестраивался в новых формах – одних более метафизических, других более этических. Как только философы заметили, что жречество этой новой религии проявляет к ним меньше терпимости, чем жречество старого культа, и что, борясь с общественными верованиями и опустошая души, они готовят их для христианства, они предприняли попытку восстановить эллинизм из его обломков. Украшая эти руины всей поэзией и метафизикой, какие только находили в самой блистательной литературе мира, они льстили себя надеждой создать религию, гораздо превосходящую ту, которую называли невежественной и варварской. Именно это делали с разной степенью таланта: Аполлоний Тианский, которого его биографы – особенно Филострат – охотно поставили бы на один уровень с Иисусом Христом и который, возможно, и сам помышлял о чём-то подобном; Аммоний Саккас, присвоивший восточную пневматологию и желавший примирить её с христианством; Плотин, одухотворивший весь политеизм; Порфирий, который в учёном и обстоятельном сочинении столь яростно оспаривал философские достоинства христианской веры; Ямвлих, который, не решаясь более нападать на религию, ставшую религией империи, напыщенно противопоставлял ей легковерные мистерии древнего Египта; Максим Эфесский, замышлявший вместе с императором Юлианом крушение христианских институтов; сам этот отступник-принцепс, преследовавший их после предательства и подражавший им даже во время гонений; Прокл, считавший себя последним звеном таинственной герметической цепи и потому бывший самым ревностным среди философов, преданных этой отныне невозможной реставрации, – чья аскетичная и чистая жизнь всё же вдохновлялась более ненавидимым им христианством, чем платоническим мистицизмом, новым толкователем которого он себя сделал.
Эта работа по регенерации политеизма, противостоявшая столь же страстно, сколь и упорно ясной доктрине христианства, объединившегося с чистейшей философией, была повторена у римлян. Но в этом бледном подражании тому, что сделала Греция, всё ограничилось несколькими попытками примирения павшей религии и философии в упадке – попытками, лишёнными оригинальности и блеска, предпринятыми Апулеем и Макробием, а также некоторыми из их редких последователей. Было уже слишком поздно. Римский политеизм, как и афинский, уже был превзойдён во всех своих формах – позитивных или спекулятивных, поэтических или философских – столь разнообразными формами и столь мощным авторитетом той религии, для которой другие имели миссию подготовить мир.
При виде этих попыток реставрации, предпринятых философией в недрах политеизма, как и в недрах иудаизма, становится понятной необходимость для учителей христианской веры ознакомиться с прекраснейшими творениями человеческого духа – шедеврами философов. Чтобы лучше бороться с их заблуждениями, они должны были знать саму философию.
В своем происхождении христианство не было философией. Как и все данные религии, оно было лишь позитивной метафизикой. Борьба, которую оно вызвало, превратила его также в спекулятивную метафизику, и для него это было легко, поскольку его сущностная черта – предложить единство бесконечного и конечного, Бога и человека, единство истинное, объективно реализованное в личности Иисуса Христа, субъективно – в каждой христианской индивидуальности.
Действительно, христианская жизнь, ставшая столь великим новшеством в нравственном мире, определяется идеей Бога, объективно данной в личности Иисуса Христа, субъективно воспринятой, принятой и реализованной в непосредственном сознании нашего единения с Богом через Иисуса Христа. Без этого единства никто не является христианином. Ибо никто не христианин, если не знает отношения единства, которое Иисус Христос устанавливает между конечным и бесконечным бытием. И в этом смысле Иисус Христос – не только величайший из метафизиков, но и самый смелый и плодотворный: все этические силы, столь ярко проявившиеся в явлении христианства, в его славных и спасительных завоеваниях, исходят из этого великого факта, из божественного факта, явленного в Его личности и через Него, через излитый Им Божественный Дух, отражающегося в человечестве с момента Его пришествия.
Принцип христианства – потусторонний; само христианство таково. Святой Павел и святой Иоанн, поднявшие христианский догмат в сферу спекулятивного, не дали примера, а лишь последовали за своим Учителем. Первый, не рекомендуя истинную философию (что было бы излишним и неуместным в устах апостола), осудил ложную, что входило в его миссию. Он проявлял своего рода усердие в беседах с философами. Если он порицал ложное знание, то его речь в Афинах, дающая космологическое доказательство бытия Бога, прекрасно выражает его мысль об истинной науке. Его сделали не только метафизиком, но и своего рода вольнодумцем, основателем свободного исследования. Он об этом не говорит. «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21) – но это не имеет ничего общего с так называемым принципом свободного исследования, который никогда не был принципом ни одной позитивной религии, ни какой-либо Церкви.
Святой Павел знал религиозную философию своего времени и своего народа; он знал, в частности, философию секты, которая полагала, что воспитала его для своих целей; но он вовсе не был школьным философом. Святой Иоанн – тоже. Однако его возвышенный гений легко оперировал идеями и языком высочайшей спекуляции. Начало его Евангелия показывает, что он знал религиозную философию своего народа и то, что мы называем предшественниками гностицизма. Он стремился дать истинную теорию Логоса и представить – через исправление и отвержение ошибок – ту точку зрения, под которой следует рассматривать Сына Божьего в Его отношениях с Вечным, в Его великих деяниях, в Его роли в творении мира и в просвещении человечества, за которым последовало его освящение, именуемое искуплением и бывшее причиной воплощения.
Среди преемников двух апостолов особенно выделяются двое, шедших этим путем: святой Игнатий и святой Поликарп. Иустин Мученик и святой Климент Александрийский пошли еще дальше, как и Ориген, ученик философа и создатель александрийской догматики. Святой Василий, воспитанный в Афинах, полон философии, как и Григорий Нисский и Немесий Эмесский, сохранивший для нас любопытную беседу Аммония Саккаса.
Псевдо-Дионисий Ареопагит в своей доктрине представляет, наконец, тесный союз религии и философии.
Тот же союз существовал и на Западе. Он составляет великое украшение сочинений святого Августина. Он встречается и у Клавдиана Мамертского. Оба эти учителя, объясняя прекрасные тексты святого Иоанна и святого Павла, вдохновлялись прекрасными текстами Платона и Филона. Все знают ученость, возвышенность, платонический стиль и пристрастия святого Августина. Клавдиан, возможно, даже более открыто, чем он, исповедовал христианизированный платонизм. В своем трактате «О состоянии души» он говорит очень просто: «Я часто цитирую в качестве авторитета Платона, главного из всех философов, ибо я побежден восхищением». Он считает себя вправе цитировать и других: Архита, Филолая и особенно Порфирия, которые для него также – люди, озаренные лучами истины, «luminе veritatis afflati».
Обычно, говоря о союзе христианской доктрины и философии, имеют в виду лишь спекулятивную теологию александрийских учителей. Но мы впервые видим этот союз у святого Иоанна, современника Филона, одной из светочей этого очага наук. Он проявлялся везде, куда приходило христианство, обеспечивая повсюду быстрое развитие новой догматики. Ошибочно отрицать спекулятивный характер христианской веры и определять ее догматы как простую смесь народных мнений. Христианский догмат – это благородно ясное и общедоступное выражение божественно данных вечных истин. Именно потому, что его ясность – свыше, он играет столь значительную роль в области спекуляции с момента своего появления там. И именно потому, что есть постоянный прогресс в том, как человечество осознает свое единство с Богом – объективно явленное во Христе, субъективно переживаемое верующим, – христианство сочетает вечность с универсальностью.
Однако не следует заблуждаться относительно природы или границ христианских связей. Христианство, будучи самой сущностью истины, соединяется лишь с тем, что есть оно же, хотя и в иной форме. Во все эпохи оно боролось с тем, что не могло существовать вместе с ним, и всегда находило опасность в терпимости к тому, что оно осуждало, в системах религиозной философии. Как только оно, укрепленное законом, столкнулось с учениями, отрицавшими его абсолютную истину или искажавшими его основные принципы, оно восстало против этой распущенности. Не претендуя на славу создания теорий или провозглашения принципов для защиты той неспособности остановиться на истине, прилепиться к ней и возлюбить ее (что мы, возможно, слишком прославляем под именем скептицизма и критицизма), оно сурово пресекало это. И, не признавая абсолютной власти того права, которое мы ныне называем философской свободой, оно ограничивало его осуществление.
Действительно, шесть веков спустя после Рождества Христова, по повелению императора Юстиниана, христианство положило конец всему философскому преподаванию, которое шесть веков до того существовало независимо.