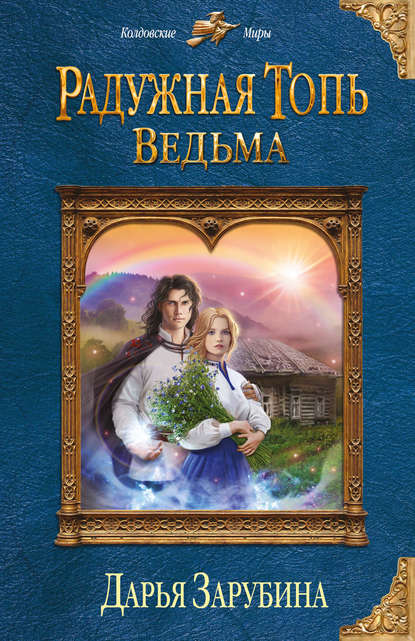По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Радужная топь. Ведьма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Агата поднялась – гордо, по-господски, так что всякий, увидев ее, тотчас понял бы – хозяйка перед ним, владычица, княгиня. Махнула рукой Тадеку, приказывая идти впереди, оставить одного бестолкового княжича. Пошла, степенно ступая по рыжей, вырванной колдовством траве. Не обернулась.
Авось поймет, обидится бестолковый сынок, да от обиды и поумнеет.
В лесу, впереди, виднелся белый Элькин сарафан. Рядом – пестрая душегрейка няньки. Эльжбета и рада была броситься со всех ног к матери, да охромевшая наставница мертвой хваткой вцепилась в ее руку, ковыляла, сжав зубы.
Агата улыбнулась вымученно, успокаивая обеих. Мол, миновала беда, стороной прошла. Хотела махнуть рукой, да не пошевельнула и пальцем. Пусть видит сын, что матушка не на шутку грозна, а то ведь и не поймет, какой беды избежал – отмахнется: жив – и ладно.
Ветер шуршал листвой подлеска, собирал невидимой щепотью семена с метелок травы. Тепло светилась река, шептала в камнях на заплеске. Резко, задорно, как ярмарочные глиняные свистульки, чиркали, вскрикивали звонкими голосами птицы.
И во всем этом летнем гаме была тишина. Благословенная тишина, какая бывает после грозы. Пронеслась беда, и ветер засыпает ее след пылью, песком, семенами трав. И в этой тишине дышится легче, глубже, радостнее.
Вдох! – и раскроется грудь, наполнится светом, птичьим щебетом…
Крик.
Не окрик бедового сынка, молодого княжича, с повинной головой бредущего за матерью вымолить прощение и заступничество от отцовского гнева.
Крик смертельно раненного зверя. Крик страха и такой боли, что раскалывает надвое самую суть, разделяет огненной вспышкой разум и страдающее тело.
Агата обернулась.
Якубек все так же лежал на земле, силясь подняться. А над ним переливалась как слюдяное блюдце, дрожала радужная топь. Словно кот, лениво играющий со встрепанным мышонком, Погибель отпустила было, отошла. А едва поуспокоилось сердце, стихла тревога, так распахнула Безносая радужный глаз, ухватила невидимым когтем, впилась. Тянет, пьет колдовскую силу.
– Отпусти! – крикнула княгиня, от самого нутра взвыла. – Отпусти, окаянная!
И словно услышало семицветное око, моргнуло раз, другой. Недобро моргнуло, сыто. Набухло, созрело гнойной матовой прозеленью.
Крик.
Якуб рухнул на траву, а око, вздувшееся шаром, заколыхалось над ним и лопнуло, плюнуло огнем прямо в лицо своей жертве.
Глава 15
– Да что же это?
Раны – голое мясо.
Глянула – и глаза сами собой зажмурились, отказались смотреть.
Нет, нет, нет. Не может этого быть. Не должно. Не допустит Земля-заступница такого страдания ни для кого из своих детей.
Хотя… К чему лукавить – не перед кем-то, перед собой, и то трудно признать правду, взглянуть в пестрые глаза Безносой. Одна она и печется о людях: как бы не зажились, лишнего дня счастья не ухватили. А Земля выродила, да и оставила у Погибели на крыльце. Пригляди, мол, сестрица…
Мясо. Красное, бурое, сизое, почти черное с прозеленью гноя.
Агнешка почувствовала, как от запаха гнилой плоти тошнота подступила к горлу. Лекарка бросила на траву горсть пропитавшихся гноем тряпок. Подложила под руки Илария чистое полотенце.
Сжалившись над своей жертвой, морок не отпускал молодого мага, страшная боль едва пробивалась сквозь панцирь колдовского сна. И в те минуты манус стонал так жалобно, что Агнешка искренне, от всего сердца желала такой же муки громиле-палачу. Чем бы ни провинился перед разбойником-палочником красавец маг, а все не заслужил такой кары.
– Руки спасу – и ему жить.
Агнешка осторожно развернула правую ладонь мага. Подхватила двумя пальцами толстую белую личинку-опарыша. Положила на самый край раны, на темную гниющую плоть. Опарыш замер на мгновение, настороженно сжался уродливой каплей речного жемчуга. Но запах манил. По белому тельцу прошла дрожь. Опарыш принялся за дело.
Покуда первый маленький лекарь с азартом вгрызался в омертвевшую плоть, Агнешка, уже щепотью, положила на рану еще нескольких. А потом усадила добрых полтора десятка на другую ладонь. Жемчужинки зароились, торопясь насытиться, и рана на глазах стала алеть. Открывалось под слоем мертвого живое, жаждущее жизни.
Опарыши копошились, резво очищая раны. И видно, зазевался морок, уж не первый день караулящий у изголовья пленника-мага, засмотрелся на спорую работу жадных жемчужин – ослабил на миг колдовские путы. Ресницы Илария дрогнули, губы приоткрылись, и уже не стон – слабый крик сорвался с них. Жалобно, страдая за хозяина, заржал Вражко.
Агнешка тотчас засуетилась, зашуршала юбками. Извлекла из складок пузырек, приложила к приоткрывшимся губам. Рано еще было просыпаться манусу. Не вынести черноволосому красавцу такой боли. Зеленая капля потекла по губам, нырнула внутрь. Спохватился зевака-морок, стянул паволоки так, что дыхание мага выровнялось, сердце успокоилось, затикало мерно, сонно.
Спи, Иларий. Спи, княжий манус. Пусть течет из-под колес подводы желтая река-дорога. Текут мгновения в золотую чашу минуты, а из нее – в червонный кубок часа, а из кубка – в круговой ковш, которым обносит солнце белый свет. Успеешь испить. А сейчас спи.
И Иларий спал, послушный шепоту морока. Моталась из стороны в сторону темноволосая голова. Шуршали по песку копыта лошадей.
А дорога текла. Текла, становясь все уже. Из широкого тракта в ленту-одноколейку, из нее – в тропку-ручеек, едва разглядишь. Разве что трава не так высока.
Лошадка упрямилась. Не желала сходить с удобного пути. А вот вороной Вражко жадно вглядывался в лесную чащу. Сколько раз скакали они с хозяином, не разбирая дороги. Сколько укрывались в лесах. Читал Вражко звериные тропы, как манус в девичьих глазах. А потому не видел беды в заросшей дороге. Едут нечасто, и все крестьянские лошадки. А от них лихого Вражко не ждал. Сколько останавливался княжий маг у деревенских, кормили досыта и господина, и коня. Как родных привечали.
Лошадка доверилась повесе-вороному, шагнула с дороги в траву. Агнешка погладила ее по крепкой шее.
– Уже скоро, милая, – утешила шепотом. – Уж и до дома недалеко.
«А коли дома нет? – шепнула в ушко Агнешке тревога. – Вон, в Вечорках. Была хороша, так дали лекарке дом, а чуть струхнули – и спалили со всем скарбом».
– Успокойся, девочка, – утешала надежда. – Дом на отшибе, почти в лесу. С деревенскими ты не ссорилась – ушла тихо, чужого не взяла. С чего им с красным петухом заигрывать?
«А если видел кто, как ты матушку хоронила?» – не унималась тревога.
– Не видел, – испуганно ответила ей сама Агнешка, – не видел. И дом цел. А в нем и стены помогут…
Глава 16
Сколько ни скитайся по белу свету, ни смотри на другую жизнь, сколько ни вей гнезд по чужим овинам, а рано или поздно потянет, позовет к себе земля, на которой родился. Давно звала она Тадеуша, но разве мог оставить он свою Эленьку. Другое дело теперь – с такими новостями возвращаться легко.
Что-то батюшка скажет?
Ничего не сказал. Вышел на крыльцо. Сгреб в охапку, обнял, потрепал по русым волосам. Притиснул к широкой груди так, что не вздохнуть. Словно и не было четырех с лишним лет в чужой стороне, при чужом дворе в обучении.
Постарел отец. И в бороде уж больше белого. И в глазах усталость. Только руки крепки – грех на годы жаловаться.
Тадеуш потер плечо. Крепко обнимал князь-батюшка Войцех Дальнегатчинский. Да и братец Лешек не отстает, мнет, как лесной медведь, силой балуется от радости.
Молчат отец и братья – обнимаются, за руки держатся, в глаза смотрят, ни единого слова промеж них не сказано. После будут слова, после новости, рассказы, а где-где, под чарку вина – и россказни. А пока надо бы хоть насмотреться друг на друга, привыкнуть к переменам.
Внимательно глядел князь Войцех на сына, все спрашивая себя, верно ли сделал, что послал мальчика к Казимежу, старому лису? Не зря ли разделил Лешека с братом? А может, права была княгиня, покойный свет, и любовь да родная земля учат лучше чужой мудрости, а батюшкино слово верней дядькиной палки? Дома и стены помогают…
«Нет, прав был, – радостно думалось Войцеху. – Сто раз прав и сто первый. Уезжал мамкин сын, ушастый баловень. Воротился молодец, дай бог каждому отцу такого».
Тадеуш глядел на отца и брата и с тайной радостью думал: «Что скажут, как новость узнают?..» Ведь Лешеку невесту прочили, а счастье выпало ему, Тадеку. Ему отдала свое сердце бяломястовна Эльжбета. И Казимеж с ним прощался тепло, едва ли сыном не называл.
Авось поймет, обидится бестолковый сынок, да от обиды и поумнеет.
В лесу, впереди, виднелся белый Элькин сарафан. Рядом – пестрая душегрейка няньки. Эльжбета и рада была броситься со всех ног к матери, да охромевшая наставница мертвой хваткой вцепилась в ее руку, ковыляла, сжав зубы.
Агата улыбнулась вымученно, успокаивая обеих. Мол, миновала беда, стороной прошла. Хотела махнуть рукой, да не пошевельнула и пальцем. Пусть видит сын, что матушка не на шутку грозна, а то ведь и не поймет, какой беды избежал – отмахнется: жив – и ладно.
Ветер шуршал листвой подлеска, собирал невидимой щепотью семена с метелок травы. Тепло светилась река, шептала в камнях на заплеске. Резко, задорно, как ярмарочные глиняные свистульки, чиркали, вскрикивали звонкими голосами птицы.
И во всем этом летнем гаме была тишина. Благословенная тишина, какая бывает после грозы. Пронеслась беда, и ветер засыпает ее след пылью, песком, семенами трав. И в этой тишине дышится легче, глубже, радостнее.
Вдох! – и раскроется грудь, наполнится светом, птичьим щебетом…
Крик.
Не окрик бедового сынка, молодого княжича, с повинной головой бредущего за матерью вымолить прощение и заступничество от отцовского гнева.
Крик смертельно раненного зверя. Крик страха и такой боли, что раскалывает надвое самую суть, разделяет огненной вспышкой разум и страдающее тело.
Агата обернулась.
Якубек все так же лежал на земле, силясь подняться. А над ним переливалась как слюдяное блюдце, дрожала радужная топь. Словно кот, лениво играющий со встрепанным мышонком, Погибель отпустила было, отошла. А едва поуспокоилось сердце, стихла тревога, так распахнула Безносая радужный глаз, ухватила невидимым когтем, впилась. Тянет, пьет колдовскую силу.
– Отпусти! – крикнула княгиня, от самого нутра взвыла. – Отпусти, окаянная!
И словно услышало семицветное око, моргнуло раз, другой. Недобро моргнуло, сыто. Набухло, созрело гнойной матовой прозеленью.
Крик.
Якуб рухнул на траву, а око, вздувшееся шаром, заколыхалось над ним и лопнуло, плюнуло огнем прямо в лицо своей жертве.
Глава 15
– Да что же это?
Раны – голое мясо.
Глянула – и глаза сами собой зажмурились, отказались смотреть.
Нет, нет, нет. Не может этого быть. Не должно. Не допустит Земля-заступница такого страдания ни для кого из своих детей.
Хотя… К чему лукавить – не перед кем-то, перед собой, и то трудно признать правду, взглянуть в пестрые глаза Безносой. Одна она и печется о людях: как бы не зажились, лишнего дня счастья не ухватили. А Земля выродила, да и оставила у Погибели на крыльце. Пригляди, мол, сестрица…
Мясо. Красное, бурое, сизое, почти черное с прозеленью гноя.
Агнешка почувствовала, как от запаха гнилой плоти тошнота подступила к горлу. Лекарка бросила на траву горсть пропитавшихся гноем тряпок. Подложила под руки Илария чистое полотенце.
Сжалившись над своей жертвой, морок не отпускал молодого мага, страшная боль едва пробивалась сквозь панцирь колдовского сна. И в те минуты манус стонал так жалобно, что Агнешка искренне, от всего сердца желала такой же муки громиле-палачу. Чем бы ни провинился перед разбойником-палочником красавец маг, а все не заслужил такой кары.
– Руки спасу – и ему жить.
Агнешка осторожно развернула правую ладонь мага. Подхватила двумя пальцами толстую белую личинку-опарыша. Положила на самый край раны, на темную гниющую плоть. Опарыш замер на мгновение, настороженно сжался уродливой каплей речного жемчуга. Но запах манил. По белому тельцу прошла дрожь. Опарыш принялся за дело.
Покуда первый маленький лекарь с азартом вгрызался в омертвевшую плоть, Агнешка, уже щепотью, положила на рану еще нескольких. А потом усадила добрых полтора десятка на другую ладонь. Жемчужинки зароились, торопясь насытиться, и рана на глазах стала алеть. Открывалось под слоем мертвого живое, жаждущее жизни.
Опарыши копошились, резво очищая раны. И видно, зазевался морок, уж не первый день караулящий у изголовья пленника-мага, засмотрелся на спорую работу жадных жемчужин – ослабил на миг колдовские путы. Ресницы Илария дрогнули, губы приоткрылись, и уже не стон – слабый крик сорвался с них. Жалобно, страдая за хозяина, заржал Вражко.
Агнешка тотчас засуетилась, зашуршала юбками. Извлекла из складок пузырек, приложила к приоткрывшимся губам. Рано еще было просыпаться манусу. Не вынести черноволосому красавцу такой боли. Зеленая капля потекла по губам, нырнула внутрь. Спохватился зевака-морок, стянул паволоки так, что дыхание мага выровнялось, сердце успокоилось, затикало мерно, сонно.
Спи, Иларий. Спи, княжий манус. Пусть течет из-под колес подводы желтая река-дорога. Текут мгновения в золотую чашу минуты, а из нее – в червонный кубок часа, а из кубка – в круговой ковш, которым обносит солнце белый свет. Успеешь испить. А сейчас спи.
И Иларий спал, послушный шепоту морока. Моталась из стороны в сторону темноволосая голова. Шуршали по песку копыта лошадей.
А дорога текла. Текла, становясь все уже. Из широкого тракта в ленту-одноколейку, из нее – в тропку-ручеек, едва разглядишь. Разве что трава не так высока.
Лошадка упрямилась. Не желала сходить с удобного пути. А вот вороной Вражко жадно вглядывался в лесную чащу. Сколько раз скакали они с хозяином, не разбирая дороги. Сколько укрывались в лесах. Читал Вражко звериные тропы, как манус в девичьих глазах. А потому не видел беды в заросшей дороге. Едут нечасто, и все крестьянские лошадки. А от них лихого Вражко не ждал. Сколько останавливался княжий маг у деревенских, кормили досыта и господина, и коня. Как родных привечали.
Лошадка доверилась повесе-вороному, шагнула с дороги в траву. Агнешка погладила ее по крепкой шее.
– Уже скоро, милая, – утешила шепотом. – Уж и до дома недалеко.
«А коли дома нет? – шепнула в ушко Агнешке тревога. – Вон, в Вечорках. Была хороша, так дали лекарке дом, а чуть струхнули – и спалили со всем скарбом».
– Успокойся, девочка, – утешала надежда. – Дом на отшибе, почти в лесу. С деревенскими ты не ссорилась – ушла тихо, чужого не взяла. С чего им с красным петухом заигрывать?
«А если видел кто, как ты матушку хоронила?» – не унималась тревога.
– Не видел, – испуганно ответила ей сама Агнешка, – не видел. И дом цел. А в нем и стены помогут…
Глава 16
Сколько ни скитайся по белу свету, ни смотри на другую жизнь, сколько ни вей гнезд по чужим овинам, а рано или поздно потянет, позовет к себе земля, на которой родился. Давно звала она Тадеуша, но разве мог оставить он свою Эленьку. Другое дело теперь – с такими новостями возвращаться легко.
Что-то батюшка скажет?
Ничего не сказал. Вышел на крыльцо. Сгреб в охапку, обнял, потрепал по русым волосам. Притиснул к широкой груди так, что не вздохнуть. Словно и не было четырех с лишним лет в чужой стороне, при чужом дворе в обучении.
Постарел отец. И в бороде уж больше белого. И в глазах усталость. Только руки крепки – грех на годы жаловаться.
Тадеуш потер плечо. Крепко обнимал князь-батюшка Войцех Дальнегатчинский. Да и братец Лешек не отстает, мнет, как лесной медведь, силой балуется от радости.
Молчат отец и братья – обнимаются, за руки держатся, в глаза смотрят, ни единого слова промеж них не сказано. После будут слова, после новости, рассказы, а где-где, под чарку вина – и россказни. А пока надо бы хоть насмотреться друг на друга, привыкнуть к переменам.
Внимательно глядел князь Войцех на сына, все спрашивая себя, верно ли сделал, что послал мальчика к Казимежу, старому лису? Не зря ли разделил Лешека с братом? А может, права была княгиня, покойный свет, и любовь да родная земля учат лучше чужой мудрости, а батюшкино слово верней дядькиной палки? Дома и стены помогают…
«Нет, прав был, – радостно думалось Войцеху. – Сто раз прав и сто первый. Уезжал мамкин сын, ушастый баловень. Воротился молодец, дай бог каждому отцу такого».
Тадеуш глядел на отца и брата и с тайной радостью думал: «Что скажут, как новость узнают?..» Ведь Лешеку невесту прочили, а счастье выпало ему, Тадеку. Ему отдала свое сердце бяломястовна Эльжбета. И Казимеж с ним прощался тепло, едва ли сыном не называл.