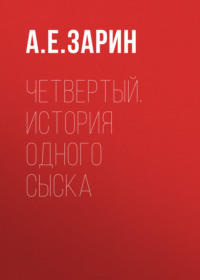Кровавый пир
Лукоперов побледнел:
– Ой, уходить надо! А что в грамоте‑то?
– Да не знаю я. За попом сходить надо! Ей, Федька, позови отца Андрея. Да не мешкотно!
Отец Андрей был еще молодой человек.
Он учился в Киеве, убежал оттуда, служил дьяконом в Царицыне, а потом пошел в Саратов, поссорившись с попом, да и остался в усадьбе Лукоперова, куда зашел на отдых.
– Нам лишь бы по книгам читал! – сказал Лукоперов. – Службы‑то править нельзя, церкви не ставил, а так утреннюю али вечернюю, акафисты почитаешь
Он вошел, покрестился, поклонился Лукоперовым и спросил:
– Что требуется?
– Да вот, батька, почитай‑ка нам! – сказал Лукоперов.
Поп взял в руки бумагу, быстро просмотрел ее и покачал головою:
– Богомерзкая!
– Да что в ей?
– Прелестное письмо от некоего вора и богоотступника, Стеньки Разина!
– Что! – крикнул нетерпеливо Сергей. Поп откашлялся и начал читать:
– «Ей вы, холопы да кабальные люди, голь кабацкая да посадские горькие, иду я до вас, Степан Тимофеевич, суд и правду чинить над воеводами, да боярами, да дьяками, да приказными, да над всеми начальными людьми, от коих по земле Русской всем теснота и обида…»
Дальше в письме говорилось, что всем холопам будет воля казацкая. Пересчитывались вины боярские. Говорилось, что они царевича Алексея Алексеевича да патриарха Никона извести хотели, а теперь он, Степан Тимофеевич, их на Москву везет и зовет всех подневольных людей подняться ему на помощь.
И чем дальше читал поп грамоту, тем бледнее делались лица Лукоперовых.
– Ну, ин! – закричал Сергей. – Я им покажу! Я с Мухи кожу сниму.
– Пожди, Сережа, подумаем!
– Чего думать? Страху нагнать на них надобно!
В угрюмом молчании прошел у них обед. Слышно было только в тишине, как гудели мухи, носясь стаей по горнице.
– Допрос учинить надо, – сказал наконец Лукоперов.
– Я ужо учиню! – с злой усмешкою ответил Сергей.
Они разошлись по горницам. Сергей ушел в повалушу, а сам в свою опочивальню.
Но заснуть он не мог и беспокойно ворочался с боку на бок. Мерещились ему угрюмые лица холопов, представлялась высокая виселица и припоминался Василий с искаженным злобою лицом.
– С него и все беды пошли, – бормотал он. – Эх, Сережа! Горяч ты, горяч, сынок мой возлюбленный!
Долго он ворочался без сна и наконец не выдержал и поднялся с лавки. «Квасу испить на крылечке», – подумал он и медленно направился к крыльцу.
– Федь!.. – закричал он, выходя на крыльцо, и вдруг замолк и присел от ужаса. Глаза его почти вылезли из орбит, словно кто сдавил ему горло, лицо позеленело и борода затряслась, как лист на осине. Потом он вдруг завизжал нечеловечьим голосом, бросился назад и, не переставая кричать, побежал через другой ход в повалушу к сыну.
И было ему с чего испугаться. На высокой перекладине высокого крыльца качался на веревке труп Ермила…
Сергей вскочил от пронзительного крика отца, а тот вбежал и обессиленный повалился на пол.
– Батюшка, что с тобою? Что приключилось?
– Там… там… – бормотал Лукоперов.
– Что там? На, квасу испей! Да что случилось‑то?
Лукоперов, стуча зубами по краю ковша, отпил квасу и несколько оправился. Сидя на полу, указал рукою на окно и сказал:
– Там… на крыльце… Ермил…
– Ну, что Ермил?..
– Повешенный!
– Что – о? – Сергея охватил в первый раз настоящий страх. – Что ты сказал?
– Повешенный! Это его холопы! Теперь нас будут! Ох! Говорил я, идем в Саратов! Доченька‑то, доченька!
Сергей затрясся:
– А с ней что?
– И не убьют, разбойники.
Сергей сразу оправился. Решимость овладела им. Он опоясался саблей, взял в руки чекан и сказал отцу:
– Полно! Пойдем, что ли!
– Брр!.. – задрожал старик, поднимаясь с полу.
Он боялся идти, но еще страшнее было для него остаться одному. Он поднялся и пошел следом за сыном.
Они вышли на двор. Кругом царила мертвая тишина. Нигде не было видно ни живой души, и только над крыльцом одиноко качался труп удавленного Ермила. Сергей перекрестился и отвернулся.
Твердым шагом он прошел двор и заглянул в холопскую избу. Она была пуста. Он заглянул в другую – то же. Тогда он прошел к общей избе, трапезной и распахнул в нее дверь.
Человек тридцать угрюмо толпились в ее углу, и между ними Еремейка.
– Ей, вы! – зычно крикнул Сергей, и все испуганно вздрогнули и обернулись. Сергей увидел, что это все недужные или еще малолетние для работы. – Где остальные?
– Ушедши! – ответил паренек лет двенадцати.
– Куда?
– А в лес!
– Уйдем! – бормотал Лукоперов.
– Костька, Фролка и Мишка, приведите до меня Первунка и Муху, а вы – батюшке на помогу! Живо! Батюшка, делай сборы! – сказал он отцу.
– Сними того…
– Подите снимите Ермила с веревки, – приказал Сергей.
Гнев бушевал в нем, но он видел, что сейчас он бессилен. «Ужо будет, – думал он, – со стрельцами вернуся».
– Милостивец, – сказал, возвращаясь в избу, Фролка, – они убегли!
– Как?
– Убегли. Изволь сам поглядеть!
Сергей в ярости скрипнул зубами.
– Ты чего здесь, старик! – накинулся он на Еремейку. Тот сверкнул глазами, но сдержался.
– Кабы не я, так, может, и ты бы с батюшкой тоже качался, – сказал он глухо и, прежде чем Сергей опомнился, вышел из избы.
– Оставь их, – заговорил испуганно отец, – давай сбираться лучше. Забирай животы, сынок. Ну их! Еще вернутся!..
Они пошли по конюшням и сараям. Часть экипажей была поломана, и они отыскали только возок да четыре телеги. Из коней осталось только голов пятнадцать самых негодных.
Старик ничего не видел и только торопил с отъездом.
– Милостивцы, пособите! – говорил он своим холопам. – Родимые, не оставьте!
Наташа сидела в своей светелке, охваченная ужасом. Время обедать, а Паша не приходила. Время повечерять, а Паши все нет. Мертвая тишина царила в доме, только раз она услышала какие‑то ужасные вопли.
Они пронеслись, замерли, и снова наступила тишина, тишина ужаса.
Наташа стала звать свою девушку и кричала, пока не устала; а потом в бессилии опустилась на табуретку и задумалась. Неужели ее хотят здесь схоронить? За что? Разве она не любила отца? Брата?.. При этой мысли она вздрогнула. Ей припомнился Василий.
– Вася, милый Вася, – зашептали ее губы. – Выручи меня из злой неволи! Конца ей не вижу. Где ты, сокол мой?
В это время послышался стук в дверь и ласковый голос отца:
– Доченька, Наташенька, отопрись!
Она вскочила на ноги и подбежала к двери:
– Как же отпереться мне, батюшка, ежели ключ у тебя!
– Ахти, Господи! – выкрикнул отец, и снова все смолкло. Наташа упала на колени.
Что такое деется?..
Через несколько минут послышались шаги. Кто‑то остановился у двери, и снова она услышала голос отца.
– Не бойся, Наташенька! Отойди от двери, голубушка!
Наташа послушно отодвинулась, и почти тотчас дверь затряслась под ударами топора.
Раз, раз! Раз, раз! Еще! Еще! Лезвие топора сверкнуло из досок, и дверь открылась Лукоперов бросился к своей дочери и обнял ее:
– Доченька моя милая. Бежать нам надо! Взбунтовались холопы наши! Все убегли и нам грозятся. Скорей, скорей!
Наташа сразу уразумела опасность. Она быстро склала в сундучок несколько вещей, оглядела свою горенку прощальным взором, сняла с изголовья образок, благословение матери, и сказала:
– Идем, батюшка, я готова!
На дворе стояли нагруженные телеги. Шесть холопов вяло возились подле них. Сергей, вооруженный, в шлеме и панцире, сидел на коне.
– Едем! – нетерпеливо окликнул он, когда отец показался с дочерью.
– Сейчас, сейчас!
Он усадил Наташу в возок, сел сам и перекрестился.
– Трогай! – Сергей ударил пятками коня, и телеги, скрипя, выкатились из ворот.
Мрачнее тучи ехал Сергей рядом с возком, и грудь его пылала местью. Ну, думал он, горе вам, холопы! Найдется в Саратове дружина!
Они ехали до самого вечера. Наконец сделали роздых. Лукоперов с грустью посмотрел в сторону своей усадьбы и всплеснул руками.
– Сожгли! – закричал он. Все оглянулись.
К небу поднимался огненный столб, рассыпая искры…
Едва уехали Лукоперовы, как холопы вернулись на усадьбу и с криками радости принялись ее разграблять, хватая все, что попадалось им под руку. Еремейка ходил между ними и торопил.
– Скорей, скорей, ребятушки, неравно помощь они позовут! Не берите много‑то. Добра и там будет!..
Разграбив усадьбу, холопы подожгли ее со всех сторон и под предводительством Еремейки двинулись все в Камышин…
IV
Наступило уже утро, и город Саратов проснулся, когда Лукоперовы проехали надолбы и въехали в посад. Торговые ряды уже открылись, народ сновал взад и вперед. Поезд Лукоперова медленно поднимался по узким улочкам, и Сергей должен был ехать впереди, чтобы разгонять народ. В иное время делали это его стремянные, если даже он один на коне ехал, а теперь он сам за холопа! От этой мысли кровь вскипала в нем, и он злобно махал плетью, расчищая дорогу.
– Ты не больно помахивай! – крикнул на него один посадский, отскакивая от удара.
– Оставь! Его, может, самого холопы‑то нахлестали! – с хохотом сказал ему другой посадский.
– Не бойсь! Им и тут не ох сладко будет! – заметил третий, и они разбежались.
Лукоперовы въехали на свой осадный двор, выстроенный прочно, наподобие острожка. Лукоперов свел дочку в горенку, заказал своим шести холопам да седьмому дворнику беречь боярышню и вместе с сыном тотчас пошел к воеводе.
– В приказной избе воевода‑то – с! – объяснил им воеводский холоп Осип.
Они прошли в приказную избу. Воевода сидел и говорил дьяку:
– Да воеводе симбирскому напиши, может, он какую силишку на помогу пошлет. Пиши: нам со своими людишками умирать впору… Да! Милостивец мой! – воскликнул он, увидя Лукоперова, и тотчас поднялся ему навстречу, раскрыв объятия. – Иван Федорович! Пришел‑таки до нас, пришел! Здравствуй и ты, Сергей Иванович! О тебе думал, хотел посыл делать, а вот и ты! – и он облобызался с обоими.
Дьяк издали поклонился им. Лукоперов уныло потряс бородою.
– Мой грех, мой грех, Кузьма Степанович, что тебя впору не послушался! Слышь, мои холопишки слугу мово верного повесили, чуть нас животов не решили, усадьбу сожгли, сами разбеглись, а мы едва до сюдова добрались!
Воевода качал головою и сочувственно вздыхал:
– О – ох! И не говори! Идет к нам горюшко, шагает. Конец свету близко. Фомушка вон бегает да поет:
Берегите одежонкиИдтить к Боженьке!Ой, пойдем к нему! Близится час наш! Да что это я! – вдруг спохватился он. – У меня‑то делов да делов. Простите, милостивцы! Вы пойдите‑ка в домишко мой, что там‑то увидите. Ой! А я в одночасие и к вам буду! – и он легонько толкнул Лукоперова. Старик с сыном вышли, за ними следом слышался голос воеводы: – Ну, ну, Егорушка, кому еще писать‑то?..
– Видишь, гроза идет, – сказал отец сыну. Сергей тряхнул головою.
– Тут‑то, батюшка, она не страшна. И стены крепкие, и пушки есть, и стрельцов немало!.. Лоб разобьют.
– Ну, ну!
Они вошли в воеводский дом, прошли сени, малую горницу и вошли в большую горницу, внутреннюю, вошли и ахнули. За столом в горнице сидели окрестные саратовские помещики, дворяне да бояре, и среди них Лукоперова соседи Паук и Жиров с двумя сыновьями.
– Иван Федорович, – заговорили они, – давно ли к нам?
– Да нонче, в утро! – ответил он, целуясь со всеми по обычаю. – А вы, милостивцы?
– Я‑то еще третьево дня, – сказал Паук, высокий, сухой старик, с гривою сивых волос на голове, с белою короткою бородою, – едва успел на коня вскочить. Убить хотели холопишки! А Акинфиев долго жить приказал! – окончил он, вздохнув.
– А что?
– Повесили хамы! А с его женкою да дочкою глумились, глумились и зарубили тоже!
Дружный вздох всех сидящих вызвал у Лукоперова на глаза слезы. Он набожно перекрестился.
– Я‑то допрежь всех уехал, – заговорил Жиров. – Кой – што из животов увез, а теперь слышу, сожгли усадьбишку‑то! А у тебя?
Лукоперов снова рассказал свои злоключения, и тут со всех сторон заговорили помещики.
Каждый рассказывал про свою беду, как про исключительную, но везде она сводилась к одному. Взбунтовались холопы. Один успел вовремя убежать, другой опоздал и потерял кто сына, кто жену, кто дочь, а животы свои каждый.
Пока они так беседовали, вошел воевода и завладел беседою.
– Для всех, государи, горе! Общее горе, и теперь нам сообща надоть за царя – батюшку постоять до последнего издыхания. Поговорить о том надобно. Вот што! Нонче ввечеру, государи, и соберемся здеся! Ты, Иван Федорович, где стал?
– А у себя, в осадном дворе!
Воевода затряс головою:
– Не можно это! Там тебе конец будет, а того хуже дочушке твоей. Помилуй, под боком посадские. Они нонче все в сторону гладят, батюшку поджидают.
Лукоперов растерялся:
– Куда же деваться?
– Куда! Да ко мне, милостивец! У меня, слава Те Господи, местов хватит! Вон, все они у меня и с людишками своими, и с бабами. Я вдовый, а принять‑то могу всякого.
– Как же так, Кузьма Степанович!
– Глупство! Вы мне все милостивцами на моем воеводстве были, так мне ли покидать вас!
– Вестимо, Иван Федорович, умирать все на миру будем! – раздались голоса.
Лукоперов растрогался и низко всем поклонился:
– Спасибо тебе, Кузьма Степанович! Вовек не забуду.
– Век – от короток наш! – ответил воевода и сказал: – Не хотите ли, милостивцы, поглядеть, вора иду казнить!
– Какого вора?
– А вот! – Воевода сел, разгладил бороду и рассказал: – Ведомо вам, милостивцы, что разбойник, вор Сенька Разин ноне прелестные письма рассылает со всякими людьми, а те прелестные письма люди эти читают да ими посадских да стрельцов мутят. Слышь, идите, говорит, кто с саблей, кто с ручницею, кто с дубиной на воеводу свово.
– К нашим холопам такая грамотка была! – сказал Лукоперов.
– Ну вот! Пришел это намедни ко мне посадский Кирилка Овсяный да и говорит: «Пришли до Акима, – а Аким этот дворник на осадном дворе у вора – разбойника Васьки Чуксанова, – трое людей с грамоткой и нас, – говорит, – посадских, мутят, срамные речи говорят». «Что же говорят?» – спрашиваю. «А учат, как придет этот Разин, город подпалить, ворота отворить. Степан Тимофеевич, – говорит, – тогда с вами казну всю поделит, а инако всех вас перебьет!«Взял я тута стрельцов с собою да к Акиму на двор. А те трое людишек да Аким увидали и бежать. Я за ними стрельцов. Одного поймали, а других и нет. – Воевода развел руками. – Сгинули! Я конных за надолбы посылал, нет и нет! Не иначе как посадские укрывают. Ну, я которых пытал, в застенке драл. Нет!
– А с тем‑то што?
– Ну, а того пытал крепко: кто да откуда. Молчит, собака! А ноне его и вешаю.
Воевода встал.
– Акимки‑то двор спалить велел, животы его стрельцам отдал, а за голову три рубля обещал. Идемте, милостивцы!
Все поднялись и гурьбою вышли из воеводской избы.
Лишь только они вышли, стрельцы бросились в тюрьму и скоро вывели оттуда высокого белокурого мужчину, одетого в лохмотья, закованного по рукам и ногам. Лицо его было бледно и в страшных язвах от каленого железа, которым его пытали, волосы были спалены и только клочками торчали на бороде и голове, ноги тяжело волочились по земле.
В одно время с ним показался священник.
– Хочешь исповедаться и приобщиться? – спросил воевода.
– Хочу! – ответил преступник.
Воевода дал знак, и его провели в приказную избу. Пока он исповедовался у попа, воевода говорил со своими гостями:
– Кругом воровские приспешники! За каждым блюди! А как усмотришь? Ну? Теперя, думаю, и у стрельцов уши настороже. Намедни приходили за жалованьем. А какое? Допрежь этого по году не брали, а тут подай! Наскреб это я им, а сам думаю: воры! Продадут!
В это время священник вышел из избы, а за ним преступник.
– Кончили? – сказал воевода. – Ну, ведите!
Стрельцы окружили преступника, сзади него стал палач с веревкою в руке. Воевода подал знак, заиграли на трубах, ударили в тулумбасы, и вся процессия двинулась по городу. Народ сбегался и провожал их толпою.
Они через городские ворота вошли в посад и остановились на посадском рынке. Там уже подле ворот в надолбы стояла виселица.
Воевода дал знак, и все остановились. С преступника сбили кандалы. Палач перекинул веревку и надел петлю на шею, слегка стянув ее рукою.
– Православные христиане! – вдруг сиплым голосом заговорил преступник, ослабляя веревку. – Дайте Христа Бога ради винца чарочку! В горле пересохло, ей – ей! А как выпью, веселей будет и на тот свет идти, ей – Богу! И веревка‑то лучше на шее ляжет!
– Тьфу! – плюнул священник. – Богомерзник!
– Ладно, ладно, мил человек! – послышались в толпе голоса.
– А пусть его в последях, – добродушно сказал воевода, и палач приостановился, намотав на руку веревку.
Несколько посадских бросились в кабак и мигом принесли под виселицу кружку вина.
Преступник ухватил обеими руками кружку и хрипло прокричал:
– Много лет здравствовать нашему батюшке Степану Тимофеевичу!
– Не давать! – замахал воевода руками, но тот уже выпил.
– Врешь, воевода! – сказал он, бросая кружку. – Теперь вешай!.. Придет он, наш батюшка! Рассчитается за свово сынка!
– Тяни! – кричал воевода.
Палач уперся ногою в столб виселицы и потянул веревку; несчастный взлетел на воздух, взмахнув судорожно руками, и закачался на виселице. Палач завертел конец веревки вкруг столба и отошел.
Молчание воцарилось на площади.
– Ну, смотрите и вы у меня! – грозно заговорил воевода, обращаясь к толпе. – Вот так собачьей смертью пропадет всякий, кто станет ворам приятствовать! Знаю, – он погрозил палкою, – есть промеж вас изменники, ворам потатчики, ну, да ужо доберусь до них! Всех выведу! По глазам увижу и в застенок пошлю! Идем, государи! – сказал он кротко гостям, и все пошли назад в город.
Лукоперов простился со всеми.
– Смотри, – сказал ему воевода, – переезжай пока до худа ко мне во двор, а ввечеру будем все думу думати!
– Спасибо, Кузьма Степанович!
Лукоперов вернулся, взял дочь и приказал холопам везти добро на воеводский двор.
– Оно, доченька, – говорил он Наташе, – там тебе покойнее будет. И подружки найдутся!
– Мне все равно, батюшка, – равнодушно ответила она, и ей действительно было все равно, так переволновалась она за последние какие‑нибудь два месяца. Отчаянье сменилось надеждою, надежда страхом, беспрерывные волнения, томленье неизвестностью, тоска одиночества так утомили ее душу, что она стала на время как‑то безучастна ко всему окружающему, а старик говорил ей:
– Вон везде смута какая пошла! Холоп на свово господина поднялся, церковь сквернят, государево имя поносят! А твой‑то Васька к ним, к ворам, ушел. Душу человеческую загубил! Плюнь на него, доченька! Вор он, богопротивец, клятвопреступник, государю крамольник!
Наташа вздрагивала, бледнела и ничего не отвечала отцу, а в душе ее слабо поднимался супротивный голос: «Вы его таким сделали!»
Но этого голоса не слыхал Лукоперов и продолжал:
– Так‑то лучше, доченька! Отсидимся от воров, я тебя за князя замуж отдам. Княгинюшкой будешь. Я тебе буду поклоны бить. Молись Богу, дитятко, от вора отбиться!
Воевода для гостей своих новых, отцу и сыну отвел одну горенку, а Наташу поместил в светелке, в терему, особнячком. В терему поселились на это время жена и дочь Жирова, жена Паука, да еще немало дворянских жен и дочерей. К ним в услужение приставил воевода трех посадских девушек. Днем собирались они в общей горнице и коротали время за пяльцами, к ночи расходились по своим светелкам, и ни печали, ни страхи не касались их сердец. Слыхали они, что вор идет, знали, что замутил он их холопов и усадьбы через него спалили, но считали город со стрельцами охраною крепкой и пели свои песни и гуторили свои речи, оглашая терем смехом звонким и раскатистым…
К ужину у воеводы собрались все помещики.
Поставил он перед каждым кубок, на столе выставил бутыли, сулеи да жбаны и начал речь:
– По мне, милостивцы, сухая ложка и рот дерет, без вина слаба голова, без похмелья не быть разуменья. Так ли?
– Ладно говоришь, Кузьма Степанович! – одобрил его Лукоперов, охочий до выпивки. – С пустой головы мало толку!
– Так и выпьем! Поначалу во здравие государя нашего батюшки!
Все дружно выпили и опрокинули свои кубки.
– Много лет ему, батюшке, здравствовать!
– А вторую за одоление врага нашего, вора поганого!
– Ладно говоришь, воевода!
– Ну, а третью за совет да любовь!
Лицо воеводы разгорелось, глаза заискрились. Он расправил усы и бороду и начал:
– Государь – батюшка еще три, почитай, месяца назад писал: жить вам, воеводы, с бережением! А чего беречься, милостивцы, да и как? Людишки воры, стрельцы – налицо!.. А теперь и подошло время.
Он тяжко вздохнул.
– Людей‑то у меня: стрельцов восемь сотен да тридцать четыре пушкаря на двадцать четыре пушки. Теперь опять посадские, про тех с опаскою думать надобно, да ваших холопов сотня, может, наберется. И все!
Он опять вздохнул.
– Написал я теперь в Тамбов и Пензу, в Симбирск и Казань, да думаю, мало с того толку, потому сам от них грамотки получил. Просят людишек. Ха – ха – ха! А я у них! Так и гоняем гонцов! И все же поберечься надобно.
– Стены‑то, воевода, в порядке? – спросил Сергей Лукоперов.
Воевода кивнул ему головою.
– Вот, друже, тебя перво – наперво просить хотел! Человек ты служилый, военный. Пособи мне! Я хоть и был против поляка под Смоленском, да все дело мое было животы оберечь. Дохли мы с голоду, а боя не было. Так ты и помоги!
– Что же? Я государю всегда слуга, – сказал Сергей. – А тебе, воевода, коли что по силам; рад помочь!
– Вот, вот! Я так и смекал, друже. Ты у меня, к примеру, в помощниках будешь. Что укажешь, то сделаю. А Жировы, Иван Митрич да Петр Митрич, тоже в пособниках!
– Рады служить, воевода! – ответили довольным голосом Жировы.
– Иван над посадскими старшим будет, а Петра над холопами да торговым людом, а ты, Сергей, значит, над стрельцами да над всеми. Как, государи мои?
– Да чего же лучше, воевода! – сказал Паук.
– Ладно удумал, воевода! – одобрил Лукоперов.
– Добро, Кузьма Степанович! Как решишь, – заговорили кругом, – дай и нам службишку. Мы все в общей беде служить рады!
Воевода встал и поклонился всем в пояс.
– Спасибо, милостивцы, за ласку! – сказал он и, севши, продолжал: – А службишка всякому найдется! Так вот. Мы, значит, утречком обойдем стены да поглядим, как што.
– Я думаю, воевода, – сказал Сергей, – допрежь всего посад выжечь надоть. Его выжгем, а в городе и запремся.
– Ну, ну! – ответил воевода. – Экой ты горячий. Выжечь успеем, когда вор придет, а пока что подождем!
– Да и жечь опасливо! – заговорили кругом. – Вдруг ветер на город повернет. Тогда что?
– Там видно будет! – решил воевода, заканчивая совет.
– Теперь пить будем, други! До воров еще будет время.
Кубки снова наполнились, и все дружно стали пить, на время забыв об опасности.
Только старик Лукоперов чувствовал себя как‑то неладно, и, странно, каждый раз при мыслях о Стеньке Разине в его уме мелькал образ Василия. Он даже несколько раз испуганно покосился на соседнюю горницу, где тогда драли Василия.
– Боязно, Сережа, – заговорил он, когда они ушли в свою горницу, – сильны воры и вокруг изменники!
– Э, батюшка, – беспечно ответил Сергей, – не попустит Господь торжествовать неправде. Покорит он государю под нози врага и супостата!
– Да, может, не теперь?
– На все воля Божия! Отсидеться очень можно. Только посад надо сжечь!
– Думаешь, можно?
– Можно, батюшка! Я на том крест поцелую, что буду биться до последнего вздоха. Да и другие тож!..
V
Воеводу на другой день узнать нельзя было. Толстый, обрюзглый, неповоротливый, не дурак выпить в компании, охотник поесть до отвалу да спать до обалдения, немного разгильдяй, – он вдруг при сознании опасности обратился в грозного воеводу, готового жизнь положить ради исполнения своего долга. Лицо его стало серьезно и решительно, слова кратки и выразительны, распоряжения толковы.
Увидев Сергея, он ласково кивнул ему головою и сказал:
– Добро, Сергей Иванович, кто рано встает, тому Бог подает. Пойдем.
На дворе его ждало несколько стрельцов – начальников.
– Я, – сказал воевода, – приказал сотельникам придтить, да пятидесятникам, да пушкарскому голове! Нонче Жировых в приказ послал перепись сделать, подьячих в посад услал да в торговые ряды людишек счесть, кои годны. Опять, думаю, лошадей отобрать.
– А стрельцы нешто пешие? – спросил Сергей.
– Не все, а конных‑то всего две сотни. Мало, чай?
– До четырех надо! Всех‑то восемьсот.