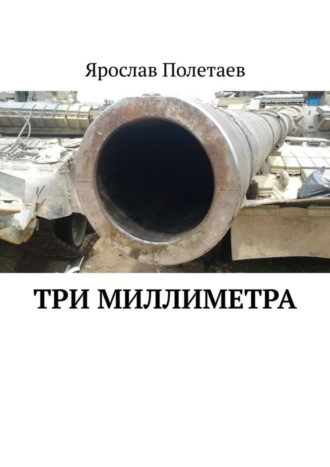
Три миллиметра
В примерно таких обстоятельствах приобреталось образование и понимание военного ремесла новым поколением. Если какие-то знания и усваивались солдатами, то они скорее были получены из многих несвязных обрывков рассказов, по большей части юмористических армейских историй, были почерпнуты в попавшихся случайно под руку военных учебниках, чем приобретены на занятии или в ходе тренировки. Сложно представить эту огромную, созданную ленью и косностью командиров пропасть между настоящим военным специалистом и теми людьми, которые выходили из учебных частей. О существовании этой пропасти знали и раздумывали лишь некоторые, но они не желали, или не считали возможным сделать что-либо для её устранения. А пока что в эту бездонную пучину безграмотности год за годом, поколение за поколением, скатывалась вся военная диаспора со своей наукой, стягивая следом и обороноспособность страны.
Завершением трудового или весьма праздного, но одинаково изматывающего дня был ужин, в ходе которого повторялся базар около столовой, невкусная пища и ругательства последних солдат во взводе, не успевших прикоснуться к еде. Затем рота возвращалась в расположение и, если день прошёл без больших провинностей, солдатам позволялось один час заниматься своими делами. Это свободное время было незначительно, поскольку оно уходило на помывку, чистку обуви и одежды, подшивание и прочие бытовые нужды. Рота рассаживалась на центральном проходе, и сержанты включали телевизор. Курсанты жадно, с удовольствием следили за всем происходящим на экране. Полная общественная изоляция оказывало известное действие, и скоро всё, находящееся за забором и не имеющее камуфляжной окраски стало танкистам казаться необычайно привлекательным и любопытным.
В девять часов вечера начиналась вечерняя поверка, то есть пересчёт личного состава. Оба полка выстраивались на плацу бок о бок, а Куандыков с пехотным полковником живо беседовали, ожидая докладов. После короткого совещания офицеров полки замирали по команде «смирно» и исполняли гимн под спуск флага. Куандыкова и его коллеги к тому моменту уже не было, они исчезали сразу после беседы с офицерами: прыгали в автомобили и на большой скорости уносились вон из части. Подразделения расходились по расположениям, задерживались у подъездов на перекур, если не были наказаны, и принимались готовиться ко сну.
– Рота, отбой! – командовал вскоре мерзким голосом лейтенант Кутузов, год как окончивший танковое училище. Для многих казалось удивительным, что он мог пройти медкомиссию, в частности психиатра, потому что порою его длительные помешательства доходили до предела бессмыслицы.
Кутузов был высокий и статный молодой офицер, не так давно ему стукнуло двадцать три. Он был всегда коротко острижен, с завивающейся в кудри челкой, без малейших признаков бороды или усов. Он жил в офицерском общежитии в полку, совершенно один, проводил досуги за компьютерными играми и кино, выходил в город редко, решительно ничем не интересовался и был вполне доволен собой. Тем не менее, он всегда безупречно выглядел и кое-что знал о танках и тактике, но едва ли об этом можно сказать нечто большее. Хотя он и считался по штату командиром второго взвода, вряд ли ему кто-то доверил более ответственное поручение, чем проводить типовые занятия или руководить отделением солдат. Даже его взводные сержанты Фоменко, Старцев или Логвинов были гораздо способнее его и пользовались большим уважением курсантов. Неприятной особенностью Кутузова, о которой знали и все офицеры полка, были периодические помешательства ума, проявляющиеся в различных бредовых речах и указаниях, а подчас и в буйных душевных всплесках. Как-то раз он вызвал дневального к себе, завидя в канцелярии таракана.
– Он – враг, угрожает безопасности личного состава. Принеси мне его голову! – скомандовал Кутузов дневальному, и тот с округлыми от удивления глазами отправился охотиться на тараканов со штык-ножом. Несколько раз в тот день Кутузов выходил контролировать ход охоты, а вечером принял в качестве отчёта восемь подсохших тараканьих тушек.
– Играем в три скрипа, рота! Если услышу, как вы там возитесь, будем снова подниматься и тренировать отбой! – кричал вечером, прохаживаясь по центральному проходу, Кутузов, остававшийся ответственным офицером в роте.
Солдаты спешно укладывались и замирали, затаив дыхание, не издавая ни звука. Всё же, несмотря на их усилия, старые кровати и пружины скрипели, а Кутузов внимательно прислушивался.
– Раз… Два… – разгуливал он по проходу, считая, и в редчайших случаях он не слышал третьего скрипа и не поднимал роту.
Часто после отбоя Родионов лежал на своей койке возле окна и, если не было опасности попасться сержанту или офицерам, слушал радио в наушниках. Славный, бодрый голос диктора, его пустая болтовня и даже самая примитивная музыка – всё это было подобно дуновению морского бриза в знойный день, так истосковался молодой солдат за короткий срок службы по всему искреннему, человеческому, прекрасному. Это простое радио с его маленькими страстями и несерьёзными проблемами напоминало Михаилу о том уже позабытом, недосягаемом мире, который существует где-то параллельно его нынешнему миру, закрытому, бездушному, раскрашенному в защитные цвета. Михаил рисовал в воображении образы своих гульливых друзей, которые где-то там сейчас, не беспокоясь сильно за него, живут насыщенной и красочной жизнью, бродят по ночам под звёздным небом, напиваются до чёртиков и балагурят, радуясь каждому мгновению. Ему иногда казалось, что он слабый и безвольный человек, потому что он сильно скучал по всему этому, потому что ощущение, что он больше никогда ничего подобного не испытает, висело над ним и пугало. К этим воспоминаниям, мыслям, этому глотку свежего воздуха он стремился каждый день, всё думал и ждал, пока наконец уляжется в постель, закроет глаза, и диктор напомнит ему о том, как было здорово жить.
А пока что он выключал радио и вынимал из ушей наушники, чтоб не уснуть с ними, ведь Дубовиков мог проснуться рано утром и пройти по кубрикам, собирая у спящих курсантов наушники «в урожай». Так Гуреев лишился недавно своих, и затем был вынужден их выкупить у сержанта за несколько шоколадок.
То короткое время, прежде чем сон окончательно одолевал его, Михаил глядел в окно на глубокое тёмное небо, далёкие яркие звёзды. Пытливый пылкий ум никак не давал ему покоя, и Михаил думал тогда обо всём подряд, о многих вещах, в которых ничего не понимал, но очень хотел бы разобраться. Он размышлял о жизни, о времени, о своём месте в этом мире, о месте известного нам мира в бесконечности вселенной. Он смотрел на ослепительную белизну звезды и грустил оттого, что никогда не узнает, что это за звезда, где она находится и что там на ней происходит. Он понимал, что ещё прежде до него эта далёкая звезда светила по ночам, и ею любовались многие люди со всех концов земли. Арабы, азиаты, африканцы и индейцы, все смотрели на неё, и прежде на этой кровати лежал какой-нибудь солдатик и также смотрел на эту звезду, и она смотрела на него, а теперь вот он, Михаил, смотрит. Через десятки лет его не станет, а звезда всё так же равнодушно будет светить загадочным холодным блеском. Он видел сотни таких звёзд даже через одно окно, и приходил в отчаяние. «Какой смысл во всём окружающем, во мне, в том, что делаю, о чём мечтаю, если я такая маленькая и бессильная крупица в огромном мире?» – спрашивал молодой человек, прекрасно понимая, что ответа никогда не будет.
– Можете мне поверить, я знаю тысячи способов вас «задрочить»! – злобно кричал разъярённый Курилов, расхаживая перед строем. Он был как обычно с обнажённым торсом, весь в поту после отжиманий на брусьях и, довольный собой, показывал курсантам огромные двойные бицепсы, тускло поблескивающие в слабом свете казарменных ламп. Девяносто испуганных мальчишек стояли против него неподвижно, затянув ремни и задержав дыхание.
– Я эту школу прошёл, – продолжал Курилов, – ваши офицеры, сержанты прошли, все проходят, и вам предстоит. Это очень хорошо работает, вот увидите. Если солдат не понимает с первого раза, ему ещё раз говорят. Не понимает со второго, третьего раза, тогда уже он поймет только через физические упражнения, так гораздо быстрее доходит. Когда побегаешь по километру каждый раз, поприседаешь, очень быстро схватываешь, что от тебя требуется. Если и так не доходит, конечно, м-да… Это тяжело. Значит солдат совсем тупой, нужно просто вдолбить ему в голову. Все правильно говорю, Логвинов?
– Так точно, товарищ старший сержант! – соглашался Логвинов, проглатывая внезапно возникший комок в горле.
Курилов, следуя собственным представлениям об идеальном военнослужащем, невесть как ненавидел слюнтяев, сопляков и всех подобных, к коим относил и двоих сержантов – Логвинова и Толстова. Он их при каждой встрече дразнил и подначивал, выдумывая без устали какие-нибудь новые изощрённые штуки и словечки. Оба неудавшихся сержанта прекрасно знали, что любое внимание к ним со стороны Курилова означает неприятности.
– А теперь, рота, особенно первый взвод, поскольку вы сегодня отличились, будем заниматься разными увлекательными упражнениями весь оставшийся день, до ужина. Вопросы есть? Башмаков, у тебя есть?
– Никак нет, – слабо отвечал раскрасневшийся Башмаков. У него вновь появились мозоли на ногах, спустя всего пару дней как он отходил неделю в резиновых тапочках и поправился.
– Хорошо, Башмак, молодец! Вижу результат, – говорил Курилов.
Ещё с полминуты он прогуливался вдоль строя, рассматривая новобранцев, широко и хищно улыбаясь. Солдаты стояли перед ним выпрямившись, неподвижно, дабы не вызвать ещё большего его неудовольствия, и только взгляды их бегали быстро-быстро, обращаясь то на Курилова, то на какую-нибудь маловажную часть их казарменной обстановки.
– Рота, газы! – внезапно командовал контрактник, и все девяносто человек устремлялись к полкам со снаряжением.
Кое-как, падая, сбивая друг друга и наступая один на одного, солдаты хватали с полок что попало и неслись обратно в строй, на бегу натягивая противогазы. Сумки, запасные стёкла и фильтры, бирки с именами – всё летело в этом бедламе в разные стороны. Самых медленных бойцов криками и пинками подгоняли всей ротой. Ими были, как и всегда, Андросов из третьего взвода, Башмак из первого. Когда, наконец, они, тяжело дыша, занимали места в строю, Курилов недовольно качал головой.
– Слишком медленно, половина роты погибла! Отбой газы! Противогазы уложить, – командовал он снова, и вся кутерьма возобновлялась. Когда, наконец, противогазы были убраны и уложены, рота снова строилась на проходе.
– Какие же вы медленные! Будь я таким медленным в своё время, мне бы жизни не дали! – кричал Курилов, – А теперь всё с начала и вдвое быстрее! Становись! Рота, газы!
Приятной неожиданностью, конечно, для новобранцев стало отсутствие как таковой злобной и беспощадной дедовщины старослужащих, ко встрече с которой каждый из них готовился. Однако вряд ли кто-то мог предположить, что освободившееся место одних армейских бесчинств обязательно заполнится какими-нибудь новыми. Таким заполнением, как вскоре выяснилось, стало некоторое воздействие на новобранцев физическими и прочими упражнениями, или «воспитание». Это «воспитание» существовало и раньше, в Советской Армии, но настоящую популярность оно обрело лишь в то время, когда армия стала относительно открытой для общественного наблюдения. С некоторых пор средства связи и технического контроля позволили устанавливать и расследовать большую часть проявлений неуставных взаимоотношений, так что после многих печальных случаев осуждения военнослужащих издевательства, побои и унижения стали прекращаться.
Однако «воспитание» получило колоссальное распространение и, может быть, стало проблемой серьёзнее, нежели злобная и страшная дедовщина в прошлом. Изощрённой изобретательности и жестокости многих приёмов и упражнений порою поражались даже сами начальники, применявшие к подчинённым похожие средства. Тем не менее, всё происходящее кое-как вписывалось в рамки устава, иногда это можно было оправдать учебной программой, занятиями, а потому за редкими исключениями командирам всё сходило с рук.
Совершенно обычным и привычным видом изощрений стали приседания, стояния в позиции «полтора», которые представляли собой положение с прямой спиной на полусогнутых ногах, с вытянутыми вперёд руками. Добавкой к этому испытанию зачастую становилась тумбочка, которую солдатам приказывали держать, обняв, или табуретка, удерживаемая на вытянутых руках, затем противогаз и вещмешок с грузом за спиной. Другим видом упражнения являлось стояние в упоре лёжа, отжимания под счёт сержанта, также с прохождением уровня «полтора», с продолжительным стоянием в «полтора». Дополнением к тому мог стать противогаз, от которого дышать становилось ещё тяжелее, от которого часто появлялось чувство тошноты, спертости дыхания, головокружения. Одним из любимых упражнений офицеров на марше, за территорией полка был бег с исполнением команд «воздух», «вспышка». В таких случаях взвод или рота, заслышав команду, бросалась врассыпную с дороги и падала на землю. Большой охотник до «весёлых штучек», лейтенант Кутузов всегда в случае маршей в дождь командовал «вспышку». Он старательно выбирал место погрязнее. Когда новобранцы плюхались в бурую размоченную няшу, пригибая головы, Кутузов проходил между ними и наступал на тех, кто, как ему казалось, не слишком сильно прижимался к земле и мог быть «убит».
– Всё, ты убит! Плохой солдат! Будешь отжиматься в казарме, – так и заключал Кутузов и проходил дальше к другому бойцу.
Всегда любой марш, совершаемый первым взводом с Дубовиковым, включал в себя довольно длительное передвижение гуськом, с выпрыгиванием из этого положения в полный рост и хлопками в ладоши. Это являлось одним из элементов физической подготовки по наставлению, и это упражнение, в общем-то, всегда можно было оправдать перед полковым начальником. У Дубовикова даже имелся любимый участок на пути к танковой директрисе, пролегающий через редкий лес. То была неровная и извилистая широкая песчаная тропа. Она не просматривалась ни с одной из сторон, и это было печальным обстоятельством для курсантов. Под палящим солнцем, в плотных кителях, пробегая километр с тяжелыми ящиками, затем передвигаясь гуськом, новобранцы изнывали от усталости и жары, держались друг за друга, опирались на лопаты, грабли, когда возвращались с хозяйственных работ, и даже ползли на четвереньках, однако это не слишком облегчало их испытания. В такие изнурительные минуты каждый в строю проклинал этого мерзкого сопляка Дубовикова, что шёл рядом и окриками подгонял обессилевших солдат.
– Скажите спасибо Башмаку, это из-за него вы теперь тут ползаете! – твердил Дубовиков, или ещё – Благодарите Кириллова за его длинный язык, пусть меньше болтает!
Старший сержант Курилов, пожалуй, мог заслужить уважение солдат, потому как иногда проявлял спортивный интерес и сам участвовал в тренировках. Раз или два, когда взвод опаздывал на обед, было принято совместное решение устроить забег от директрисы до полка, что составляло порядка шести километров. Курилов всё это время бежал вместе с бойцами, и это весьма впечатлило многих курсантов. Однако этого было недостаточно, чтобы ими забылись все его прежние выходки и ухищрения. Курилов, как уже упоминалось, был старый и опытный служака, и он знал особенно много способов замучить солдата. Во время марша он всего лишь указывал «раненого». Он касался плеча одного из курсантов и говорил: «Назаров ранен в правую ногу», или «Кудряшов потерял обе ноги, но ещё жив, вы должны спасти его». Это означало, что названные больше не способны передвигаться самостоятельно и остальным нужно их нести. Вчетвером или втроём «раненых» поднимали и бежали с ними.
Как бы там ни казалось новобранцам, многие из подобных трудностей всё же шли им на пользу в том смысле, что закаляли и тренировали их характеры, делали менее восприимчивыми к тяготам и неудобствам предстоящей службы. Однако были и другого характера мероприятия, которые не могли оказать никакого положительного эффекта, а только лишь забавляли их зачинщиков. То были типично армейские, рождённые когда-то в условиях непреодолимой скуки и тоски увеселения, в которых шутами и клоунами выступали курсанты. То были ночные развлекательные наказания, которые проводились постоянно Дубовиковым, Фоменко, Старцевым, а чаще всего Мироновым. Последний был сам не свой до ночных игр. Провинившееся отделение, или даже целый третий взвод выстраивался в кубрике после отбоя и вечернего обхода дежурного по полку. Сержант лежал на кровати, отдавал команды, а солдаты приседали, отжимались, пока другие рассказывали истории, анекдоты, ползали под кроватями в противогазах на скорость, держали тумбы, кровати, дули на лампы, «сушили попугайчиков». Последнее представляло собой продолжительное сидение на душке кровати. Бойцы часто засыпали и падали с шумом, бились головой о кровать, табуреты, пол. Тогда сержант просыпался разъярённый и принуждал к ещё более утомительному занятию неудавшегося бойца, или всё его отделение.
Порою имели место совершенно особые наказания. Так, пойманные с едой в расположении вынуждены были поедать оставшееся лакомство, закусывая зубной пастой. Порой вместе с одним попавшимся таким образом наказывали всё его отделение. Забывшим мыльницу в туалете или в бане бойцам сержанты приматывали её скотчем к руке и требовали ходить так несколько дней. То же самое ввиду особого отношения в армии к казённому имуществу происходило с головными уборами. Забытые кепи с явным удовольствием приматывались сержантами к головам бойцов, а забывшие кепи во второй раз после этого всюду ходили в боевых стальных шлемах. В исключительных случаях, когда служба у бойца совсем не задавалась, ему к рукам привязывали шестнадцатикилограммовую гирю, и так он разгуливал всюду: ходил в строю по плацу, мылся в бане, ел кое-как в столовой. Когда какое-либо подразделение встречало такого бойца на улице, ему все дружно аплодировали. Точно так же аплодировали и встреченным в ОЗК бойцам. Эти костюмы изредка служили для занятий по РХБ подготовке и гораздо чаще для наказаний. В условиях летней жары, одетые в плотные кители и данный костюм, бойцы за день худели на несколько килограмм. В отдельные дни, когда полковые начальники отсутствовали в части, по плацу совершались пробежки в ОЗК целыми группами неудавшихся бойцов. Тогда вокруг них собирались зеваки и весело хохотали. Обыкновенно забегами в ОЗК наказывали злостных туалетных курильщиков. Курильщики, которым первые две недели сержанты вообще не давали курить, ставили «фишку» у входа в туалет и быстро курили в окно, но почти всегда сержант входил и чувствовал запах. Потому постоянно Родионов, проснувшись посреди ночи и направляясь в туалет, от неожиданности пугался, завидя троих-четверых бойцов в ОЗК и противогазах. Фоменко или Миронов сидели на табурете здесь же, разъясняя провинившимся свою правду, а бойцы совершали уборку, или приседали с гирями. Когда на следующий день Родионов встречал одного из этих солдат вновь в туалете с сигаретой, он с изумлением спрашивал:
– Неужели тебе не достало вчерашнего опыта?
– Курить хочется, что поделать… Сержантов, кажется, нет в роте, – отвечал тот. Сержанта, конечно, не было в роте в тот момент, но сержант вскоре появлялся, чувствовал запах, и всё повторялось.
Другим средством борьбы с курением была печально известная «трубка мира». Это дьявольское изобретение больного ума являлось простой снятой с кровати железной душкой. В отверстие с одной стороны сержанты вставляли с десяток крепких сигарет «Святой Георгий» и поджигали, а с другой провинившийся боец вдыхал дым. После первой же затяжки почти всем становилось плохо, хотя кое-кто отваживался на три-пять затяжек. После подобного лицо бойца обычно бледнело, его тошнило и рвало целые сутки, а желание курить пропадало на неделю. Первым опробовавшим «трубку мира» стал молодой Прокофьев. Он был уверен в своих силах и задумал ради всеобщего удивления выкурить весь десяток забитых в душку сигарет. Однако его хватило ненадолго, лицо его тогда вмиг приобрело зелёный оттенок, а через пять минут он уже в туалете проклинал весь свет.
Порой Родионов, проходя по казарме, видел, как кто-либо из бойцов стоял у стены, обняв её руками.
– Что ты делаешь? – спрашивал поначалу Родионов.
– Кубрик держу, – отвечали ему.
Башмаков, из Москвы, который был глупым и несносным малым, совсем юным и ничего не понимающим в происходящем, не способным делать выводы из своих проступков и наказаний, встревал чаще остальных. Именно ему выпала честь чистить унитаз зубной щеткой, а в дальнейшем и дрелью с примотанным к ней ёршиком. Для того он протянул удлинитель из коридора в туалет, надел перчатки, а Фоменко откуда-то принёс ему маску сварщика. Посмотреть на то зрелище собралась страшная толпа зевак, а слух об этом разнёсся далеко за пределы полка.
«Формулой один» назывался весьма трудоёмкий аттракцион, в ходе которого выделялись несколько команд, были гонщики и болиды, трассой служил центральный проход, а суть состояла в том, что один боец берёт другого за ноги, становясь пилотом. Тот, которого держат, одевал на руки резиновые солдатские тапки и становился болидом, ему предстояло бежать на руках как можно быстрее, а сзади его подгонял пилот. На другом конце прохода тапочки у «болида» менялись, что называлось «сменой резины», и заезд продолжался. Это зрелище было массовым и настолько абсурдным, что зачастую развлекало даже самих новобранцев, но, как правило, лишь тех, кто не участвовал и наблюдал за ним со своих кроватей.
Лето в том году во Владимирской области стояло жаркое. Ранним утром солнечные лучики озаряли высокие кроны деревьев, прогоняя вместе с ночной мглой и приятную бодрящую прохладу. Уже скоро, к полудню становилось душно, потрескавшийся асфальт раскалялся, и всюду над ним потяжелевший воздух искажался от жара. Всё живое тогда устремлялось к тени, к ещё немного сохранившим прохладу густым лесам, пряталось в кусты, траву, в землю. Лишь невесомый ветерок одиноко блуждал среди нагретых стволов сосен. Этот ветерок был частью знойного пейзажа, он не освежал и только поднимал вверх клубы пыли да жухлую траву. Дождь тогда был редким и скоротечным, лишь несколько раз за лето он становился проливным и занимался на долгие часы. Во все остальные засушливые дни округа выглядела безжизненной, уснувшей.
Подобный летний пейзаж, имеющий своеобразную чарующую красоту и, как бы там ни было, всё же заключающий в себе радостное торжество новой жизни, составлял, однако, громадную разницу с тем настроением, в котором пребывало большинство новобранцев. Печаль и тоска чувствовались всюду. Причиной тому в первую очередь были различные болезни, связанные с новым военным образом жизни и охватившие едва ли не каждого новобранца. Изможденные физически неудобствами армейского быта, недостаточностью питания и сна, издевательствами недалёких командиров, находящиеся в новой обстановке, не сталкивавшиеся прежде с подобными лишениями и строгой дисциплиной, курсанты подвергались колоссальным нагрузкам и как никогда были ослаблены, уязвимы пагубному воздействию внешних сред и заболеваний. Увы, даже искреннего желания и рвения исполнять службу, интереса и увлечённости было недостаточно для того, чтобы превозмочь множество выпавших трудностей. Обвинения офицеров и сержантов, когда-то прошедших через всё то же самое, в отсутствии стойкости и крепости характеров солдат постоянно озвучивались, но всегда были крайне несправедливы. Для всего этого нужна была единственно привычка, разительно простая, суровая, солдатская привычка, которая вырабатывается обязательно у каждого военного, но не иначе как со временем.
Трудно описать все те процессы и превращения, которые происходили в организмах, головах молодых солдат первое время. Они все вызывали заболевания, многочисленные и разнообразные, порою пугающе серьёзные, потому сопровождающиеся эмоциональными всплесками, даже паникой, а в некоторых случаях перетекавшие в хандру. На вторую неделю казарма первой учебной танковой роты так превратилась в подобие госпиталя. Виной всего первоначально была простуда, которая теперь распространялась повсеместно. Новобранцы кашляли и чихали, сопели и отхаркивались, а ночью то становилось невыносимо, поскольку мешало спать всем.
– Дайте уже поспать! – ворчал недовольно Гуреев, укрывая голову подушкой, но спустя несколько дней сам чувствовал недомогание, боли в горле, и начинал кашлять.
Многие курсанты уже к тому времени сильно хромали. Жесткие армейские ботинки с толстой подошвой носить возможно было лишь натерев ими не одну мозоль, когда кожа на проблемных местах становилась грубой и плотной, привыкшей к подобной обуви, либо когда обувь разнашивалась и становилась мягче. До тех пор мозоли были сущим бедствием. За несколько дней они проходили все возможные стадии – от небольшого волдыря до протёртой насквозь до кости раны. Курсанты боролись с тем изо всех сил, подкладывали вату и бинты на кровоточащие мозоли, надевали несколько пар носков, клеили пластыри, но все усилия были тщетны, раны не успевали заживать, а если успевали, то ноги стирались снова до крови. Тому способствовали ежедневные марши до танковой директрисы и стрельбищ, воспитательные забеги и хождение гуськом. В нескольких случаях начинались инфекции, заражения, и тогда новобранца передавали в медицинский пункт полка – МПП. Один такой случай изрядно напугал всех полковых офицеров, а простых бойцов привёл в замешательство. У некоего Р*** в третьем взводе врачи из госпиталя заподозрили гангрену на ноге, а это могло стать роковым случаем для карьеры многих начальников. Р*** тогда немедленно отправили в окружной госпиталь, где за него тут же принялись должным образом тамошние врачи. Ему, по слухам, кололи по шесть уколов в день, давали витамины и разные лекарства. После полуторамесячных процедур боец, утомлённый и сбитый с толку подобным стечением обстоятельств, возвратился в полк, потрясая товарищей рассказами о своём лечении.

