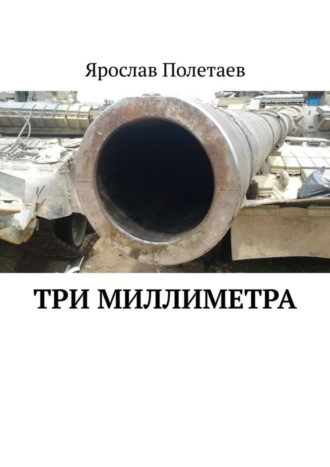
Три миллиметра
Спустя три дня после прибытия первой группы, когда большая часть перемещений солдат внутри роты прекратилась, бойцы в плотном строю впервые оглядели друг друга. Первым взводом, выстроившимся на центральном проходе, занимающим три первых кубрика расположения, руководил тогда один совсем юный младший сержант Дубовиков. Ему было девятнадцать лет, но выглядел он, худой и небольшого роста, вместо щетины с едва различимым пушком на щеках, почти школьником. Округлое лицо, покрытое сплошь веснушками, а также ясные изумрудные глаза придавали ему как будто всегда доброжелательный вид. Он, однако, не был добрым, хотя и улыбался, смеялся постоянно, а был скорее чудовищем в ребячем обличии. Его неизвестную новобранцам сущность поначалу выдавал только его хриплый голос, ещё нотками мальчишеский, но всё же изрядно изломанный частым курением и подступающим взрослением. Дубовиков был родом из Нижнего Новгорода, крайне удобно жил на гражданке без забот и хлопот, любил развлечения и удовольствия и совсем не знал ответственности. В период своей курсовки он по разным причинам изрядно помотался, и теперь, получив в подчинение тридцать неумелых новобранцев, ещё сам юный и неопытный, был зол на весь мир.
Михаил Родионов на своём месте в первом ряду строя едва ли мог хорошо рассмотреть кого-либо, кроме стоящих слева и справа, однако он глянул по сторонам, пока Дубовиков увлечённо разъяснял какие-то армейские истины. Будучи от природы наблюдательным, в той степени разумеется, в какой это возможно для молодого человека, далёкого от всех серьёзных вещей, Михаил с радостью подметил, что большей частью его сослуживцы – такие же безобидные добродушные пройдохи, как и он сам. Многие из них растерянно плутали взглядом, только лишь стараясь делать это незаметно для сержанта, вовсе не слушали, а кто-то даже шептался с товарищем. Один человек тогда обратил на себя сразу внимание Михаила – то был смуглый крепкий юноша двадцати трёх лет, такой же черноволосый и черноглазый, как сам Родионов. Невысокий, плотный, сутулый, с большим уродливым шрамом на виске и грубыми, резкими скулами, неподвижный в строю, он походил на статую какого-нибудь сказочного очеловеченного хищного зверя. Родионов осторожно заглянул ему в глаза и встретил, к своему великому удивлению, самый добродушный и отзывчивый взгляд. Звали незнакомца Кирилл Масленников, и он оказался недавно отучившимся аспирантом из Москвы, уже успевшим поработать какое-то время в университете на кафедре и добровольно отправившимся служить. Чуть позже в этот день, когда у них выдалась свободная минута, Родионов появился рядом и уверенно протянул ему руку.
– Привет, я Миша, будем знакомы, – невнятно процедил он и внимательно прислушался, ожидая ответа.
Масленников крепко пожал ему руку, представился, и спросил сначала одно, потом другое, потом что-то ещё. Разговор пошёл непринуждённо, сам собой, а через каких-то полчаса молодые люди общались уже как старые приятели, подшучивали друг над другом и делились секретами из былой гражданской жизни.
Родионов не думал тогда и, должно, не смог бы понять, что так расположило его к Масленникову, а было это не что иное, как выдающиеся личностные качества этого человека. Большой трезвый ум и зрелость, рассудительность отличали его от крикливой гурьбы молодёжи, с которой он попал в призыв, и даже от немногих старших новобранцев, к примеру, от бывшего следователя Журавлёва, которому стукнуло двадцать пять. Масленников был смел, справедлив и честен. Он не боялся говорить правду или высказывать своё мнение сержантам или офицерам, пусть оно и шло вразрез с их точкой зрения, не чинил зла и обиды никому, пусть даже тот этого заслуживал, не укрывался в толпе, если был в чём-либо виноват. В нём развились и соединились те качества человека и отношения мужчины к службе, Родине, семье, людям, жизни, которые Родионов считал наиболее правильными, ценил и жаждал когда-нибудь развить в себе.
– Ты зачем служить пошёл? – спрашивал позже Масленников в одной из бесед.
– Надоело мне всё там, не понимаю ничего. Всё шло у меня не так, как нужно. Товарищ один рассказал, что армия это отличная возможность подумать, разобраться в себе… – откровенно отвечал ему Родионов.
– И чего ж, ты пришёл сюда подумать, и только?
– Нет, конечно. Интересно было военное дело тоже, научиться чему-нибудь, это ведь может однажды оказаться важным? Да и потом проверить себя, всё думал – смогу ли?
– Сможешь, тут все смогут. Годами у всех получалось, значит и у нас получится, – спокойно проговаривал Масленников истины, открывшиеся ему, вероятно, уже давно.
Были и ещё люди, с которыми Родионов вскоре завёл знакомство и подружился. То были многие из его отделения, как Порсев, невероятной силы, но не слишком крепкого духа атлет, Кирсанов, безобидный и остроумный весельчак, Гуреев, вечно жаловавшийся на судьбу, но хороший и надёжный товарищ, Белов, который по неопытности своей согласился стать компьютерщиком роты, Башмаков, глуповатый неумеха, считающийся наказанием всего взвода, а также Прокофьев, вот-вот окончивший школу перед службой, циничный и хитрый юноша, но, тем не менее, ставший приятелем Родионову. В других отделениях Родионов подружился с Сименченко, горбатым черноволосым молодым человеком, который на гражданке, будучи ещё школьником, работал на кладбище, за что здесь получил от сержантов прозвище Гробовщик, Сотниковым, славным малым, что все невзгоды встречал терпеливо, с улыбкой, Кудряшовым, насколько невысоким, настолько же добродушным, лишь изредка ругающимся на выходки сержантов, Кормилицыным, поразительно спокойным, получившим прозвища Каспер, Прозрачный за свой тихий нрав и совершенную незаметность для окружающих. Были и другие новобранцы, такие как Журавлёв, Скачков, Кириллов, Шариков, Метельков, Вишняченко, Скорев, Нефёдов, Назаров и ещё некоторые, с которыми Родионов тоже был знаком. Все во взводе прекрасно знали друг друга, потому что ежеминутно они подразделением, как одно целое, ходили, ели, спали, познавали военную службу. Вскоре они так привыкли друг к другу, что отсутствие одного в строю товарищи тут же замечали. Через определённое время, когда пришла нелёгкая пора, многие подружились, разделяя большие трудности и маленькие радости, а ещё позже, когда оказались пройденными значительные испытания, ребята стали относиться друг к другу по-братски и называться семьёй.
Первая неделя после прибытия новобранцев целиком ушла на то, чтобы ознакомиться с порядками и правилами армейской службы, части, подразделения. Молодые солдаты учились правильно ходить, стоять, строиться, надевать и укладывать форму, подшиваться, рапортовать и ещё многим азам службы. То был самый чувствительный для многих период, когда всё яркое и эмоциональное из гражданской жизни становится воспоминанием, а действительностью оказывается скупая и строгая военная обстановка, где кровати заправлены у всех одинаково и на каждой двери вывешена красная табличка. В это время напрочь забываются имена окружающих и даже собственное, остаются только звания и фамилии, обыкновенная речь превращается в сухую служебную, вгоняется в рамки устава, всё поведение и даже мышление новобранцев меняется, становится сдержанным и более взвешенным.
С самых первых минут появления молодых солдат в ковровском полку офицеры, сержанты, все окружающие и даже сама обстановка внушали новобранцам некоторую важную мысль: не позволяется ни под каким предлогом сомневаться в престиже и разумности командиров, перечить им и не выполнять их требования. В определённый момент командир батальона капитан Молотов – здоровенный двухметровый детина – даже заявил, что все непослушные бойцы будут наказаны по дисциплинарному уставу. В его грубой речи промелькнули слова «дисбат», «губа» и прочие, порой пугающие своим смыслом и бывалых вояк, а ничего не знающих о военной службе новобранцев повергшие в истинный ужас. Построенных для знакомства в первый день сержантов представляли молодым бойцам как ближайших наставников на последующие четыре месяца, все их приказы и команды должны были соблюдаться неукоснительно, перечить им нельзя было ни при каких обстоятельствах, а неподчинение грозило самыми крайними мерами. Обращаться к сержантам, несмотря на их юный возраст, следовало на «вы», с приставкой воинского звания, и никак иначе. Любая их команда, какой бы безрассудной она ни была, должна была исполняться мгновенно и с полной отдачей. Всё это многократно разъяснялось и повторялось в течение нескольких недель, подобный уклад поддерживался строжайшим образом контролем офицеров, так очень скоро эти правила устоялись в головах молодых людей как справедливые и единственно верные.
В первую неделю службы пришло и самое скверное ощущение, которое, к тому же, не покидало новоприбывших ещё долго – полного отсутствия свободы. У молодых солдат её вовсе не было, каждый делал лишь то, что ему приказывали: ходил, стоял, слушал, спал, ел. Запрещалось самостоятельно выходить за дверь казармы, а тем более за забор, за территорию полка. Даже в туалет солдаты ходили, когда им давали разрешение. Так называемый свободный час с восьми до девяти вечера довольно редко действительно оказывался свободным, да и он уходил на подготовку к следующему дню. Всё остальное время курсантов чем-либо занимали: они выполняли то одно, то другое, с самого подъёма и до отбоя, а все окружающие их начальники как будто сговаривались не давать им ни минуты покоя. Иногда, после очередного утомительного дня ложась в кровать, Гуреев заводил уже привычную речь:
– Я вот смотрю на эти ограждения, забор в колонии, и думаю, что мы не слишком то отличаемся от этих заключенных, а может, они и посвободнее будут. Только вот называют по-разному. Мы тут вроде военнослужащие, Родине служим, едим, спим, ходим туда-сюда, а они всё точно так же, только они зеки, и наказание отбывают. Кроме этого и различий мало.
– Их кормят лучше, вот главное различие. Если бы знал заранее, то уж, наверное, зеком стал бы, – говорил Кирсанов, переворачиваясь с бока на бок.
Никто не соглашался с ними, но и не отрицал их суждений. Каждый только быстрее укладывался, чтобы не терять драгоценного времени сна, чтобы ещё несколько минут, прежде чем уснуть, подумать о чём-то своём. Лишь это и считали они свободным временем.
Ненавистная и ужасающая команда «Рота подъём!» звучала каждый день ровно в шесть тридцать утра. Михаилу, да и остальным обычно казалось, что ночь куда-то бесследно исчезает, будто её вообще и нет, хотя о ней говорится в распорядке дня, а значит, вероятно, она есть. Едва стоило молодым уставшим солдатам закрыть глаза после отбоя, они проваливались в пучину коротких, неясных сновидений, но тут же слышали крик дневального, и новый день начинался. Разбитые, всё ещё уставшие, бойцы вскакивали с постелей, откидывали одеяла на душки кроватей и бросались одеваться на центральном проходе. Таков был порядок – от них требовалось схватить свой табурет, выбежать с ним на проход и там одеваться. Гуреев извечно ругался, Кирсанов веселился сам и смешил остальных, все спешили, застёгивали невпопад пуговицы, наступали друг на друга и падали. Дежурный по роте обычно объявлял форму одежды, и почти всегда летом это была только нижняя часть формы, для пробежки с обнаженным торсом. Рота должна была построиться за минуту, а ответственный офицер, или все остальные офицеры роты, прибывшие на утреннюю зарядку, отсчитывали время.
– Рота! – порой кричал разъярённый старший сержант Курилов, и тогда все в проходе замирали, ожидая новой команды.
Курилов представлял собой выразительный пример военнослужащего старых правил. Он был низкого роста и огромной силы, недурен собой и безупречно ухожен. В своё время Курилов отслужил срочную службу два года как раз в этом полку, но только в пехоте, затем уволился, однако не нашёл себя в гражданской жизни. Через некоторое время он вернулся в полк на контракт. Курилов любил физические упражнения, испытания тела, воли и духа, а если быть точным – некую выдуманную им самим молодецкую удаль, богатырскую силу и выносливость, и совершенно искренне хотел привить эту любовь солдатам. Он, однако, был по своим умственным способностям не в состоянии этого сделать и тем более понять, что многое в жизни человека восходит к его детскому воспитанию. Курилов был уверен, что всё нынешнее поколение военнослужащих – лишь выхолощенные слабаки, ни на что не способные, и служат мало. В течение одного года, он считал, они не могут подвергнуться положенным испытаниям и стать хорошими бойцами, стойкими, мужественными, способными в нужный момент выстоять и победить врага. Так рассуждая и зачастую находя подтверждение своим мыслям, он убеждался в том больше и больше, а потому спустя некоторое время стал с презрением относиться почти ко всем солдатам.
– Отбой! – продолжал Курилов, разгуливая по расположению с обнажённым торсом, играя мощными бронзовыми мускулами, и тогда вся рота бросалась раздеваться и укладываться обратно в кровати. Гуреев ругался пуще прежнего, а Кирсанов смеялся и всё его подначивал.
Курилов кричал, подгоняя самых нерасторопных пинками:
– Гляжу, вы никуда не торопитесь, макаки! Советую пошевелиться, а не то будете у меня отбиваться до обеда!
Подобные упражнения, или воспитание, как многие это называли, продолжались обыкновенно три-четыре раза, но порою затягивались. Офицеры накануне вечером давали указание сержантам разбудить личный состав в шесть и полчаса «тренировать подъём». Сержанты-срочники, в своё время страдавшие от тех же самых измывательств, получив подобный приказ, поутру охотно принимались за дело. Видя, как негодуют молодые, получая столько же неприятностей, сколько и они прежде, сержанты с ликованием воспринимали эту странную справедливость.
Через три минуты после подъёма, как правило, подразделение уже совершало утреннюю пробежку, которая могла быть несколькими показными кругами по плацу во главе с офицерами, а могла быть и трёхкилометровым забегом за пределами полка. Пробежка по плацу, как правило, происходила в командирский день – понедельник, когда офицеры всячески показывали своё рвение и желание заниматься зарядкой. Разумеется, в любой другой день ни одного из них в седьмом часу утра здесь было не сыскать. Лейтенант Бабенко, командир третьего взвода, единственный очень любил пробежки за территорией и совершал их охотно во главе всей роты. В минуты подобных пробежек солдаты увлеченно глядели по сторонам, очарованные красотами просыпающегося хвойного леса, ровным строем высоких сосен и извилистыми просеками, усыпанными еловыми иголками. Восхищаясь совершенной тишиной природы, вдыхая свежий утренний воздух, они успокаивались и вдохновлялись, замечая, что есть в мире, и совсем рядом, много всего прекрасного, светлого и радостного, отличного от однообразной армейской жизни.
Лейтенант Бабенко был высоким, худощавым офицером двадцати восьми лет, но выглядел он гораздо старше, редко кто давал ему меньше сорока. Его когда-то пышные рыжие волосы ему очень шли, но теперь он почти полностью облысел. Обыкновенно с щетиной, раскрасневшимися глазами, волчьим оскалом, он производил впечатление обозлённого на судьбу и глубоко несчастного человека. Голос его был низким, сиплым, а речи всегда пресыщены руганью.
– Вы меня послушайте, что я скажу, – говорил он как-то в первые дни перед строем – вот вы думаете, приехали сюда зря, армия – «залупа», целый год здесь напрягаться. Но я вас уверяю, пройдут год, два, пять, десять, и вы многое забудете… Забудете, как в молодости первый раз по лицу получили, как первый раз нажрались, как первый раз девку «мацали»… Всё это уйдёт, и не вспомните. А вот армию, как вы тут «дрочились» – никогда не забудете! Будете помнить до старости. И всех, кто с вами был, тоже будете всю жизнь помнить. И друзей здесь найдёте на всю жизнь, и ещё станете скучать по этому времени. Я вам говорю это, потому что у самого так было!
В отношении к солдатам Бабенко всегда был строг и требователен, в особенности к своему взводу; он неустанно повторял заученные истины, которые им следует усвоить, и даже порой пытался обучать их военным предметам. Как-то раз он приказал вытащить из кладовой танковый прицел, рассадил роту на проходе и стал увлечённо объяснять назначение кнопок и механизмов прицела. Его обступили, внимательно слушая и засыпая вопросами. К сожалению Михаила и остальных, наконец хотя немного посвященных в доселе неизведанный мир танковой науки и потому действительно заинтересовавшихся уроком, Бабенко вскоре перешёл от танков к армейским философско-бытовым вопросам, которые всему предпочитал. К ещё большему сожалению курсантов то занятие оказалось всего лишь стихийным порывом устремлений старого лейтенанта и стало едва ли не первым и последним в своём роде.
По возвращении в роту после пробежки новобранцы спешили заправить койки, умыться и приготовиться к завтраку. В таких случаях в небольшой солдатский туалет набивалась вся рота – девяносто человек, стараясь успеть умыться и почистить зубы. На всех здесь назначалось двадцать умывальников, из которых работало обыкновенно не более половины. Это создавало настоящую свалку и неразбериху: бойцы расталкивали друг друга, пробиваясь к рабочему крану, чтобы зачерпнуть немного воды в ладони. Очень скоро так Родионов и ещё многие другие солдаты стали просыпаться за час до подъёма и шли умываться, бриться, подшиваться, а затем спокойно досыпали своё, уже не заботясь ни о чём.
В семь утра рота обыкновенно уже стояла возле столовой. На завтрак отводилось полчаса, но этого не хватало, потому что всегда здесь выстраивалась длинная очередь из подразделений. Для солдат это место стало неким подобием курилки, когда они ненадолго предоставлялись самим себе.
– Есть только две вещи у солдата, которые ему принадлежат в действительности – это его сон и обед! Помните это, ребята, – делился рассуждениями Шариков.
– Шарик, ты чего нас вообще учишь, сам-то неделю в армии! – смеялись все кругом.
Первые ряды подразделений перед столовой обыкновенно стояли спокойно и тихо, потому как дежурный по полку находился тут же, но дальше в глубине строя уже не было никакой видимой дисциплины. Разговоры здесь, не превышая допустимого уровня шума, не прекращались и велись между курсантами разных взводов, рот, даже полков. Здесь происходила всевозможная торговля, бартер, заключались соглашения, заводились знакомства и распространялись слухи. Родионов, как и все прочие, использовал эту возможность расслабиться и почувствовать, будто бы он, как и прежде, простой парень, болтающий на улице с друзьями. Как бы там ни было, а его влечение к военному делу всё более ослабевало с очередным скучным днём, и, прежде настроенный на строгое соблюдение всех правил и устава, он всё чаще находил удовольствие в простых солдатских дурачествах.
Наконец из столовой выходило подразделение и становилось в стороне, дежурный по полку, поглядывая за дисциплиной, делая замечания разнузданным солдатам и их начальникам, командовал входить следующей роте, и тогда его голос звучал как музыка для проголодавшихся новобранцев. Снимая на ходу мокрые от пота и грязные кепки, курсанты с радостью устремлялись в столовую, в то самое место, где ещё какие-то минуты были только их, и больше ничьими. Радость эта, однако, довольно быстро исчезала, поскольку пища там едва ли была вкусной, хотя так и могло иногда казаться, и, разумеется, она была вовсе не такой, какой ей полагается быть по всяческим установленным нормам.
– Снова эта дрянная баланда! Сейчас бы яишенку с беконом или колбасками… – ругался обычно Кириллов за столом, незаметно протестуя и размазывая странного вида кашу по тарелке. Все были с ним согласны и молча кивали, не отвлекаясь, однако, на разговоры. В любую минуту короткий завтрак мог закончиться.
– Не трави душу, у меня после наших завтраков в животе сверлит. Надо, думаю, попасть в «чепок», – отвечал один только Прокофьев.
– Что, как? Деньги есть? – тут же кто-нибудь за столом, или даже за соседним, вступал в их разговор.
– А мне ещё больше есть хочется после завтрака. Когда в животе и нет ничего, то понятно, а как закидал неизвестных харчей, только раздразнил, так и хуже, – говорил большой и плотного сложения Нефёдов. Ему все особенно сочувствовали, потому что каждый прошедший день уносил с собой его килограммы, а вместе с ними и его впечатляющую физическую силу.
Завтрак в полку состоял всегда из какой-нибудь скверной каши, пряника или печенья и чашки чая. Иногда чай заменялся неким подобием какао, которое заваривалось на воде и имело лишь слабый привкус шоколада. Грубые некрасивые женщины из посёлка, обслуживающие столовую, не шли ни на какие уговоры и не накладывали больше положенного, а только ругались в ответ на подобные просьбы. Солдаты рассаживались и тут же приступали к еде. Сержанты, имея возможность в любой момент сходить в полковой магазин и пообедать там, не слишком интересовались питанием в столовой. Они неспешно съедали пряник, запивая чаем, наблюдали за тем, как жадно новобранцы справляются с пустой пищей, и очень скоро поднимали взвода. Происходили иногда совершенно нелепые случаи, когда первые бойцы во взводе доедали, а последние только садились завтракать. Тем не менее, звучала команда, и все поднимались с мест. Те, кто не успевал, доедали на ходу, пока шли сдавать посуду, закидывая пищу в рот целыми ложками и глотая, не жуя.
После завтрака первый взвод уходил, не ожидая остальных. Рота собиралась в казарме или на плацу. В подразделении солдаты брали все необходимое для нового дня, занятий, а затем шли на утреннее построение. Танковый полк строился несколько позже пехотного. Командир танкистов подполковник Куандыков прибывал всегда вовремя, ни минутой позже, и любил громкое приветствие. Сержанты и офицеры знали об этом, поэтому заставляли солдат кричать изо всех сил. Утреннее построение могло длиться от пятнадцати минут до часа, после этого подразделения расходились по занятиям.
Это должны были быть действительно занятия по разным предметам, по своему замыслу превращающие недавних студентов и лодырей в настоящих военных специалистов. На первом этапе была строевая и общественно-государственная подготовка, затем медицинская, инженерная, радиационно-химическая, а ещё позже огневая и тактическая. Часть подготовки должна была подковать солдата нравственно – взрастить в нём любовь и уважение к своей родине, напомнить ему уроки истории, убедить его в ценности того, что он защищает. Другие части обучали военному делу – оказывать первую помощь, транспортировать раненых и прочему, разбираться в минно-взрывном деле, правильно обустраивать окопы и блиндажи, преодолевать инженерные заграждения и препятствия. Ещё часть подготовки посвящалась радиационной защите, обращению с химическими элементами, обнаружению и противодействию химическим угрозам. На тактической и огневой подготовке солдат собирались учить правилам общевойскового боя, тактике действий мотопехотных и затем танковых подразделений в составах роты, взвода, отделения, тройки, различиям тактики при обороне и наступлении, познакомить с вооружением и порядками различных иностранных армий, обучить основам баллистики, стрельбы и обращения с различными видами вооружений.
Не стоит говорить, что подобная программа подготовки обширна и невероятно сложна, в особенности из-за того, что она должна осваиваться людьми, прежде не занятыми в военном деле и в самый короткий срок. Более того, она подразумевает глубокое понимание её значения, необходимости её изучения, а это понимание, пожалуй, невозможно привить и объяснить, к нему можно прийти лишь самостоятельно, со временем или с опытом. Однако не менее важным обстоятельством во всём обучении является широкое и полное знание предмета преподавателями. И если некоторые новобранцы вполне осознавали важность приобретаемых ими знаний, имели некоторые способности и даже как-то стремились к обучению, то преподаватели в свою очередь полностью проигрывали эту партию. Вместо первоклассных офицеров-наставников, коими должны становиться служаки в военных академиях, полк располагал юными, ничего не осознающими лейтенантами, вышедшими неделю назад из училища, либо старыми матёрыми офицерами-карьеристами, не заинтересованными ни в чём, кроме того только, чтобы служба была наименее обременительна. Сержантский состав, которому зачастую приходилось вести занятия, состоял из единственного контрактника Курилова, что по науке был страшно глуп, хотя и в чём-то опытен, а также из полугодичников, в своё время претерпевших то же самое гадкое обращение и неумелое обучение. Курилов пару раз в яростном воодушевлении бросался учить танкистов пехотной тактике, напрягая память, но очень скоро ему это надоедало, и он заговаривал о славных былых временах своей срочной службы, когда люди были сильнее, солнце ярче, а трава зеленее. Младшие сержанты, ленивые, уставшие, считающие только время до увольнения и наполнявшие службу насколько это возможно развлечениями, не были способны чему-либо обучить курсантов, да и не стали бы ввиду своей беспечности. Подходящим проявлением безграмотности и недалёкости офицеров стали постоянные пропуски занятий вообще. В начале дня только лишь создав видимость учебной деятельности для старших начальников, после одной-двух проверок из штаба полка, о которых заранее кто-либо по-товарищески предупреждал, командиры рот отдавали приказы возвращаться из учебного корпуса в расположения и приниматься за хозяйственные работы.

