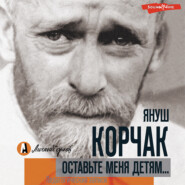По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда я снова стану маленьким
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И из книжки не всё узнаешь. Учитель должен ещё раз сам рассказать всё, что ему известно о моржах, о снеге, об оленях, о северном сиянии. А кое-что и повторить. Потому что ребята от волнения не всё слышали.
Для учителя это четвёртый урок, четвёртый час работы в школе, а для класса – вести из далёкого края от дорогих людей. И учитель устал, и мы – только по-разному. И вот нарастает раздражение. С него довольно, а мы хотим ещё!
Учитель почти рассердился. Грозится, что в наказание никогда больше ничего не станет читать.
Никогда!
На минуту стало тише, хотя никто не поверил. Если бы он сказал «всю неделю», а то – никогда. А какой-то дурак начинает паясничать!
– Э, нет, господин учитель не такой злой! Они дураки, что орут, но ребята хорошие!
Как будто и заступается, но сразу видно, что хочет учителя из себя вывести, чтобы скандал вышел. И учитель раскричался. Всегда один такой найдётся. Или ему ни до чего дела нет, и он даже не любит, когда урок интересный, потому что тогда в классе должно быть тихо – ведь все слушают. Или просто назло будет мешать, потому что ему как раз в это время что-то не понравилось.
Учитель уже смотрит, кого бы выгнать из класса, уже взглянул на часы, потому что хочет, чтобы поскорее всё это кончилось. И всем становится неприятно. Даже сам учитель жалеет, что всё так получилось, потому что знает, что слушали его хорошо. И он сдерживается, выдавливает из себя улыбку и говорит:
– Ну, ты там, оратор, повтори, о чём я читал.
Начинается обычный урок: учитель спрашивает, а класс ни бе ни ме. И учитель думает, что мы ничего не знаем, просто глупые ребятишки.
Когда я был большим, чем ближе меня что-нибудь касалось, тем легче мне было об этом говорить. А у детей, как видно, иначе. Если тебя что-нибудь очень волнует, то отвечать трудно, хотя бы ты даже и знал. Дети как будто стыдятся, что скажут не так, как чувствуют.
Урок кончился скучно, и только на переменке мы по-настоящему разговорились об эскимосах. Один запомнил одно, другой – другое. И ребята ссорятся:
– Так учитель читал.
– Неправда!
– Ты, может, проворонил, когда читали?
– Сам ты проворонил!
Призывают свидетелей.
– Правда, учитель читал, что окна делают изо льда?
– Правда, ведь тюлень – рыба?
– Ну ладно, спросим учителя!
Наверное, каждый, как и я, задумался в каком-нибудь месте и потом уже не мог догнать. Поэтому каждый помнит что-нибудь своё. И только весь класс вместе знает всё.
Теперь ребята будут играть в эскимосов где-нибудь на лестнице или во дворе и расскажут о них тем, кто не был на уроке, и ещё от себя добавят, чтобы было веселее.
Домой я возвращался с Манеком.
Улица мне теперь кажется необычайно интересной. Всё интересно: и трамваи, и собака, и проходящий мимо солдат, и магазины, и вывески на магазинах. Всё новое, незнакомое, словно только что окрашенное. Не то что незнакомое, потому что я ведь знаю, что это трамвай, но мне ещё хочется знать, чётный у него номер или нечётный.
– Давай отгадывать, какой будет первый трамвай – чётный или нечётный и меньше или больше сотни?
Солдат – значит, надо посмотреть, какие у него нашивки: пехотинец он или артиллерист.
Мастер возится с телефоном, рабочие чинят канализацию. Ну как не остановиться – может, случится что-нибудь интересное.
Обо всём приходят в голову новые мысли.
Мы встретили много собак. А одна облизала нос языком.
– Собакам не нужно носовых платков, они нос языком облизывают.
Я стараюсь дотянуться языком до носа.
Манек советует:
– Ты нос пальцем прижми.
Я говорю:
– Пальцем – это не фокус.
А он:
– А ты попробуй.
Мимо проходит женщина и говорит:
– Вот глупые, языки повысовывали.
Нам становится стыдно: мы ведь совсем забыли, что мимо люди идут и смотрят.
Если бы эта женщина знала, о чём мы разговариваем, она бы не удивилась, потому что ведь это была проверка, обязательно ли людям нужны носовые платки, насколько длиннее язык у собаки и каково человеку без носа. Мы хотели всё это испробовать, а тому, кто не слышал нашего разговора, кажется, что мы дураки.
Однажды, когда я был ещё взрослым, я спешил на поезд. А тут ветер поднялся и пыль прямо в лицо. Не знаю, чемодан ли держать или шляпу или лицо заслонять. Я злюсь, спешу, боюсь опоздать, потому что ещё билет купить нужно, а перед кассой может быть давка.
А тут ребята задом наперёд бегут – трое их было. Хохочут, рады, что ветер их подталкивает. Тоже, видно, что-то проверяли. А один мне прямо под ноги. Я хотел посторониться, а он за чемодан зацепился. Я на него прикрикнул – с ума, мол, он, что ли, сошёл, людям мешает. Но ведь и я ему помешал. Кто их там знает, во что они играли, что выдумали! Может быть, он был воздушным шаром или кораблём, а мой чемодан – подводной скалой. Для меня ветер – неприятность, для него – радость!
Когда я был маленьким в первый раз, я любил ходить по улице с закрытыми глазами. Скажу себе: «Пройду десять шагов с закрытыми глазами». А если улица пустая, закрою глаза на двадцать шагов и ни за что раньше не раскрою. Сначала иду быстро, большими шагами, а потом медленнее, осторожнее. Не всегда это удавалось. Один раз я свалился в канаву. Тогда ещё в канавах вода текла; это теперь канализация – каналы и трубы в земле. Так вот, я попал в канаву и вывихнул ногу – целую неделю болела. Дома я ничего не сказал, зачем говорить, если всё равно не поймут?! Скажут, что по улице надо ходить с открытыми глазами. Каждый это и так знает, но один-то раз можно попробовать.
В другой раз я треснулся лбом о фонарь и набил себе шишку; хорошо ещё, что в шапке был. Если хоть один шаг пойдёт вкривь, то меняется всё направление и тогда уж обязательно или на фонарь налетишь, или на прохожего. Когда на кого-нибудь налетишь, то один только отодвинется и ничего не скажет или пошутит весело, а другой как зверь набросится:
– Ослеп, что ли, не видишь?
И так свирепо посмотрит, словно готов тебя съесть.
Однажды – я тогда был уже большим мальчиком, лет пятнадцать мне было, – иду, а две девчушки догоняют одна другую, боком как-то бегут и прямо на меня. Посторониться было уже поздно, я наклонился, расставил руки – они так боком ко мне и влетели. Глядят испуганно. У одной глаза голубые, у другой – чёрные, смеющиеся. Я минутку попридержал их, чтобы не потерять равновесие. Одна крикнула: «Ой!», а другая сказала: «Простите». Я говорю: «Пожалуйста». И девчушки выпорхнули. Отбежали, оглянулись и смеются. А одна налетела на какую-то даму. И та её так толкнула, что девочка пошатнулась. Грубо так.
Ведь нужны же на свете дети – такие, как они есть.
Я говорю:
Для учителя это четвёртый урок, четвёртый час работы в школе, а для класса – вести из далёкого края от дорогих людей. И учитель устал, и мы – только по-разному. И вот нарастает раздражение. С него довольно, а мы хотим ещё!
Учитель почти рассердился. Грозится, что в наказание никогда больше ничего не станет читать.
Никогда!
На минуту стало тише, хотя никто не поверил. Если бы он сказал «всю неделю», а то – никогда. А какой-то дурак начинает паясничать!
– Э, нет, господин учитель не такой злой! Они дураки, что орут, но ребята хорошие!
Как будто и заступается, но сразу видно, что хочет учителя из себя вывести, чтобы скандал вышел. И учитель раскричался. Всегда один такой найдётся. Или ему ни до чего дела нет, и он даже не любит, когда урок интересный, потому что тогда в классе должно быть тихо – ведь все слушают. Или просто назло будет мешать, потому что ему как раз в это время что-то не понравилось.
Учитель уже смотрит, кого бы выгнать из класса, уже взглянул на часы, потому что хочет, чтобы поскорее всё это кончилось. И всем становится неприятно. Даже сам учитель жалеет, что всё так получилось, потому что знает, что слушали его хорошо. И он сдерживается, выдавливает из себя улыбку и говорит:
– Ну, ты там, оратор, повтори, о чём я читал.
Начинается обычный урок: учитель спрашивает, а класс ни бе ни ме. И учитель думает, что мы ничего не знаем, просто глупые ребятишки.
Когда я был большим, чем ближе меня что-нибудь касалось, тем легче мне было об этом говорить. А у детей, как видно, иначе. Если тебя что-нибудь очень волнует, то отвечать трудно, хотя бы ты даже и знал. Дети как будто стыдятся, что скажут не так, как чувствуют.
Урок кончился скучно, и только на переменке мы по-настоящему разговорились об эскимосах. Один запомнил одно, другой – другое. И ребята ссорятся:
– Так учитель читал.
– Неправда!
– Ты, может, проворонил, когда читали?
– Сам ты проворонил!
Призывают свидетелей.
– Правда, учитель читал, что окна делают изо льда?
– Правда, ведь тюлень – рыба?
– Ну ладно, спросим учителя!
Наверное, каждый, как и я, задумался в каком-нибудь месте и потом уже не мог догнать. Поэтому каждый помнит что-нибудь своё. И только весь класс вместе знает всё.
Теперь ребята будут играть в эскимосов где-нибудь на лестнице или во дворе и расскажут о них тем, кто не был на уроке, и ещё от себя добавят, чтобы было веселее.
Домой я возвращался с Манеком.
Улица мне теперь кажется необычайно интересной. Всё интересно: и трамваи, и собака, и проходящий мимо солдат, и магазины, и вывески на магазинах. Всё новое, незнакомое, словно только что окрашенное. Не то что незнакомое, потому что я ведь знаю, что это трамвай, но мне ещё хочется знать, чётный у него номер или нечётный.
– Давай отгадывать, какой будет первый трамвай – чётный или нечётный и меньше или больше сотни?
Солдат – значит, надо посмотреть, какие у него нашивки: пехотинец он или артиллерист.
Мастер возится с телефоном, рабочие чинят канализацию. Ну как не остановиться – может, случится что-нибудь интересное.
Обо всём приходят в голову новые мысли.
Мы встретили много собак. А одна облизала нос языком.
– Собакам не нужно носовых платков, они нос языком облизывают.
Я стараюсь дотянуться языком до носа.
Манек советует:
– Ты нос пальцем прижми.
Я говорю:
– Пальцем – это не фокус.
А он:
– А ты попробуй.
Мимо проходит женщина и говорит:
– Вот глупые, языки повысовывали.
Нам становится стыдно: мы ведь совсем забыли, что мимо люди идут и смотрят.
Если бы эта женщина знала, о чём мы разговариваем, она бы не удивилась, потому что ведь это была проверка, обязательно ли людям нужны носовые платки, насколько длиннее язык у собаки и каково человеку без носа. Мы хотели всё это испробовать, а тому, кто не слышал нашего разговора, кажется, что мы дураки.
Однажды, когда я был ещё взрослым, я спешил на поезд. А тут ветер поднялся и пыль прямо в лицо. Не знаю, чемодан ли держать или шляпу или лицо заслонять. Я злюсь, спешу, боюсь опоздать, потому что ещё билет купить нужно, а перед кассой может быть давка.
А тут ребята задом наперёд бегут – трое их было. Хохочут, рады, что ветер их подталкивает. Тоже, видно, что-то проверяли. А один мне прямо под ноги. Я хотел посторониться, а он за чемодан зацепился. Я на него прикрикнул – с ума, мол, он, что ли, сошёл, людям мешает. Но ведь и я ему помешал. Кто их там знает, во что они играли, что выдумали! Может быть, он был воздушным шаром или кораблём, а мой чемодан – подводной скалой. Для меня ветер – неприятность, для него – радость!
Когда я был маленьким в первый раз, я любил ходить по улице с закрытыми глазами. Скажу себе: «Пройду десять шагов с закрытыми глазами». А если улица пустая, закрою глаза на двадцать шагов и ни за что раньше не раскрою. Сначала иду быстро, большими шагами, а потом медленнее, осторожнее. Не всегда это удавалось. Один раз я свалился в канаву. Тогда ещё в канавах вода текла; это теперь канализация – каналы и трубы в земле. Так вот, я попал в канаву и вывихнул ногу – целую неделю болела. Дома я ничего не сказал, зачем говорить, если всё равно не поймут?! Скажут, что по улице надо ходить с открытыми глазами. Каждый это и так знает, но один-то раз можно попробовать.
В другой раз я треснулся лбом о фонарь и набил себе шишку; хорошо ещё, что в шапке был. Если хоть один шаг пойдёт вкривь, то меняется всё направление и тогда уж обязательно или на фонарь налетишь, или на прохожего. Когда на кого-нибудь налетишь, то один только отодвинется и ничего не скажет или пошутит весело, а другой как зверь набросится:
– Ослеп, что ли, не видишь?
И так свирепо посмотрит, словно готов тебя съесть.
Однажды – я тогда был уже большим мальчиком, лет пятнадцать мне было, – иду, а две девчушки догоняют одна другую, боком как-то бегут и прямо на меня. Посторониться было уже поздно, я наклонился, расставил руки – они так боком ко мне и влетели. Глядят испуганно. У одной глаза голубые, у другой – чёрные, смеющиеся. Я минутку попридержал их, чтобы не потерять равновесие. Одна крикнула: «Ой!», а другая сказала: «Простите». Я говорю: «Пожалуйста». И девчушки выпорхнули. Отбежали, оглянулись и смеются. А одна налетела на какую-то даму. И та её так толкнула, что девочка пошатнулась. Грубо так.
Ведь нужны же на свете дети – такие, как они есть.
Я говорю: