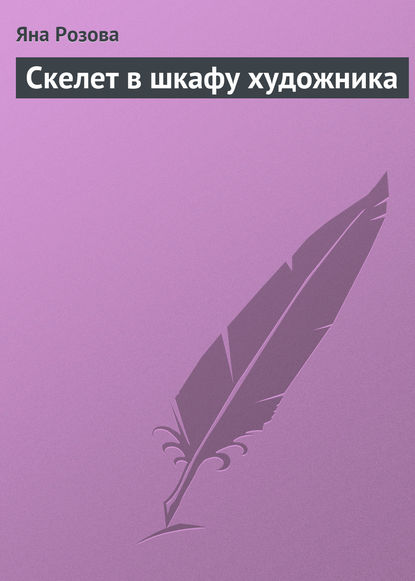По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скелет в шкафу художника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Полечить» – поняла я.
– Но завтра я приеду. Есть еще кое-что в твоей истории болезни, что надо обсудить. Все же я думаю, что прав в отношении твоих мотивов. Это все вина.
Он встал.
– До завтра, Варенька.
– До завтра, Евгений Семенович. Простите, что вызвала столь неприятные воспоминания.
Он ушел. Я спокойно, очень спокойно оделась в черный кожаный костюм, накрасила лицо, превратившись в загорелую шатенку со злыми татарскими глазами, достала парик – черное каре. Сегодня день мести.
Глава 11
В «Арт-салоне» сегодня было людно. Народ крутился в основном в зале художника Багрова. Я отметила это с огромным удовольствием. Но прошла мимо – в кабинет директора салона Михаила Ижевского.
Ему повезло, он оказался один в кабинете, когда я ворвалась туда, не потрудившись выслушать секретаршу и с треском захлопнув за собой дверь. Увидев элегантного тюленя, я буквально зарычала, бросилась вперед, запрыгнула на длинный стол для заседаний, прошла по нему в полный рост, наблюдая за переменами в лице своей жертвы, и опустилась на колени перед ним на письменном столе.
– Скотина, ты хоть знаешь, что убил мою мать?
Не дожидаясь ответа, схватила его за жидкий чуб и с размаху приложила лбом об столешницу:
– Тварь, сейчас ты сдохнешь!
И, не отпуская его волосы, наклонилась к нему и повторила, шипя как гюрза:
– Сейчас ты сдохнешь!
– Варя, мне больно! – Он не очень вырывался, хотя руки его были свободны, и я ожидала более активного сопротивления. – Варя, детка, не надо, отпусти. Я не знаю, о чем ты говоришь!
– О моей маме, Рите Садковой! Ты видел ее накануне смерти и наговорил гадостей. Она пошла домой и…
– Варенька, Варюша! Я не видел твою маму много лет и, даже если встречал, не говорил с ней! Пойми, мы были не в тех отношениях, чтобы разговаривать! Ну отпусти, больно же!
– Значит, – я отпустила его волосы, – значит, ты подтолкнул ее к самоубийству одним своим видом!
– Нет. – Он вздохнул с облегчением и пересчитал свои жидкие волосенки и, убедившись, что все они на месте, сосредоточился на сумасшедшей посетительнице. – Нет, не подтолкнул. Я был за границей, в Бельгии, на выставке современного поп-арта. Я хорошо помню, что, когда приехал домой, Костров был в трауре.
– Не ты? – я еще не верила ему. – А кто?
Вообще-то вопрос был только риторический, но Ижевский понял его буквально.
– Кто? Да хоть кто! А почему я?
– Костров сказал, что мама встретила кого-то из партийных функционеров!
– Так не я один такой! – обрадовался Ижевский. – И слезь со стола, кто-то вдруг зайдет!
Я лишь устроилась поудобнее на прежнем месте.
– Предложи сначала правдоподобную версию.
– Та-ак, – он думал, пощипывая себя за кончик носа. – Вот! Слушай! Был еще парень, работал со мной одно время. Как раз тогда Рита написала свою «Одалиску».
«Одалиска» – это был портрет восточной женщины. Она лежала обнаженная на турецком ковре, томно улыбаясь. Натурщицей была мамина подруга, красавица Магинур. Я ее не помнила, она умерла, когда я была совсем маленькой, но на портрете Магинур была великолепна. Нет смысла воспроизводить обвинения, посыпавшиеся в адрес художницы Садковой со стороны всех этих прытких молодых Ижевских!
– Со мной работал, – продолжал Михаил, – молодой совсем парень. Он тоже был художник и даже вполне способный, но карьеру сделал не на своих работах, а на умении пробиваться, топя других. Садкова представляла для него серьезную угрозу. Она явно лучше рисовала и уже имела в послужном списке одну персональную выставку. Еще немного, и стала бы членом Союза художников, поехала бы за границу, ну и всякое такое! Вот он и постарался: сообщил об этой «Одалиске» куда следует и под каким надо соусом. Раздул целое дело об аморальном облике молодого живописца. Организовал целую кампанию – нравственность в советской живописи. Сплошной праздник для ханжей. Бедная Рита!
– Но если ты соврал, то будешь тоже бедный! Берегись!
– Нет, не соврал.
– А как его зовут?
– Да он и сейчас еще что-то пишет. Я выставил в прошлом году его пейзаж, и картину купили. Конечно, ему теперь место со своей жалкой мазней в городском парке, где лубками торгуют, но он жив вполне…
– Имя!
– Вениамин Стеклов!
Я не слезла со стола, я упала с него! Не фига себе поворотик!
– Ладно, Михаил Ильич, простите вы меня, не сдержалась.
Он усмехнулся и ответил:
– Ну, в тебе всегда было многовато экспрессии. С такой горячей кровью нелегко жить. Эмоции небось душат?
– Ну извинилась же!
– Прощаю, иди… Все-таки мама… Эй, – он спохватился, потирая ушибленный лоб, – ты глупости-то не делай!
Я обернулась от двери:
– Глупости – это мое второе имя!
И вышла, на этот раз притворив за собой дверь вполне мирным образом.
Глава 12
Через час передо мной распахнулась дверь Стекловской ночлежки. На пороге стояла Люся. Увидев меня, она открыла рот и выпучила глаза, надеясь напугать соперницу своей решимостью, но за моей спиной стояли два крепких орешка, и она живо поняла, что перевес на моей стороне.
– Что надо? – спросила она.
Я отодвинула Люсю с дороги и отступила назад.
– Ребята, заноси!
Парни подхватили драгоценный груз и двинулись в глубь комнаты. Там они поставили три ящика водки на пол и удалились. Вошедшая Люся, увидев такое богатство, потеряла дар речи. Мрачный и опухший Стеклов, лежавший до этого на сальном диване, поднялся и обалдело произнес: