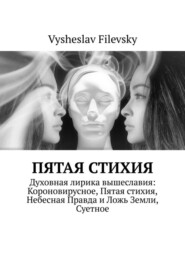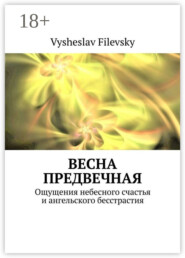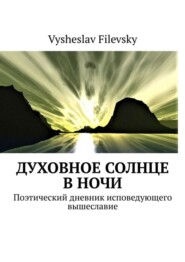По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Странная эмиграция
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нетерпение схлынуло ниже пояса. И уже равнодушно, так, на всякий случай Прохор Терентьевич надорвал бумагу.
То, что открылось ему, заставило заколотиться сердце: в пакете оказались пятитысячные денежные знаки, стянутые банковскими ленточками… Рот наполнился слюной, а голова сразу задурела от страха…
Только чуть-чуть поворачивая голову вправо и влево и до отказа скашивая назад глаза, Прохор Терентьевич старался понять, видел ли его кто-нибудь…
Да нет. Всё было спокойно…
«Дворничиха!»… Мысль о ней будто прострелила мозг. Дрожа от страха, Прохор Терентьевич вытащил из кармана куртки грязноватый пластиковый пакет. Он всегда держал его там на случай неожиданной находки на улице, так сказать, продовольственного сертификата. Опустил туда пачку с деньгами и не спеша, как ни в чём не бывало, посвистывая даже, пошёл куда глаза глядят…
Внутренности Прохора Терентьевича, как ему казалось, дрожали. Челюсть подёргивалась вполне явно, и нижние зубы постукивали о съёмный протез. Мысли метались по черепной коробке, как загнанная мышь…
Однажды Прохор Терентьевич заметил мышь, забравшуюся в сервант. Злорадствуя, подкрался и быстро задвинул стекло… А потом, подбоченясь, от души смеялся над очумевшим животным…
«Вот оно, воздаяние-то мне», – мелькнуло в голове. – И Прохор Терентьевич, раскаявшись только сейчас, всем сердцем попросил прощения у мыши… А тогда…
Он злобно приговорил мышь к голодной смерти и пошёл на кухню чай пить. Но, проведав её через полчаса, пришёл в совершенное изумление, увидев, что мышь отгрызла уже значительную часть стенки серванта, и освобождение её было делом только краткого времени… Конечно, какую обстановку мог купить обычный человек, кроме как из дерево-стружечной плиты? А она мыши была нипочём… Крякнув, незадавшийся убийца выпустил животное…
Теперь же мышь как будто простила его. Потому что Прохор Терентьевич почувствовал прилив покоя и усталости. И даже будто узрел образ её духовный средь облак… Большой такой пребольшой и сероватый с грустными чёрными глазами…
Не решаясь всё же пойти домой, Прохор Терентьевич сел в метро и долго крутился по кольцевой линии, пока не уснул…
– Гражданин!.. Гражданин! —
Чей-то резкий голос неприятной окраски бесцеремонно тревожил его. Затем Прохора Терентьевича взяли за грудки и затрясли… Он очухался:
– А?.. Чё?..
– Куда следуете? —
Открыв глаза, Прохор Терентьевич увидел два упитанных нескромных лица в полицейских картузах, которых назвать добрыми было едва ли возможным. «Да что же это, ни поссать, ни поспать», – возмутился про себя он.
– Домой, – брякнул Прохор Терентьевич первое, что пришло в голову.
– Где проживаете?
– В Клювино.
– Это далеко. Здесь зачем? —
«Да какое вам на хрен дело?!» – Это про себя. И вслух:
– Сестру навещал.
– Почему спите в транспорте? Документы есть? —
Прохор Терентьевич вытащил социальную карту:
– Ночью вот плохо спал, а сейчас сморило. Помилосердствуйте…
– Ладно, – примирительно сказал сержант, сверив фото с помятым зеркалом души Прохора Терентьевича. – Не проспите вашу остановку. —
Хозяева жизни ушли, подозрительно озирая прочих пассажиров. И, набросившись на какого-то азиата, забыли напрочь о старике с грязным пакетом.
В голове Прохора Терентьевича свирепствовало кружение и биение слов друг о друга. Будто она была барабаном, вертящемся при жеребьёвке. И буквы на каждом шаре неизменно складывались в неприличные слова…
На шаре, который первым «вытащил» Прохор Терентьевич, было начертано невидимой рукою пять букв, первая – «б»… И, глубоко выдохнув, он настолько сильно растянул срединное «я», что даже недоговорил окончание.
– Деревенщина… – Будто бы никому сказал сидевший рядом прилично одетый мужчина, правда, с довольно гнусным лицом умника.
Прохор Терентьевич сделал вид, что это не к нему, и вышел из вагона…
Оставшуюся часть дня он провёл в автобусах и троллейбусах, пересаживаясь с одного на другой. Временами страх его сменялся чувством могущества. И казалось даже, что в этом качестве он был превыше Бога самого.
Внимания на Прохора Терентьевича как будто не обращал никто. Он был уверен в том, что за ним не следят. Но решился вернуться домой на всякий случай только затемно. И здесь, запершись в уборной, наконец-то высыпал содержимое пакета крышку унитаза…
Пересчитывать не спешил… Наслаждался видом. Над златом, так сказать, чах… О, он хорошо понимал теперь царя Кащея… Приятно – безусловно! Но полезно ли?..
Молодые тратят здоровье беззаботно, как наворованные деньги. Главное – одуреть от возбуждения… На склоне же лет не то-о, ой не то: дурь теряет сладость. Прохору Терентьевичу не хотелось уж вовсе ни мутного от волнения сознания, ни колотящегося сердца. Взбалтывать перед употреблением его было уже не нужно. Только пробовать, как хорошо выстоявшееся вино…
Не пересчитывая находку, он вышел из уборной и померил давление… Оказалось 160 на 100… Испытав негодование и крепко выматерив деньги, Прохор Терентьевич злобно скинул их на кафель. Подняв крышку унитаза, избавился от… На удивление, излилось много жёлтой жидкости, хотя целый день он не был в состоянии не только есть, но и пить… Выразив полноту своих чувств в плевке, Прохор Терентьевич нажал на спуск…
Сон, однако, оказался поверхностным и принёс мало облегчения. Как и во время путешествий намедни в общественном транспорте, Прохор Терентьевич продолжал «держать бога за яйца» … Этот дедушка был гораздо старше его, а потому немощнее и молил о пощаде. А Прохор Терентьевич хохотал и высказывал ему наболевшее:
– Покорчься, покорчься, иудейское отродье. Прочувствуй, каково оно по помойкам-то лазать, в урны руки засовывать да огрызки на улицах подбирать. А ну-ка поди, поживи-ка так хоть с недельку. Небось сразу в разум войдёшь да депутатов поснимаешь, разбойников жизни решишь, а главаря ихнего в шахту скинешь – и гранату ему вослед кинешь, а? Что? Не справедливо? Хе-хе-хе-хе…
Извиваясь от боли, Боженька ответил так-то:
– Глуп ты, Прохор… В духовном смысле, я имею виду. Поживи-ка ещё – и пошлю вскорости тебе прозрение. А сейчас, будь ласка, яйцы повыпусти-ка из дланей кощунных своих…
…Ангелы-архангелы рядом стояли, сложив крылья на груди. И не знали, как отнестись к происходящему. А хитрый Боженька, видя, что увещевания не имеют желаемых последствий, явил по милости своей Прохору Терентьевичу скромную и благородную женщину годов пятидесяти пяти в жёлто-голубом платке, не местную будто… Подходит та к ним и говорит эдак скромно, душевно и с большим достоинством:
– Оставил бы ты, Проша, яйца Божии в покое. Пошли-ка домой лучше. —
И были эти слова такими простыми, хорошими и правильными, что Прохор Терентьевич тут же отпустил Боженьку. Тот в миг улетел.
И уставился Прохор на женщину… Лик её был почему-то коричневый. «Может, только что с курорта», – предположил Прохор Терентьевич. А глаза лучились такой добротой, что он сразу обмяк и сдался.
– Что ж ты стал, как пень, муженёк мой суженый? – молвила меж тем женщина. – Обойми крепко да поцелуй меня во губки фиолетовые. —
Прохор Терентьевич тут потерял всякое соображение, хуже, чем при виде денег на унитазе. Отдался жене сей и будто растворился в ней, как душа в предвечной духовной бесконечности… Вот оно, счастье-то! А губки фиолетовые всё ж лучше, чем накрашенные. В этом он не сомневался…
Разбудил Прохора Терентьевича солнечный луч, нескромно язвивший прямо в око. Стряхнув луч с чела, он понял, что уже поздно… Глянул на часы: «И впрямь, одиннадцать…» Крякнул. Сел на сиротскую свою караватушку одёр
одром. Давление смерил… – По-прежнему неблагоприятно… Выругался. Понял: «Знак это свыше, вот что». Вспомнил ночные яйца. Устыдился: «Прости, Господи. В приступе кандибобера находился…» Аж похмелье ощутил теперь, хоть на грудь принимай… А баба коричневая к чему была? – Этого Прохор Терентьевич тогда не понимал. Встал и, сплюнув в угол, и пошёл в уборную деньги собирать.
Их оказалось ровно два миллиона в местных знаках… Чувств в груди это не вызвало никаких. «Ну что такое два миллиона в наше время? – рассуждал Прохор Терентьевич. – Нынче такая пора настала, что люди триллионами крадут – и всё глотки насытить не могут… Ну и к чему мне деньги эти? – Что есть, что нет…»
Прохор Терентьевич подошёл к окну. Там к его родным бакам подъехала мусорная машина и выворачивала их в своё грязное нутро. И Прохор Терентьевич живо представил, что содержимое баков – это деньги, которые обезумевшие соотечественники стараются достать любыми средствами. А машина – чрево стяжательского общества, или лучше – душа его. Мерзость, то есть, вот что. Однако ж стал соображать, к чему применить найденное.