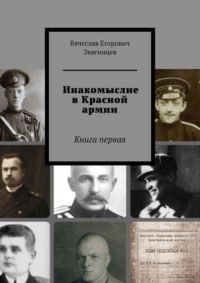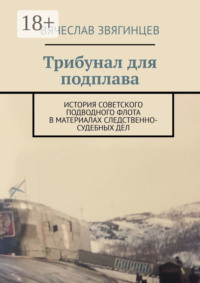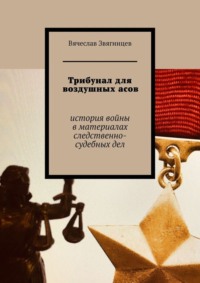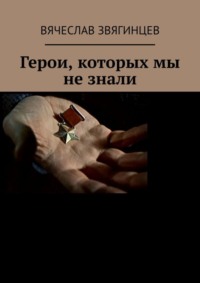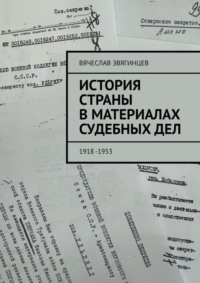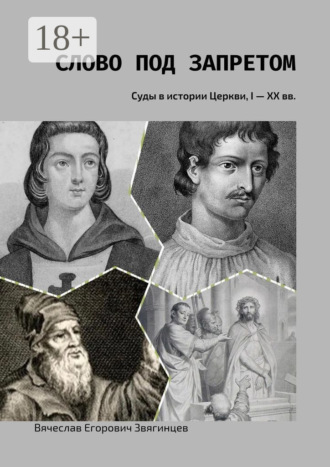
Слово под запретом. Суды в истории Церкви, I – XX вв.
Заметим сразу, что позже, когда Пилат объявит, что не нашел в действиях Иисуса вины по римскому закону, иудеи, согласно Иоанну, снова перейдут на «запасной» вариант обвинения по иудейскому праву – «мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19:7).
Следовательно, наше предположение является верным. Формула обвинения оказалась универсальной. Она позволяла дело особой подсудности по еврейскому закону без особого труда трансформировать в дело особой подсудности по римскому закону. И наоборот.

Николай Ге. Что есть истина? 1890 г.
Реакция Пилата на выдвинутое против Иисуса обвинение многим кажется неожиданной, что, по мнению ряда исследователей, свидетельствует о недостоверности евангельских рассказов.
Полагаю, что эта была естественная реакция префекта, услышавшего ответ Иисуса на заданный Ему ключевой вопрос: «Ты Царь Иудейский?». Для этого надо лишь обратиться к нормам римского права, которыми руководствовался Пилат. А они прямо обязывали его основывать свои выводы на истине, поскольку это входило в предмет доказывания по делу. Поэтому Пилат и задал этот вопрос. Не столько Иисусу, сколько самому себе: «Что есть истина?» (Ин. 18:38).
Так, Модестин в 12-й книге «Пандектов» писал о предмете доказывания обвинения (причем именно по закону об оскорблении величия!): «судьям следует рассматривать это обвинение не как случай (выказать) глубокое уважение к императорскому величию, но (основываясь) на истине; ибо следует обращать внимание и на личность: мог ли он совершить (такое), и совершал ли он прежде что-нибудь, и имел ли намерение (совершить), и в здравом ли уме находился…»44.
Поэтому Пилат и пытался выяснить: что же представляет из Себя этот необычный Человек? Мог ли Он, исходя из Его личностной характеристики и направленности Его воли, претендовать на реальный трон и стремиться к захвату реальной власти в Иудее. В итоге наместник легко выяснил то, от чего полностью устранились еврейские судьи: истина заключалась в полном отсутствии какой-либо вины в инкриминируемом Иисусу преступлении.
Оценивая действия Пилата, надо, кроме того, учитывать предписание римского закона о том, что «доказывание возлагается на того, кто утверждает» (Павел), «предъявляет требование» (Марциан)45. Между тем, обвинители из синедриона не спешили четко сформулировать обвинение перед наместником. Поэтому выглядит логичным, что после допроса Пилат вышел к иудеям и сказал им, что не находит никакой вины в деяниях Иисуса. Но, видимо, это заключение вызвало в толпе, манипулируемой священниками Храма, бурю негодования. Неизвестно – по этой ли причине или нет, но после сказанного Пилат вместо того, чтобы отпустить Иисуса, направил Его по подсудности46 к правителю Галилеи. Причину Лука не указал, но весьма вероятно, что такой вариант тоже был заранее проработан первосвященниками. И кто-то из них после слов Пилата о невиновности Иисуса мог выкрикнуть из толпы, что Он галилеянин и потому должен предстать перед судом Ирода Антипы. Последний в эти дни находился в Иерусалиме, куда он прибыл на празднование Пасхи. Пилат не возражал, ему было выгодно не брать на себя ответственность за осуждение популярного в народе иудея.
Суд у Ирода Антипы описан только Лукой. Из его евангельского рассказа следует, что Антипа задал Иисусу множество вопросов, которые нам неизвестны, но известно, что он не получил на них ни одного ответа. Не явил Иисус и какого-либо чуда, после чего Ирод потерял к Нему интерес. Он велел отправить Его обратно к Пилату, облачив в насмешку в светлые (блестящие) одежды. Их носили престолонаследники, а также римляне, домогавшиеся высоких должностей. Само слово «кандидат» происходит от латинского «candidatus», что значит одетый в белое, светлое.
Ирод таким образом не только пошутил, но и подтвердил мнение префекта о невиновности Иисуса. А еще подал знак примирения Пилату, отношения с которым, по мнению некоторых историков, были обострены из-за убийства римлянами нескольких галилеян, подданных Ирода (Лк.13:1). Наместник, отсылая Иисуса к Ироду, тем самым как бы показывал, что на территории Иудеи признает его юрисдикцию над своими подданными. А ответный жест Антипы мог означать, что тот признает власть Рима над жителями Галилеи, находящимися в Иудее.
Епископ Кассиан добавляет к сказанному, что заключение Ирода имело для Пилата значение экспертизы, поскольку он «не был достаточно знаком с иудейскими делами, и мнение Ирода, представляло для него объективный интерес»47.
Пилат по итогам проведенного разбирательства убедился в невиновности Иисуса, но с целью сгладить противоречия с иудеями принял решение, которое казалось ему компромиссным: «Итак, наказав Его, отпущу» (Лк. 23:16). Наказать Иисуса Пилат решил бичеванием. Он полагал, что это его окончательное решение.
Обычно в те времена бичевание осужденного совершалось непосредственно перед казнью и являлось частью наказания в виде распятия на кресте. Но историкам известны примеры, когда бичевание являлось, по сути, самостоятельным наказанием.
Последовательность изложения у Луки наводит на мысль, что Пилат считал свое решение (подвергнуть Иисуса бичеванию, а потом отпустить) окончательным.
По мнению Пилата, его компромиссное решение должно было устроить иудеев. Ведь этот шаг являлся некоторой уступкой им. «Но первосвященники, – как отмечал И. Херсонский, – видя снисхождение к себе, сделались настойчивее и объявили решительно, что они требуют смертной казни и не согласятся ни на какое другое наказание».
Не добившись бичеванием желаемого результата и видя, что первосвященники накалили толпу до предела, Пилат стал искать какой-то выход из сложившегося положения. Он мог сам вспомнить или кто-то из окружения мог ему напомнить об обычае отпускать на Пасху одного узника.
В тюрьме в ожидании казни на кресте в это время находился некий Варавва. Это был, вероятно, известный разбойник или даже бунтовщик. И Пилат предложил иудеям сделать выбор, рассчитывая, возможно, на то, что этот выбор падет на Иисуса.
Некоторые авторы, например, Х. Коэн, ставят под сомнение достоверность этого эпизода, исходя из того, что право помилования по римскому закону являлось исключительной привилегией императора, но не префекта (прокуратора). А тем более – не народа, который по свидетельствам евангелистов, сделал выбор в пользу Вараввы. Между тем, согласно словарю «Иисус и Евангелия»48 «в римской юридической системе в провинциальных городах возгласы народа (acclamatio populi) играли значительную роль», и имеются «многочисленные примеры того, как римские судьи обращали внимание на выраженные на суде пожелания толпы».
Существовал, вероятно, и древнеиудейский обычай отпускать узников на праздники. Академик С. С. Аверинцев, например, отмечал, что «такое обыкновение упоминается в ряде талмудических текстов (М. Pesachim 8, 6; ВТ Pesachim 91 a; JT Pesachim 36а)»49.
Автор проверил, и действительно в мишне (Песахим 8:6) сказано, что режут песаха «для того, которому обещали выпустить его из тюрьмы до наступления праздника Песах»50.
В ответ на требование распаленной толпы отпустить Варавву и казнить Иисуса Пилат вновь заявил:
– Я не нахожу в нем никакой вины.
Однако толпа продолжала настаивать: «распни, распни Его!».
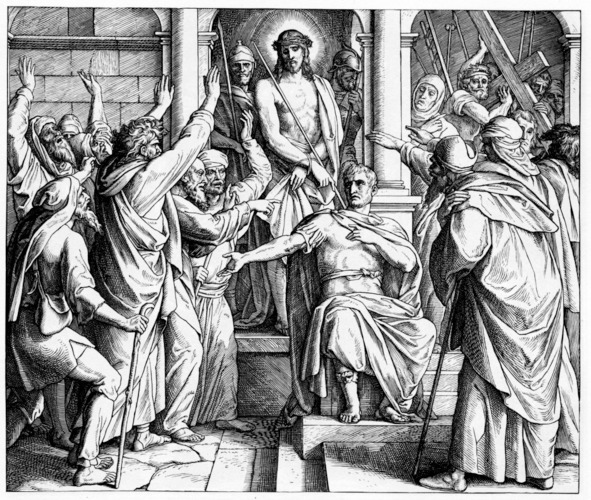
Гравюра Ю. Шнорра «Распни Его!»
После этого кто-то из числа священнослужителей, управлявших толпой, заявил:
– Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
А. Гумеров полагал, что эти слова были произнесены иудеями в злобной уверенности и осознании того, что они обретают над Пилатом полную власть51. На самом деле, как уже сказано, со стороны иудеев это был шаг назад, некое позиционное отступление.
После этого наступила кульминация суда, подробно описанная Иоанном (Ин. 19:12—16).
Принято считать, что вопрос Пилата – «Царя ли вашего распну?» – был его последней бесплодной попыткой повлиять на ход событий. Кажется, что и ответное заявление первосвященников – «нет у нас царя, кроме кесаря» – не оставляло ему выбора. А в словах – «если отпустишь Его, ты не друг кесарю» – сквозит прямая угроза донести на Пилата в Рим.
Кажется, Пилат после этого сломлен окончательно. Возмущение толпы пересилило его ослабевшую волю. В другое время и при других обстоятельствах он никогда бы не пошел на этот шаг. Но в те дни он явственно ощутил, что кресло под ним серьезно зашаталось.
Все это так. Многочисленные толкования богословов в целом объясняют логику поведения Пилата – его нерешительность, связанную с нежеланием выносить вердикт. Были, возможно, и растерянность, и даже страх. Но вряд ли до такой степени, как принято считать. Поэтому остается все же ощущение, что его поведение не вполне соответствует воссозданному исследователями психологическому портрету римского наместника. И в этой связи нельзя не признать заслуживающей внимания точку зрения К. Эванса. Он полагал, что Пилат вовсе не сломался под напором иудейских иерархов и на протяжении всего суда продолжал себя вести как хитрый политик, который до конца руководствовался правилом – снять с себя ответственность и переложить ее на чужие плечи52.
Мнение К. Эванса в целом укладывается в русло и моих рассуждений, о чем подробно написано в моих книгах. Здесь же же ограничимся итоговой констатацией, отраженной в Евангелиях. Принимая решение по делу, Пилат воссел на трибунальское кресло, расположенное на Лифостротоне. Иоанн особо отмечает это обстоятельство, подчеркивая тем самым, что на этот раз наместник официально произнес обвинительный приговор.
Предав Иисуса на распятие, Пилат, согласно Матфею, потребовал воды и демонстративно умыл руки, заявив: «невиновен я в крови Праведника Сего» (Мф. 27:24). Тем самым он совершил обряд по древнееврейскому обычаю.
Многие авторы, отмечая, что такое умывание рук производилось иудеями лишь в случаях, когда они находили труп и убийца не был известен, вместе с тем убеждены, что Пилат вряд ли мог его совершить.
Обычай этот подробно описан во Второзаконии. Действительно, когда иудеи находили мертвое тело, и не было известно, кто является убийцей, производились своего рода следственные действия. Определялся ближайший от места преступления населенный пункт и старейшины этого места приносили в жертву телицу, которая не носила еще ярма. А затем производилось омовение рук с целью очиститься от вины (Втор. 21:1—9).
Возможно, Пилат что-то слышал об этом обычае, и совершил омовение, чтобы продемонстрировать свою позицию. Во всяком случае, заслуживает внимания мнение, высказанное И. Херсонским: «Бедный мужеством и слабый совестью, судья-язычник решился всенародно обратиться к этому обряду, который, принося некоторое успокоение его совести, был полезен теперь и тем, что стоящие в отдалении иудеи, которые из-за шума не слышали слов Пилата, могли по омовению судьей рук понять, что он осуждает Иисуса Христа против воли».
7. «Осуждаю, пойдешь на крест»
На вопрос – были ли у Пилата договоренности с первосвященниками? – однозначно ответить сложно.
Сам арест производился, вероятно, с участием римских воинов53. Можно также привести мнение профессора И. С. Свенцицкой, которая не исключала, что «казнь Иисуса была результатом сговора первосвященника Каиафы и Понтия Пилата»54.
На возможность сотрудничества (сделки) иудейских и римских властей в деле осуждения Иисуса указывают также слова апостолов Петра (Деян. 3:13—15) и Павла (Деян. 13:28). Все это позволяет рассматривать, как реальную, версию о том, что суду над Ним предшествовали некие договоренности между первосвященниками и префектом. Ясно, что они действовали на авансцене истории не как судьи, а как политики, жестко отстаивавшие свои интересы. И сделку между собой они могли заключить лишь в том случае, если в чем-то их интересы совпадали.
Интерес Анны и Каиафы – убрать серьезного конкурента, посягнувшего на основы иудейской веры, на монополию в религиозной области и, по возможности, сделать это руками язычника Пилата.
Интерес Пилата – отвести от своей персоны гнев Тиберия и усидеть в кресле префекта, которое к тому времени зашаталось под напором уже направленных кесарю доносов.
Но была у них и общая цель, хотя и понимаемая по-разному. Цель эта – обеспечить спокойствие в Иудее, снизить накал напряженности, не допустить мятежей и волнений в народе (которые реально могли возникнуть не от проповедей Иисуса, а скорее от «возмущения» народа, инспирированного первосвященниками). А коль есть общая цель и общий интерес, то возможна и договоренность.
А вот, что это была за договоренность, сказать трудно: это мог быть подкуп Пилата первосвященниками, обоюдный сговор об инсценировке судебного спектакля с демонстративным умыванием рук в финале, сделка с элементами шантажа и угрозой доноса и т. п.
Можно лишь предположить, что состоявшаяся сделка являлась некой общей (без уточнения деталей) или предварительной договоренностью. Потому-то и состоялось два суда и два приговора, а поведение Пилата кажется нам странным и необычным. Здесь все – с двойным подтекстом. Предлагая префекту взятку, иудеи могли намекнуть и на наличие компромата на него. Метод «кнута и пряника» был понятен наместнику, который сам, вероятно, двояко отнесся к сделанному ему предложению. С одной стороны, он не прочь был улучшить свое финансовое положение. А с другой – договоренности с иудеями были противны его желаниям. Он относился к ним с презрением. Н. Т. Райт писал: «Согласно источникам, Пилат хотел действовать вопреки желанию первосвященников просто потому, что он всегда хотел действовать им назло. Как в случае с надписью на кресте (Ин 19:21сл.). Это было обычным для него образом действий».
Поэтому, если и был сговор, то лишь по одному принципиальному для обеих сторон вопросу: Иисус – источник нестабильности, причина возрастания напряженности, а потому Его надо убрать. Но при этом не было уточнено: чьими же руками Его следовало убрать?
Первосвященникам крайне невыгодно было оказаться перед народом в качестве гонителей лица, не без оснований претендовавшего на статус Мессии. К тому же, враги Иисуса прекрасно знали, что судебные разбирательства в отношении политических преступников обычно проводились римскими трибуналами по типу закрытых судебных процессов, то есть были скоротечными и не публичными, поскольку в трибунале применялись упрощенные процедуры. Поэтому они и рассчитывали, что суд Пилата, с учетом заключенной накануне сделки, сведется, по сути, к утверждению их обвинения. А произнесение типовой в таких случаях фразы – «ibis ad (или in) crucem» (пойдешь на крест!) – будет означать, что казнь свершится по римским законам.
Х. Коэн прав, утверждая, что в провинциях наместники не привлекали иудеев к обсуждению вопроса об участи преступников и должны были вершить суд в закрытых от посторонней публики помещениях (in camera). Это была не обычная для Рима форма судопроизводства, а суд администрации, который римляне называли правом обуздания или принуждения.
Однако Пилат был не так прост. Он почувствовал подвох и решил потянуть время, «поиграть в демократию», апеллируя к народу. Впрочем, похоже, что иудеи предвидели такой вариант развития событий.

М. Мункачи. Голгофа. 1884 г.
Предположение о незавершенной сделке первосвященников с Пилатом вполне объясняет кажущуюся нелогичность поведения римского наместника.
Эта была сделка не друзей, а врагов. Сделка политиков, по большому счету ненавидевших друг друга. Поэтому детали не обговаривались, могли использоваться шантаж и подкуп. Ну а поскольку это был жесткий политический сговор, обусловленный сложившейся ситуацией, то каждый пытался переиграть друг друга.
Кто же в итоге выиграл эту партию? На первый взгляд – иудейские иерархи, поскольку Иисус был осужден и по еврейскому, и по римскому законам, а распят – по вердикту римского префекта. Но и последнего с трудом можно назвать проигравшей стороной. Он хоть и осудил Иисуса, но ясно дал понять – чьими руками. Сделанная его подручными надпись на кресте является наглядным тому подтверждением.
8. Дело архидиакона Стефана
Вскоре после казни Иисуса состоялось несколько судов над Его сторонниками и последователями.
Первым таким делом, о котором нам известно, стал суд над Стефаном. Он подробно описан евангелистом Лукой в трех главах Деяний апостолов (главы 6—8). Там сказано, что христианская община избрала его, а апостолы «поставили» на службу диаконом. Всего избрали тогда семь человек «изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости» (Деян. 6:3).
Интересно, что выборы состоялись в общине после «ропота на евреев». Он возник по причине несправедливых раздач. Диаконы должны были «пещись о столах» (Деян. 6:1—2), то есть обеспечивать справедливое распределение пищи.
Стефан был человеком незаурядным. Он описан в Деяниях как служитель, наделенный особым даром, «исполненный веры и силы», совершавший «великие чудеса и знамения в народе» (Деян. 6:8). Диакон был страстным проповедником, отличался красноречием, умением убеждать людей и потому пользовался у них большим успехом. Противники же Стефана, которых в Иерусалиме было немало, «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деян. 6:10).
Позднее, церковное предание стало величать Стефана апостолом от семидесяти.
Суд над ним состоялся через несколько лет после суда над Иисусом. Исследователи полагают – около 33—35 годов. И он также закончился казнью. Поэтому христиане почитают Стефана как святого первомученика, подчеркивая, что с момента его ареста и суда над ним началось «великое гонение на церковь в Иерусалиме» (Деян. 8:1). А еще, – что после этого дела, как писал епископ Кассиан, «благовестие о Христе вышло за тесные пределы законопослушного иудейства». В этом видят важнейшее значение этого судебного процесса. Для нас же важно отметить, что такой выход, то есть распространение учения Иисуса, обеспечила сила слова, исходившая из уст Стефана.
Благовестие о Христе, по мнению практически всех исследователей, выражалось исключительно в словах и проповедях, которые иудейские власти посчитали общественно опасными. За такое инакомыслие Стефан и пострадал. Между тем, есть в этом деле и неясные моменты.
Высказываются различные точки зрения даже по вопросу о том, за какие именно слова Стефан был осужден. Связано это с тем, что материал, изложенный в Деяниях, несколько сложен для восприятия современным человеком. Хотя ключевые этапы суда отражены в этом сочинении достаточно полно.
Согласно Деяниям:
1. Стефан пострадал за свои христианские проповеди и диспуты в Иерусалиме. Он не раз побеждал иудейских законоучителей в спорах, что вызывало у них зависть, переходящую в ненависть.
2. Поскольку иудейские законоучители из синагог евреев диаспоры (либертинцев, киринейцев и др.) «не могли противостоять мудрости» Стефана, они нашли нескольких лжесвидетелей, которые выдвинули против него обвинение в богохульстве: «мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога» (Деян. 6:11).
3. В ходе суда в синедрионе, проходившем в иерусалимском Храме, лжесвидетели дополнили выдвинутое против Стефана обвинение. Они заявили, что он говорил также хульные слова «на святое место сие (Храм – авт.) и на закон». А еще – что, по утверждению Стефана, «Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей» (Деян. 6:13—14).
4. На вопрос первосвященника – так ли это? – Стефан не дал прямого ответа. Но произнес пространную речь, в которой обнажил трагические изломы истории еврейского народа (от Авраама до Соломона), обратив внимание судей на примеры противления иудеев Богу.
5. В своем выступлении Стефан, в частности, заявил, что Соломон построил для Бога Храм, но «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 7:48), а также обвинил иудеев в гонениях на пророков. Кульминацией его выступления явилось выдвинутое Стефаном обвинение в убийстве Иисуса Христа.
6. Закончив свою речь, Стефан заявил судьям, что видит «небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога», а те «закричав громким голосом, затыкали уши свои, и… выведя за город, стали побивать его камнями» (Деян. 7:56—58).
Первое, на что обращаешь внимание при чтении этих глав Деяний святых апостолов – перечисленные ключевые моменты суда над Стефаном удивительным образом совпадают с обстоятельствами суда над Иисусом. Преследуя цель избавиться от диакона Стефана, его противники действовали теми же методами, что и гонители Иисуса. Параллели с Его делом очевидны. Использовались те же приемы – поиск лжесвидетелей и возбуждение народа (возмущение в народе). Тождественны обвинения в богохульстве. Аналогичной была реакция судей на слова – «одесную Богом». Не исключено, что и дело рассматривали те же судьи.

Ведение Святого Первомученика Стефана на казнь. Фреска церкви Вознесения Господня («Спасов дом») в монастыре Жича, Сербия. 1309 – 1316 гг.
Рассмотрим подробнее перипетии этого суда. Прежде всего – проанализируем речь подсудимого Стефана. Это позволит нам обратить внимание на те, положенные в основу его обвинения, слова, которые могли звучать в предшествующих судебному разбирательству выступлениях Стефана, его проповедях, спорах и диспутах.
Многие исследователи полагают, что основная причина, по которой Стефан предстал перед судом – его нападки на Храм и критика сложившегося храмового культа.
Мы уже знаем, что по делу Иисуса лжесвидетели заявляли о намерении Иисуса разрушить «храм сей рукотворённый» (Мк.14:58). Слова о «рукотворённом храме» есть и в речи Стефана: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк» (Деян. 7:48).
Пророк этот – первый великий пророк Исаия, вопрошавший: «где же построите вы дом для Меня?» (Ис. 66:1—2). Стефан ссылался на него, чтобы показать – престол Бога находится на небе.
Второй великий пророк Иеремия в VI веке до н.э. также предостерегал иудеев: «Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень» (Иер. 7:4) имея ввиду, что храм, сам по себе, не может являться прибежищем и защитой для грешников.
У Иисуса, как мы уже знаем, не было намерений разорять «храм сей рукотворённый». О разрушении можно говорить лишь в переносном, иносказательном смысле. Выступая против монополии Храма как единственного места, где обитает Бог, Иисус как бы замещал рукотворенный храм воздвижением другого – нерукотворенного или нерукотворного.
Что же это за храм?
Апостол Павел, принимавший участие в суде над Стефаном (об этом – далее), в своем Первом послании к коринфянам разъяснил этот вопрос: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (I Кор. 3, 16). Но, прежде чем, Павел сказал – «Вы храм Божий» – таким живым храмом стал Иисус Христос. Когда Он произнес на проповеди, что в три дня воздвигнет новый храм, Он, вероятно, говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:19—21).
Судя по всему, Стефан в своих проповедях не раз приводил слова о Храме, приписываемые Иисусу и понимаемые им как суд над Храмом55. А обвинение Стефана в богохульстве могли, в частности, усмотреть в его словах о пророчестве Иисуса, связанном с будущим разрушением Храма (Мк. 13:2, Мф. 24:2).
Вместе с тем, надо иметь в виду, что слово «рукотворенный», по мнению ряда исследователей, употреблялось тогда по отношению к языческим идолам. Применение этого слова к Храму – могло быть расценено как его хуление. В этом случае обвинители Стефана напрямую могли квалифицировать эти его слова как хулу на Храм, а «хула на Храм» тогда приравнивалась к «хуле на Бога», то есть к богохульству.
Следующий мотив, звучавший в выступлениях Стефана и вызвавший гнев иудейских иерархов, заключался в проповеди им распятого Мессии.
В Первом послании к коринфянам апостол Павел писал: «…мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн» (I Кор. 1:23).
Введение народа в соблазн тоже квалифицировалось в те годы как богохульство и идолопоклонство. В правовых нормах устной Торы, позже закрепленных в Мишне и Талмуде, это преступление стали обозначать термином «меситизм». Талмуд, в частности, прямо связывал приговор, вынесенный Иисусу, с этим понятием (Санхедрин, 43а).
Еще Э. Ренан подробно описал судебную процедуру «против „соблазнителя“ (месита), который покушается на чистоту религии».
О том, что Иисус обвинялся иудейскими иерархами в совершении преступления, именуемого введением в соблазн или развращением народа, евангелисты свидетельствуют косвенным образом (Мф. 27:63; Лк. 23:14; Ин.7:12,47). Однако практически никто из богословов и историков не занимался исследованием юридической составляющей «введения в соблазн», мало кто пробовал связать прозвучавшие в суде над Иисусом обвинения с правовыми нормами древнейших кодексов56. Тем более, никто не исследовал этот вопрос применительно к делу Стефана.