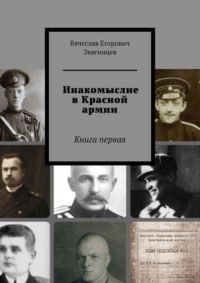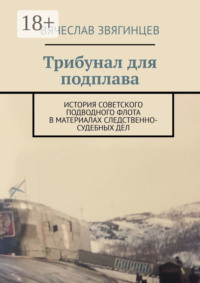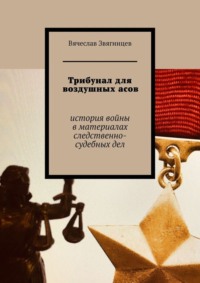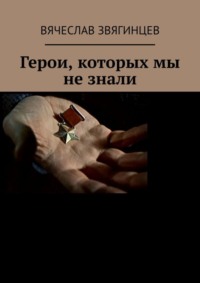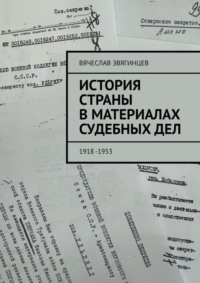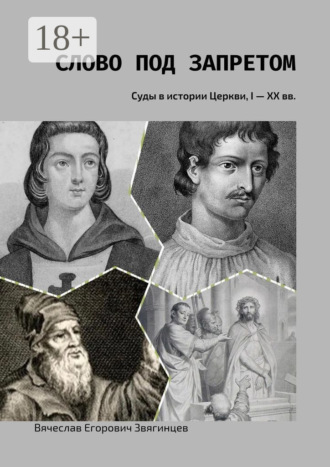
Слово под запретом. Суды в истории Церкви, I – XX вв.
– Судили судом «семидесяти одного»;
– Судили в любое время суток, в том числе и ночью;
– Судили, заранее «оповещая», в канун праздников, а казнили в праздничный день;
– Судили в особом (упрощенном) порядке, допуская «тайный розыск» или «засаду».
4. О формуле обвинения
Среди историков нет единого мнения по вопросу о том, в чем конкретно обвиняли Иисуса. Еще первый евангелист Марк писал, что «первосвященники обвиняли Его во многом» (Мк. 15:3). Если же проанализировать древние источники, то можно насчитать, как минимум, с десяток обвинительных пунктов, которые Иисусу инкриминировались (колдовство, возмущение народа (меситизм), несоблюдение законов Моисея, в том числе – нарушение субботы, беспорядки, устроенные в иерусалимском Храме, самозванное провозглашение Себя Пророком и Мессией, приравнивание Себя к Богу, поклонение иному Богу, призыв не платить налоги Кесарю и др.)
Как видим, перечень довольно большой. На самом деле, значительная часть из перечисленных пунктов имела прямое отношение к идолопоклонству и входила (в том или ином виде) в разработанную первосвященниками универсальную формулу обвинения, которая сохранилась в истории, благодаря евангелисту Луке.
Между тем, в Новом Завете не говорится, что синедрион обвинял Иисуса в идолопоклонстве. Евангелия конкретно указывают, что Он был осужден за богохульство.
Но было ли это преступление как-то связано с идолопоклонством?
Ответ – однозначно утвердительный. В энциклопедиях под «богохульством», термином, произведенным от слов «Бог» и «хула», понимается любой оскорбительный или непочтительный акт, слово или намерение в отношении Бога или святыни. То есть, «богохульство» как религиозное преступление представляло в те годы (как и римский закон об оскорблении величия, примененный Пилатом) довольно широкий диапазон для судейского усмотрения. Это понятие могло включать в себя и бунт против Бога, и злословие, выражавшееся в призывах не выполнять заповеди Торы, и, что важно подчеркнуть, – приравнивание себя к Богу, его отрицание, а также поклонение «иному Богу». Как богохульство могли быть квалифицированы: хула на Храм, произнесение тетраграмматона (неизреченного имени Бога), утверждение о том, что Иисус «воссядет одесную силы», прощение Им грехов и др.
При этом, важно подчеркнуть, что любой религиозный проповедник того времени, призывавший иудеев поклоняться какому-то другому Богу, отрицая тем самым Яхве как истинного Бога, не только совершал богохульство. Одновременно он идолопоклонствовал, служил «иному богу».
Если сгруппировать приводимые в Мишне и Талмуде многочисленные названия лица, которого считали вероотступником (еретик, зачинщик, совратитель, искуситель и т.п.), то можно увидеть, что эти же термины применимы к идолопоклонникам – тем, кто «отрицает Тору», «сбивает народ с пути» и т. п. И как уже сказано, именно в отношении таких лиц закон допускал изъятия (исключения) из общих правовых процедур и правил. Их судили «не по букве закона».
Маймонид не случайно поставил между ними знак равенства, исследовав многочисленные галахические постановления. Их суть он выразил в Законах об идолопоклонстве: «Все помыслы безбожника – поклонение идолам»; «Тот, кто служит идолам – как будто произносит богохульство»35.
Таким образом, библейские тексты дают веские основания предположить, что синедрион посчитал Иисуса не только богохульником, но и идолопоклонником (для еврейских судей, прежде всего – идолопоклонником; для Пилата, прежде всего – богохульником).
Однако публично было оглашено лишь обвинение в богохульстве, поскольку этот состав преступления легко трансформировался из подведомственного синедриону религиозного преступления в преступление против интересов Рима. Формулируя обвинение Иисуса в расчете на суд Пилата, первосвященники не объявили Его идолопоклонником, поскольку Пилат был язычником, то есть в представлении иудеев он сам являлся таковым. Что касается безбожия (богохульства), то оно с древнейших времен являлось наказуемым в античном мире. Еще Платон писал об этом в своих «Законах», а римляне связывали это понятие с разрушением существующего порядка и были убеждены, что безбожие представляет угрозу общественной безопасности.
Фактически синедрион осудил Иисуса Христа, говоря современным языком, по совокупности преступлений. Составителям Мишны подобные ситуации уже были знакомы. Там, например, сказано: «Того, кто подлежит двум казням по приговору бейт-дина, казнят тяжелейшей» (Мишна 9:4). В случае с Иисусом речь могла идти об осуждении Его как лжепророка, подстрекавшего к чужому служению (иному богу). И одновременно – как хулителя Бога. Подтверждения тому можно обнаружить путем сопоставления евангельских свидетельств с правовыми нормами мишнаитского трактата Санхедрин. Это особый порядок формирования доказательств в отношении подстрекателя к идолопоклонству (7:10); разрывание одежд, применяемое только в отношении богохульника (7:10); «повешение на древе» (после казни скилой) лица, поносившего имя Бога и служившего иному богу (6:436); осуждение судом 71-го, то есть Верховным синедрионом как лжепророка (1:5) и др.
Теперь несколько слов по поводу обвинения Иисуса в нарушении римского закона, то есть в организации беспорядков и подготовке вооруженного мятежа. Это был явно ложный пункт обвинения (как и обвинение в призывах не платить подать Кесарю). Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к отрывку из трактата Санхедрин, в котором говорится о причинах казни Иисуса: «допустим, он был бы бунтовщиком, тогда можно было искать [поводов для] защиты; но ведь он был совратителем (mesith)»37.
Саддукеи, конечно, понимали, что проповеди Иисуса не были направлены на подготовку мятежа и что является большой натяжкой квалифицировать торжественную встречу, устроенную Ему при въезде в Иерусалим или очищение Иисусом Храма, как призыв к началу массовых беспорядков. Но это обвинение им было необходимо. И, опять же, в первую очередь для Пилата. Чтобы убедить его в противоримском характере действий Иисуса, первосвященники использовали выражение «Царь Иудейский» не в связке со словом «Мессия» (что в тех условиях представлялось логичным), но, прежде всего, в контексте, понятном Риму. Так возникли две параллельные линии обвинения – светская и религиозная: лжемессианизм, который можно было «привязать» к римскому закону, и меситизм, как основное «внутрииудейское» обвинение. Первая часть обвинения базировалась на выдуманной первосвященниками (и подхваченной многими современными авторами) претензии Иисуса на насильственный захват в Иудее светской власти. Вторая основывалась на утверждениях об отрицании Иисусом Торы и подстрекательстве народа к идолопоклонству, что квалифицировалось как посягательство на власть религиозную. Но поскольку такое разделение применительно к Иудее было весьма условным, фраза «Царь Иудейский», наиболее близкая к понятию «Мессия», стала ключевым пунктом обвинения. В зависимости от смысла, вкладываемого обвинением в понятие «Царь Иудейский», Иисус мог оказаться как под юрисдикцией синедриона (Мессия-Царь), так и перед судом римского наместника (Царь как претендент на трон Иудеи). Ну а поскольку при теократическом правлении названная грань была размытой, обмануть «тупого римского чиновника» (выражение З. Косидовского – авт.), по мнению обвинителей, не составляло большого труда.
Так, в условиях судебного двоевластия в Иудее, была придумана юридическая ловушка путем преобразования иудейского обвинения в обвинение, подпадавшее по своим признакам под юрисдикцию римлян – Иисус был представлен не только богохульником и лжепророком, подстрекавшим людей к идолопоклонству, но и лжемессией-царем, рассчитывавшим захватить реальный трон.
Общеизвестно, что окончательная формулировка обвинения, позже высказанная руководителями синедриона префекту Иудеи, наиболее полно отражена в Евангелии от Луки. И это не удивительно. В «Каноне Муратори»38 евангелист Лука упоминается как сведущий в законе или «знаток закона».
Когда начинаешь анализировать формулировку Луки, сомнений не остается – это именно юридическая формулировка. Она звучала так: «развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Лк. 23:2). За этими словами четко просматриваются контуры конкретных правовых норм, предусматривавших смертную казнь за вовлечение в соблазн (по терминологии иудейских законоучителей) и подстрекательство к мятежу (по римскому праву). Не будет большой натяжкой назвать эту формулу – формулой смерти, поскольку в представлении иудейских священников она являлась беспроигрышной, позволяя в любом случае заманить Иисуса в «юридическую западню» (выражение Э. Ренана) и довести дело до смертного приговора.
Фабула римского закона об оскорблении величия39, как и древнееврейские правовые нормы о богохульстве, охватывала большой спектр различных деяний, посягающих на римскую власть и установленный римлянами общественный порядок. Требовалось лишь доказать, что проповеди лжемессии, лжепророка (или же – идолопоклонника) ведут к нарушению общественного спокойствия. Об этом, в частности, говорилось в комментарии к римскому закону об оскорблении величия: « (Оскорбление) величия имеет место тогда, когда совершается что-либо против народа римского или против его безопасности. …Бывает, что объявляются и лжепророки, их также следует наказывать, потому что их заслуживающие запрещения плутни порой направлены против общественного спокойствия и власти римского народа»40.
В процитированном отрывке четко зафиксирована цель – преступное деяние должно быть направлено против общественного спокойствия и власти Рима. Здесь-то иерархи-обвинители как раз и столкнулись с самой большой проблемой, вынудившей их пойти на подлог. Речь идет о субъективной стороне инкриминируемых Иисусу правонарушений, включавшей признаки, характеризующие внутреннее психическое отношение предполагаемого преступника к совершенному преступлению (форма вины, мотив, цель).
Нетрудно заметить, что отсутствие этих признаков – самое слабое звено в приведенной формуле. Поэтому для ее усиления и придания ей убедительности появилась фраза о том, что Иисус запрещал давать подать кесарю, то есть являлся его противником.
А. П. Лопухин обоснованно отмечал, что «к неопределенным обвинениям в развращении народа и присвоении царского достоинства Мессии» судьи прибавили «запрещение давать подать Кесарю», которое «было чистой ложью»41.
В итоге большинство перечисленных нами пунктов не выпало из обоймы выдвинутого против Иисуса обвинения. Детализированная логическая цепочка могла бы выглядеть, например, так: самозвано объявив Себя пророком, Иисус своими проповедями, отрицающими Тору, развращал и возмущал народ, в том числе призывал иудеев не соблюдать законы Моисея; приравнивая Себя к Машиаху (Мессии) и Сыну Бога и призывая других поклоняться этому Богу, Иисус тем самым хулил истинного Бога Яхве и подстрекал иудеев к служению иному богу за пределами Иерусалимского храма; самовольно провозгласив Себя Царем и заявив, что кесарю не нужно платить налоги, Иисус посягнул тем самым на общественное спокойствие и безопасность не только Иудеи, но и Рима, а потому представляет серьезную опасность для римского народа, оскорбляя его величие.
Если выдвинутое предположение является верным, то это действительно была формула смерти. В том смысле, что она позволяла, как теперь говорят, при любом раскладе вынести обвинительный приговор, как синедрионом, так и римским трибуналом.
5. Суд синедриона
Судебная документация синедриона, вероятно, была уничтожена в 70 году, когда Тит полностью сжег Иерусалимский храм. Информацию о том, как проходил суд над Иисусом, можно почерпнуть лишь из Евангелий. Но она – фрагментарна.

Гравюра Ю. Шнорра «Иисус перед Каиафой»
Во все времена в протоколах чрезвычайных судов фиксировался лишь минимум информации: время и место суда, краткая формулировка обвинения, констатация факта признания (или непризнания) вины и назначенное наказание. Практически те же основные моменты отражены и в Евангелиях. Их авторы зафиксировали лишь самое главное, по их представлениям. Они дают понять, что и суд синедриона, и суд Пилата, были неправыми; что Иисус был приговорен к смерти: синедрионом – за богохульство, римским судом – за притязания на царский трон.
Можно попытаться восстановить недостающую информацию о суде путем сопоставления евангельских свидетельств с действовавшими тогда правовыми нормами.
Евангелисты пишут, что перед синедрионом предстали свидетели. То есть формальные условия для возбуждения судебного заседания, вроде бы, были соблюдены. Хотя складывается впечатление, что выдвинутое свидетелями обвинение и реальные причины, заставившие первосвященников форсировать суд, вряд ли совпадали. В спешке они, вероятно, к тому времени еще не успели окончательно определиться с доказательствами, которыми будут подкреплять выработанную формулу обвинения. К тому же, их подвел Иуда, которого, похоже, предполагали допросить. Во всяком случае, Матфей ясно дает понять, что тот не желал осуждения Иисуса и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников.
В это время судебная машина была уже запущена, арест Иисуса произведен. Не исключено, что из-за отказа Иуды свидетельствовать в суде, Каиафе пришлось, на ночь глядя, искать других свидетелей. Да еще лихорадочно формировать необходимый «кворум» суда. Вероятно, ему это удалось, поскольку на праздник Пасхи многие иногородние члены синедриона прибыли в Иерусалим.
Итак, суд начался.
Первая его стадия – открытие заседания, объявление дела, которое будет слушаться, установление личности свидетелей, проверка их показаний, позже детально описанная в Мишне и в Талмуде42 и др.
Все перечисленное относилось к общим правилам. Исключение из них, как уже сказано, составляли дела в отношении подстрекателей к идолопоклонству, по которым, в частности, не требовалось предупреждать преступников и отвращать от преступления. Наоборот, Закон предписывал их провоцировать с целью получения и последующего закрепления уличающих таких преступников доказательств.
Сколько же было свидетелей по делу Иисуса, и кто они были? Точно мы этого не знаем. Марк говорит о нескольких свидетелях, Матфей конкретен – он упоминает о двоих, подчеркнув при этом, что первосвященники заранее подобрали таких свидетелей, которые должны дать в суде ложные показания.
О чем же эти показания?
Марк писал, что лжесвидетельствование заключалось в словах Иисуса: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Мк. 14: 57—58). У Матфея иначе – не разрушу и воздвигну, а «могу разрушить» и могу «создать его» (Мф. 26:61).
Иисус же, судя по всему, говорил иначе. Вот Его слова, приведенные Иоанном: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). То есть Иисус, вряд ли, высказывал угрозу разрушить Храм. Напротив, Он предлагал иудеям самим попробовать это сделать и утверждал, что может восстановить Храм за три дня.
Лжесвидетельство как раз и могло выразиться в искажении свидетелем, или свидетелями, смысла сказанного Иисусом: «если вы разрушите» было заменено на «Я разрушу».
В ходе допроса и проверки свидетелей судебный процесс перетекал в следующую стадию – суд оценивал их показания. При описании этой стадии, зафиксированной евангелистами, более точен Марк: «Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны» (Мк. 14:56).
В древнееврейском праве свидетельские показания оценивались по трем категориям: пустые, недостаточные и надлежащие. Пустые свидетельства вообще не принимались во внимание и даже не протоколировались, то есть судьям сразу было ясно, что они не имеют отношения к рассматриваемому делу. Недостаточные свидетельства, о которых упоминает Марк, допускались временно и юридическую силу получали лишь в случае их последующего подтверждения и подкрепления другими доказательствами, то есть к ним могли быть отнесены как одиночное свидетельство, так и свидетельства, не являвшиеся между собой тождественными. Причем даже малейшее расхождение в показаниях двух и более лиц, являлось основанием для признания свидетельства недостаточным. По делу Иисуса это расхождение как раз и могло выразиться в том, что один свидетель передал слова Иисуса в форме: «могу разрушить», а другой: «Я разрушу».
Лишь в случае признания свидетельских показаний надлежащими и достаточными суд мог перейти к следующему шагу. Однако при рассмотрении дела Иисуса, несмотря на недостаточность свидетельств, суд продолжился. Можно, конечно, возразить, что указание на это являлось оценкой самого Марка, а не суда. Но в том-то и дело, что все последующие действия судей подтверждают: вывод о недостаточности свидетельств – это их вывод, а не Марка. Более всего в этом убеждают последующие слова самого Каиафы: «на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?» (Мк. 14:63—64).
Из этого полувопроса-полуутверждения, обращенного к членам синедриона, ясно следует, что, несмотря на недостаточность свидетельств, первосвященник не собирался закрывать дело.
Исправить положение могло лишь привлечение новых свидетелей. Но их не было. В такой ситуации дело подлежало прекращению. Но Каиафа вместо этого взял инициативу в свои руки и стал убеждать судей в том, что у синедриона есть основания для осуждения Иисуса.
Правосудие в этот момент закончилось. Именно здесь четко вырисовывается линия водораздела, обозначившая переход к открытой расправе над Иисусом, ранее камуфлированной под некое подобие законного судопроизводства.
Через весь текст Законов о свидетельстве Маймонида красной нитью проходит правило – древний закон «никого не осуждает на смерть на основании его собственных признаний». Но по делу Иисуса именно это и произошло! Потерпев неудачу при проведении «тайного розыска», первосвященники, видимо, в очередной раз решили спасти положение с помощью «царицы доказательств». Не исключено, что именно с этой целью Каиафа воспользовался специальной правовой нормой о клятве: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий!».
Обязанием дать показания под клятвой первосвященник попытаться восполнить одиночное (недостаточное) свидетельство и с этой целью использовал специальную правовую норму, позже закрепленную в кодексе Маймонида: «…на основании показаний одного свидетеля можно обязать человека дать клятву» (Законы о свидетельстве 5:1).
Ответ Иисуса на заданный первосвященником с применением клятвы (заклинания) вопрос был утвердительным и именно в этом смысле был воспринят Каиафой и членами суда.
После этого Каиафа, выражая свой ужас перед богохульными словами, разодрал свои одежды, констатируя таким образом, что Иисус богохульствует.
Видя этот фарс, наблюдая изначально запланированное желание вынести Ему смертный приговор, Иисус открыто объявил Себя Сыном Божиим. За эти Его слова судьи-обвинители ухватились как за спасительную соломинку, не понимая, что тем самым окончательно отрезают себе все пути к выяснению истины. Они не посчитали нужным озаботиться вопросом о вине Иисуса. Возможно, умышленно пошли на применение норм чрезвычайного правосудия, чтобы не поднимать вопрос о вине. А значит, – и о своей собственной вине за неправосудный приговор. Такой выбор они сделали еще до суда, спланировав убийство в форме судебного фарса. Поэтому мы и говорим, что состоявшийся процесс был не судом, а судебной расправой, закамуфлированной под формальную законность. А отсюда проистекает все остальное – предвзятость, поиск лазеек и изъятий в Законе, попытки сфабриковать доказательства до начала суда. То есть Анна и Каиафа изначально для реализации своей преступной цели, стали выискивать в Законе правовые нормы, которые позволяли, по их мнению, придать убийству легитимность.
Суд над Иисусом наглядно показал, что до правды и истины доходят сердцем. А, прикрываясь законом, можно творить произвол.
В результате к Пилату судьи синедриона пришли не для формального утверждения приговора, а для того, чтобы убедить префекта в необходимости осуждения Иисуса по римскому закону.
6. Суд Пилата
Надо признать, что суд Пилата и мотивы, которыми он руководствовался, являются наиболее труднообъяснимым местом евангельской истории.
Многие полагают, что эти трудности обусловлены существенными противоречиями в евангельских текстах, согласовать которые практически невозможно. Однако это не совсем так. Формальные разночтения есть, но в большинстве случаев они скорее не противоречат, а дополняют друг друга.
Ключевые моменты суда нашли отражение у всех евангелистов: вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?», его сомнения в обоснованности обвинения и неудавшиеся попытки отпустить Иисуса. Если же анализировать Евангелия более детально, то можно увидеть, что, по версии Марка и Матфея, Пилат особо не упорствовал и согласился с приговором синедриона, умыв при этом, согласно Матфею, руки. Наиболее полно ход процесса описал Иоанн, но у него опущен эпизод суда у Ирода Антипы, который есть только у Луки. Центральная же мысль повествования у него с Иоанном совпадает – Пилат трижды пытался отпустить Иисуса, не находя Его вины, однако отступил под сильным давлением первосвященников и толпы.
Надо сразу заметить, что поведение Пилата, которое богослов И. Херсонский назвал «жалкой борьбой своекорыстия с чувством долга», практически невозможно объяснить без учета складывавшейся неблагоприятно для префекта политической ситуации. А, возможно, и заключенной с синедрионом сделки. Причем, последняя могла быть заключена перед арестом Иисуса, но потом что-то повлияло на изменение позиции Пилата.
Евангельские тексты ясно дают понять, что члены синедриона пришли к Пилату для того, чтобы убедить его в необходимости осуждения Иисуса по римскому закону. Причем, судя по формулировке обвинения, приведенной Лукой, – в необходимости осуждения по конкретному закону, который называют законом об оскорблении величия римского народа (lex majestatis). И ожидаемый результат, вероятно, был просчитан Анной и Каиафой заранее.
Судя по всему, они хорошо знали, что основанием для возбуждения дела по этому закону и одновременно – выдвигаемым обвинением, являлся донос. Об этом прямо говорилось в римском законе. Решение синедриона как раз и можно рассматривать в качестве такого доноса. Поэтому свидетельство И. Флавия о том, что Пилат распял Иисуса на кресте «по доносу первенствующих у нас людей» (Иудейские древности, ХVIII, 3), является, по-видимому, точной фиксацией реалий того времени.
При этом, донос являлся лживым, и, вероятно, по этой причине его содержание не сразу раскрыли перед Пилатом. Когда Иисуса привели к наместнику и тот задал вопрос – «в чем вы обвиняете Человека Сего?» – ему ответили неопределенно: «Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». Так пишет Иоанн (Ин. 18:30). Лука же при описании начальной сцены римского суда сразу приводит обвинительную формулу (Лк. 23:2).
Известно, что Иоанн писал позже синоптиков, дополняя их, что-то уточняя, обращая внимание на детали. Возможно, он счел необходимым подчеркнуть коварство обвинителей, заранее спланировавших хитрую тактику поведения в суде. После их неопределенного ответа у Пилата появились основания предложить иудеям самим осудить Иисуса «по закону вашему». На это они тут же дали ответ: «Нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 18:28—31), намекая, что без санкции Пилата их приговор не имеет юридической силы.
Иоанн Златоуст отмечал, что иудеи, «желая показать, что преступление Его не иудейское, отвечают: „нам не позволено“, т. е. Он виновен не против нашего закона, но вина Его государственная»43.
После этого римский префект ушел с Иисусом в преторию, где уже не в публичной обстановке задал Ему вопрос, приведенный всеми евангелистами: «Ты Царь Иудейский?».
Этот вопрос показывает, что суть обвинения наместнику уже известна. Однако Пилат имел тогда еще поверхностное представление о конкретных обстоятельствах, которые были положены синедрионом в основу обвинения Иисуса, а также о Нем самом. Достаточно сказать, что префект не знал о галилейском происхождении Иисуса.
Мы видим, что иудейские иерархи, согласно разработанной тактике, дают Пилату информацию о «преступлении» дозированно, поэтапно. Скорее всего, они постепенно накаляли обстановку, пытаясь преодолеть нежелание Пилата вникать в это дело.
Вначале, просто констатируют: Иисус – злодей. Затем, уточняют: Он не просто злодей, а злодей, который заслуживает смерти по римскому закону. И наконец, конкретизируют Его преступление – Иисус должен быть казнен как враг Рима, претендующий на иудейский трон. А это безусловное основание для проведения чрезвычайного римского суда.