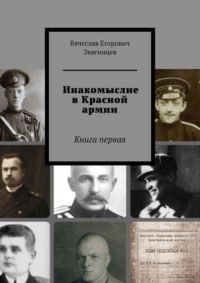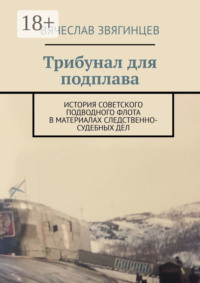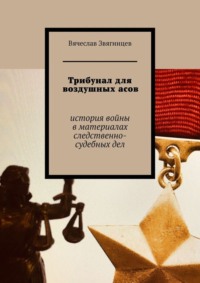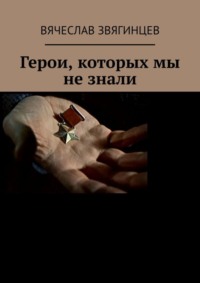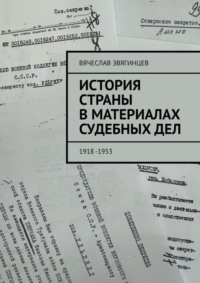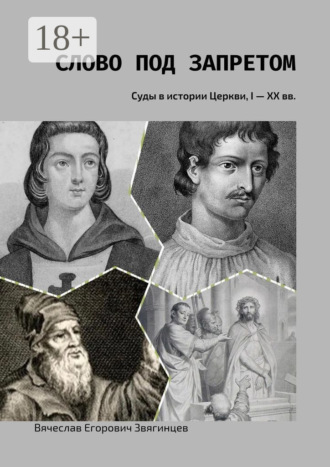
Слово под запретом. Суды в истории Церкви, I – XX вв.
– Это Царство Небесное, то есть Царство Бога за пределами земли.
В любом случае, в Евангелиях ясно выражена мысль, что Царство Иисуса – это Царство иного бытия. На вопрос Пилата Он прямо ответил: «Царство Мое не от мира сего…, Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). То есть это Царство не может локализироваться в пределах отдельно взятой территории. А его приход будет неприметным.
Если же вести речь о реальности Царства, то она, прежде всего, в реальности присутствия Бога на земле, а не в Его намерении взять в Свои руки реальные рычаги политической власти. Иустин (Юстин) Мученик16 еще во II веке писал: «Когда вы слышите, что мы ожидаем царства, то напрасно полагаете, что мы говорим о каком-либо царстве человеческом, между тем как мы говорим о царствовании с Богом»17.
Итак, Царство Божие – это реальность, которая уже наступила с приходом Иисуса на нашу грешную землю. Он явил его и призвал в это Царство людей. Именно так и понимают идею Царства богословы.
Брюс М. Мецгер писал: «Царство Божие» – это не территория, а «владычество» Бога, личное взаимоотношение между суверенным Богом и человеком. Спрашивать, настоящая это реальность или будущая, так же бессмысленно, как и спрашивать, является ли настоящим или будущим отцовство Бога»18.
Почему же тогда иудейские иерархи направили обвинительные стрелы в сторону Иисуса? Может быть, они все же имели основания опасаться того, что, проповедуя идею о Царстве Божием, Иисус обозначил таким образом Свои притязания на царский трон Иудеи и рассчитывал получить реальную власть?
Ответ представляется следующим.
Пилат буквально за несколько минут установил, что для него лично и для Римской империи Царство Иисуса не представляло никакой опасности. Это было Царство, не являвшееся земным, в смысле государства. Но это Царство было мессианским. А потому его провозвестие не могло не напугать иудейскую священническую верхушку.
И вот почему.
Во-первых, любой христианин вам скажет, что основатель этого Царства – и Мессия, и Бог. В этом основное отличие христианства от иудаизма, где Бог всегда больше чем Мессия.
Иисус же принес на землю иное понимание – Мессии-Бога. В этой связи важно обратить внимание на один уникальный евангельский эпизод, описанный Матфеем. Иисус ясно дает понять фарисеям, что они имеют о Мессии искаженное представление. «Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом…. Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын Ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его» (Мф. 22:41—46).

М. Мункачи. «Ecce Homo» 1896 г.
Во-вторых, в идее о мессианском Царстве Иисуса первосвященники усмотрели угрозу Иерусалимскому храму и всем его обитателям. Иисус противопоставил это Царство Храму. Поэтому мы вправе предположить, что опасались Его именно поэтому – не потому, что Он хотел стать Царем, а потому, что выступил против монополии Храма как единственного места, где можно приблизиться к Богу. В этом контексте становятся более понятными деяния Иисуса, связанные с «очищением» Храма, а также Его пророческие предсказания о разрушении Храма. М. Борг писал по этому поводу, что «Иисус не хотел „очистить“ Храм, Он хотел вынести ему обвинительный приговор»19.
Исходя из этого, можно понять, почему первосвященники Анна и Каиафа положили в основу обвинения Иисуса словосочетание – «называл Себя Христом Царем». Это означает, что они считали Иисуса и лжемессией, и лжецарем.
Однако в суде синедриона открыто не прозвучало обвинение в том, что Иисус является лжемессией. Его обвинили лишь в том, что Он назвал Себя Царем Иудейским. И это, вероятно, не случайно. Далее будет показано, что это было сделано в расчете на осуждение Иисуса именно римским трибуналом.
Обвинители Иисуса в своем намерении донести выдвинутое против Него обвинение до Пилата рассматривали выражение «Царь Иудейский», в первую очередь, как посягательство Иисуса на светский титул. В другое время им бы, наверное, не пришло такое в голову, поскольку религия и политика являлись в Иудее взаимосвязанными, неотделимыми понятиями. Но, похоже, тогда сама жизнь внесла коррективы, подсказала реальную возможность их разделения. Ведь незадолго до этого Ирод Великий, по сути, устранил в своем царстве теократию и предпринял последнюю в истории Израиля попытку создать светскую монархию, проведя, по утверждению крупнейшего знатока римской истории Т. Моммзена, «четкое разделение государственной и церковной власти»20.
В этой связи принципиально важно обратить внимание не только на отсутствие у Иисуса интереса к захвату светской власти, но и на то, что еврейские иерархи это осознавали. Он мог войти в Иерусалим как Мессия. Но не в том понимании, которое господствовало тогда в Иудее. И не как Царь, рассчитывающий обрести реальную политическую власть. А тем более захватить ее насильственным путем. Наоборот, когда (после явленного Иисусом чуда умножения хлебов) люди решили вознести Его на реальный трон, Иисус «узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин. 6:15), вынужден был поспешно удалиться. По той же причине Иисус остановил Петра, выхватившего во время Его ареста меч. Брюс М. Мецгер писал: «Это было Его прямым „нет“ политическому и военному мессианизму».
В словах Иисуса, обращенных к людям, отсутствовали призывы к захвату власти и мятежам. Самое удивительное, что в Его словах вообще сложно выделить какую-то крамольную новизну. Упомянутый В. Фрикке не случайно приводит слова Г. Тилике о том, что Иисус «не произнес практически ни единого слова, которое нельзя было бы прочесть в раввинистической литературе до него, причем почти в той же форме».
Большинство ключевых христианских понятий действительно можно найти в Ветхом Завете, особенно в книгах Даниила, Захарии, Исайи и Псалмах. То есть многие кирпичи, заложенные Иисусом в фундамент христианского здания, вначале обжигались в иудейской печи. Вместе с тем, Он каким-то непостижимым образом сумел придать ветхозаветным нормам совершенно иной, качественно новый смысл. Эта непостижимость завораживает – скромный проповедник из Галилеи, рассказывавший простым людям не всегда понятные для них притчи и совершавший различные чудеса и исцеления, в итоге сотворил самое великое чудо: мир уверовал в Него.
Почему?
В чем «феномен» Иисуса и почему Его враги объединили свои усилия?
В отличие от Ветхого Завета, где в основном говорится об отношениях между Богом и избранным народом, Иисус выдвинул на первое место отношения между Богом и каждым конкретным человеком. И при этом в наглядной и доступной форме показал, что истинный Бог совсем не такой, каким Его до этого представляли иудеи.
В трудах некоторых богословов присутствует крайне важная для настоящего исследования мысль о том, что Иисус дал людям критерии понимания истинного Бога, указал путь к Нему21.
А. П. Лопухин в «Толковой Библии» восклицает: «Нет, – это правда – иудеи на самом деле совсем не знают истинного Бога!». Надо признать заслуживающими внимания утверждения Джона Ричиза (Н. Т. Райт приводит их в своей книге) о том, что «фарисейский иудаизм ошибочно (по крайней мере, не вполне адекватно) представлял себе истинного Бога, Иисус же „трансформировал“ эти воззрения в правильные», изменив «базовые представления о Боге, человеке и мире»22. Он, по сути, выступил Обличителем того искаженного представления о Боге, которое сложилось у иудеев.
Проблема заключается в том, что единый Бог, упоминаемый и в Ветхом, и в Новом Завете, в представлении иудейских судей, являлся только и исключительно Богом Яхве – грозным, недоступным для людей и бестелесным. Поэтому обвинения Иисуса, представшего перед судом в человеческом облике, могли судьями рассматриваться в связке с понятием – «бог иной». А это означает, что Иисуса могли обвинить в призывах поклоняться идолу.
Из синоптических Евангелий следует, что Сам Иисус открыто никогда не говорил о том, что Он – Бог. И даже в первых главах Евангелия от Иоанна Он не отождествляет Себя с Богом, изрекая: «Бога не видел никто никогда», «Ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели» (Ин. 1:18; 5:37). В то же время Он не раз давал понять ученикам – кем является для Него Бог и кто Он есть Сам.
Истину о Себе Иисус открыл, произнеся слова: «никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27; Лк. 10:22).
Такого рода притязания могли представлять опасность для иудейских иерархов и стать основанием для предъявления Иисусу обвинения в посягательстве на основы иудейской религии. А конкретно – в идолопоклонстве и богохульстве. Возможно, по этой причине Он не объявлял себя Мессией публично и практически никому не говорил открыто о Своей мессианской роли. Однако какие-то слухи о претензиях Иисуса на единосущие с Богом-Отцом, наверняка, стали известны Его обвинителям еще до суда. Иоанн пишет: «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18).
Есть основания считать предъявленные Иисусу обвинения взаимосвязанными. Книжники и законники из числа фарисеев оказались в числе обвинителей, поскольку Иисус обличал их в искажении Моисеева закона. Они же полагали, что Он Сам подвергал этот Закон недопустимой корректировке, не имея на то полномочий. И при этом, с каждым днем завоевывал все большую популярность среди простых людей, духовными наставниками и законоучителями которых они себя считали. Поэтому в фарисейской среде могли доминировать такие мотивы, как ярость и зависть, замешанные на боязни потерять свои религиозные привилегии. Пилат, согласно Матфею и Марку, это понимал, полагая, что Иисуса предали на смерть из зависти (Мф. 27:18; Мк. 15:10).
Исходя из сказанного, основной пункт обвинения, выдвинутый фарисеями и книжниками против Иисуса, мог сводиться к подстрекательству Им народа с целью отпадения от иудейской религии и к отрицанию Им Торы. В той, разумеется, трактовке Закона, которая предлагалась фарисеями. Своей же трактовкой Иисус, по их мнению, сбивал Израиль с истинного пути, подрывал основы иудейской веры.
Что касается саддукеев, то их испугало, что Иисус проповедует и действует, как «власть имеющий» (Мк. 11:27—28). Поэтому основной обвинительный тезис саддукейских первосвященников мог заключаться в покушении Иисуса на их властные функции, неразрывно связанные с Храмом, которому Иисус, по их мнению, противопоставил идею о Царстве Божием. Они опасались, что любое посягательство на монополию Храма могло подорвать финансовое могущество саддукеев.
Что касается обвинения в притязаниях на власть путем присвоения титула Царя Иудейского, то, как уже сказано, первосвященники понимали, что Иисус не претендует на этот титул. Но они видели, что этого желают люди, объединившиеся вокруг Иисуса. Часть из них даже решила сделать Его Царем. А это, по мнению саддукеев, может перерасти в фазу открытого противостояния не только с ними, но и с римской властью. Первосвященник Каиафа, одним из первых интуитивно почувствовавший исходящую для его клана угрозу, произнес слова, которые многое объясняют в деле Иисуса:
– Пусть лучше один Человек погибнет за народ, чем весь народ – за одного Человека (Ин. 11:50; 18:14).
Сказанное дает основание полагать, что Анна и Каиафа с самого начала были намерены руководствоваться в деле Иисуса не столько иудейскими законами, сколько мотивами политической целесообразности. Закон же под нее лишь подстраивали.
Но что это был за закон?
3. Не по букве Закона
Даже поверхностный анализ ветхозаветных правовых норм показывает, что синедрион при рассмотрении дела Иисуса не руководствовался фундаментальными основами правосудия, изложенными в Моисеевом законе. Поскольку этим законом не допускалось объективное вменение и осуждение при отсутствии вины. Его не могли судить и по нормам саддукейского уголовного кодекса. Этот кодекс является, скорее всего, плодом воображения историков. Но даже если он и существовал, то в любом случае был отменен фарисеями за столетие до исследуемых событий. А вот мишнаитский (фарисейский) кодекс – историческая реальность. И весьма вероятно, что значительная часть устных правовых норм, позже вошедших в письменный законодательный свод, именуемый «Мишна», во времена Иисуса уже могла применяться судами при разрешении конкретных дел.
Иисус отвергал галаху (иудейские законы, вытекающие из Торы), «как неадекватное выражение воли Божией, содержащейся в Писании»23. Следовательно, Он отвергал и связанный с галахой безусловный авторитет законоучителей и книжников. В любом случае, констатируя, что Иисус посягнул на их исключительные полномочия, исследователь вправе допустить, что именно эти обстоятельства и побудили Его противников расправиться с Ним, используя ту же галаху. Вероятно, по этой причине в Евангелии от Иоанна сказано, что первосвященники решили Иисуса убить, а не осудить (Ин. 11:53). Д. Мережковский, обращая внимание на это обстоятельство, писал, что «закон не судит Христа, а убивает».
Но для того, чтобы убить, не обязательно допускать многочисленные нарушения древнееврейских правовых норм. Убить можно, формально не нарушая закон. Как раз для этих целей в древнееврейском праве усилиями фарисеев был создан институт чрезвычайного правосудия.
Еврейские историки и раввины особо не афишируют этот пласт правовой истории. Но и не отрицают, что в древнееврейском праве действовали особые процедуры, позволявшие в исключительных случаях вершить правосудие «не по букве закона». В кодексе Маймонида (Рамбама)24 «Мишне тора» можно найти немало законоположений о том, что «исполнение каких-то заповедей Торы может быть временно отменено судом в качестве исключительной меры», и наказывать суд может «другими способами»25.
Наиболее полное и точное изложение этого вопроса можно найти у одного из крупнейших специалистов в области еврейского права Менахема Элона. Он сгруппировал следующие правоприменительные правила «не по букве закона»:
а) Суд был «вправе постановить, что некую конкретную заповедь, которую закон Торы обязывает исполнить, исполнять не следует».
б) Суд мог наказывать не по Торе, причем даже в тех случаях, когда отсутствовали достаточные доказательства (имелись «только косвенные свидетельства») и не было «предупреждения, требуемого по закону Торы».
в) Суд был вправе в качестве временной меры «выносить постановления, содержащие в себе отмену закона из Торы», исходя из «веления времени», с тем, чтобы оградить людей от преступления и «вернуть многих к соблюдению заповедей».
г) Суд мог «при особых обстоятельствах отменить закон Торы… если в этом есть «причины, смысл и основание»26.
Введение таких чрезвычайных норм, призванных обойти Моисеев закон, обосновывалось необходимостью сооружения «ограды вокруг Торы». Поскольку Тору «устрожать» было нельзя, использовали юридическую уловку – «устрожили» не саму Тору, а ограду вокруг нее.
Подробный анализ законоположений и конкретных случаев, когда допускалось применение особых процедур и правил, приведено в моих книгах27. Перечислю их:
1. Закон о допустимости ненадлежащего свидетельства.
2. Закон о необязательности предупреждения.
3. Закон о «тайном розыске» (засаде).
4. Закон о допустимости осуждения на основании собственного признания.
5. Закон о клятве как способе восполнить нехватку доказательств.
6.Закон об обольстителе (совратителе) в идолопоклонство, позволявший судить без исследования оправдательных доводов
7. Закон, не допускавший возможности оправдания после вынесения приговора.
8.Закон, допускавший изъятие из «правила одного дня»28.
И это далеко не полный перечень. Например, по делам особой подсудности не действовало положение о том, что более авторитетные судьи и председатель суда должны высказываться последними. Или, как хорошо известно историкам, основанием для возникновения экстраординарных судов часто являлись доносы, а их проведению сопутствовали фабрикация доказательств и «выбивание» признательных показаний путем физического воздействия. И хотя древнееврейское право не допускало насилия даже в виде исключения, есть основания говорить, что в деле Иисуса эти методы тоже были задействованы. Так, евангелисты отмечают, что Иисуса после ареста неоднократно подвергали физическому насилию: на допросе у Анны (Ин. 18:22) и в ходе ночного суда (Мф. 26:67; Мк. 14:65; Лк. 22:63—65).
Запрещение использовать для осуждения человека донос (заведомо ложные сведения) вытекало из предписания в книге Левит: «Не творите кривды в суде» (Лев.19:15). Между тем, основанием для возбуждения дела по закону об оскорблении римского величия, как далее будет показано, являлся донос. По делу Иисуса он был облечен в форму вынесенного синедрионом вердикта.
Вышеизложенное практически не оставляет сомнений в том, что при рассмотрении дела Иисуса синедрион применил чрезвычайные нормы. Все приведенные изъятия из общих правил судопроизводства на практике означали для человека, обвиняемого в подстрекательстве к идолопоклонству, его изначальную виновность. Он сам должен был доказывать свою непричастность к инкриминируемому преступлению. И если не мог или не хотел этого делать, то приговаривался к смертной казни.
В этой связи надо заметить, что к числу исключений из общих правил древнееврейского судопроизводства могут быть отнесены и те «грубейшие нарушения», которые считаются основными и чаще всего приводятся авторами, отрицающими историчность и достоверность описанного евангелистами суда над Иисусом. К таковым относятся утверждения о незаконности проведения судебных разбирательств синедриона: а) вне Храма; б) в субботу, в праздники, а также накануне этих дней; в) в ночное время.
Здесь скажу кратко – это ошибочные утверждения, о чем также подробно изложено в моих книгах.
Высказывается множество версий о том, почему суд синедриона над Иисусом Христом проходил вне Храма (спешка перед Пасхой; желание первосвященников скрыть факт суда от людей; ремонт в Храме29 и др.). Поэтому нельзя воспринимать как исторически неточное сообщение евангелистов Марка и Матфея о том, что члены синедриона собрались для проведения судебного разбирательства в доме первосвященника Каиафы.
Но мог ли суд «71-го» проводить судебное разбирательство вне Храма?
По мнению большинства исследователей, проведение судов за пределами храмовой территории было нелегитимным. Не согласен с таким мнением. Соответствующее запретительное законоположение было введено позже. А правовые нормы Пятикнижия никак не связывали местонахождение Верховного суда с Храмом. Его тогда просто не было.
Применительно к территориальному расположению иудейских судов в Моисеевом законе можно найти лишь общее указание на некое «место, которое изберет Господь» (Втор. 17:8—10), а также упоминания на Скинию (Исх. 25:8; Чис. 11:16) и жилища (Втор. 16:18). Или в еврейском варианте – врата (Двар. 16:18). Не содержалось в Пятикнижии и прямых запретов на проведение судов ночью и в праздничные дни.
Евангелисты свидетельствуют, что перед утренним заседанием, упомянутым Лукой (Лк. 22:66), состоялось еще одно – ночное заседание синедриона, которое принято считать незаконным30.
Не будем приводить аргументы тех историков, которые, ссылаясь на предписание Мишны о проведении судов только в дневное время (Санхедрин 4:1), убеждены в неофициальном характере ночного заседания. Зачастую такая убежденность является следствием поверхностных представлений о синайском законодательстве. Ведь Моисеев закон не содержал прямого запрета на проведение судов ночью. Напротив, обратившись к книге Исход/Шмот, мы увидим, что Моисей разрешал суды «во всякое время» (Исх. 18:14—26). Об этом сказано в главе «Итро», в которой, кстати, впервые упоминается о судьях.
«Во всякое время» – это значит, и днем, и ночью, и в праздники, и в будни.
Между тем, сторонники гипотезы о многочисленных нарушениях Закона, допущенных при рассмотрении дела Иисуса, об этом повелении Моисея похоже подзабыли и, ссылаясь на Мишну, окончательно сформированную лишь в начале III века н.э., настаивают на незаконности ночного суда.
Тезис о том, что в ночное время нельзя было рассматривать дела, является ныне господствующим. Хотя есть и другие мнения. М. Абрамович, например, писал: «Тора не запрещает напрямую судопроизводство ночью, поэтому формально саддукеи могли собрать Малый синедрион в пасхальную ночь»31.
Они, возможно, именно так и поступили. В Тосефте, описывающей засаду, устроенную для совратителя в идолопоклонство Бен-Стады (Иисуса Христа), говорится: «…и они [затем] привели его в суд, и его побили камнями. Начинают [разбор] его дела и кончают даже ночью [того же дня]; начинают и кончают в тот же день, как при оправдательном приговоре, так и при обвинительном…»32.
Теперь о том, допускалось ли проведение судов в праздники.
Правовая норма о запрете проведения суда как в праздники (включая субботу), так и накануне этих дней (если за преступление предусматривалась смертная казнь), хорошо известна. Основной довод таков – после первого судебного разбирательства могли появиться основания для оправдания, и поэтому закон предписывал выносить смертный приговор «на следующий день» (во втором судебном заседании). «Поэтому не судят ни в канун субботы, ни в канун праздника» (Мишна. Санхедрин 4:1).
Между тем, суд и распятие Иисуса состоялись в течение отрезка времени, который можно ограничить предпасхальными сутками. И это обстоятельство широко используется авторами, считающими евангельское описание судебного процесса недостоверным.
Между тем, в древнем иудейском законодательстве есть такое понятие – «холь га-моэд». Это полупраздничные дни – как раз те, упомянутые дни пасхальной недели (между первым и седьмым днями). В эти дни, между прочим, допускалось делать работу, которую сложно было перенести на другое время. Принцип «холь га-моэд» учитывался и при проведении судебных разбирательств. Например, в кодексе Маймонида сказано: «Если подсудимому грозит смертная казнь в холь га-моэд, то суд изучает его дело весь день, и судьи едят и пьют; приговор выносится незадолго до захода солнца и тогда же приводится в исполнение»33.
По общему правилу в праздничные дни запрещалось не только судить, но и приводить приговор в исполнение, то есть казнить преступника. Кроме того, казнь нельзя было откладывать: «осужденный на смерть, должен быть убит в тот же день, нельзя откладывать казнь» (Законы о Санхедрине 12:4). Отсрочка казни считалась по закону «судебным истязанием».
Но и эти правила предусматривали исключения. В некоторых случаях применялись законоположения, предписывавшие казнить преступника именно в праздник. А если суд состоялся раньше – откладывать казнь до праздника. Поэтому суд над Иисусом могли специально провести накануне праздника, с тем, чтобы казнь состоялась в праздник, когда в Иерусалим прибывали тысячи паломников со всей страны.
Маймонид, изучив древнейшие тексты, насчитал всего четыре таких случая, в том числе подстрекательство к идолопоклонству. Все эти преступления выражались в злостном нарушении предписаний Торы, в отступничестве от Закона.
Аналогия с делом Иисуса, который, вероятно, был осужден и казнен накануне Великой субботы за подстрекательство к идолопоклонству, и здесь видна невооруженным взглядом.
Далее следует сказать, что в те годы законоучители-мудрецы уже разграничивали формальное нарушение, допускаемое теми, кто «ведет дела по субботам», и содержательную сторону самого дела. Об этом, в частности, писал М. Элон, цитируя Маймонида: «того, кто продает и ведет дела по Субботам, а также по праздникам, подвергают порке, но дела его имеют законную силу (Рамбам)»34.
Применительно к судебной сфере приведенное галахическое правило четко разделяло правила судопроизводства (процессуальную часть) и содержание судебного решения (материальную часть). То есть, нарушение судебной процедуры вовсе не означало, что сам вердикт незаконен.
Следы подобного рода разграничений можно обнаружить в нескольких трактатах Мишны (Беца и др.).
Таким образом, если объективный исследователь допускает возможность применения синедрионом проанализированных чрезвычайных норм, то он должен признать, что суд над Иисусом мог проходить так, как это и было зафиксировано евангелистами, а позднее описано Маймонидом в уже приводимой формуле: «ни свидетелей, ни предупреждения, ни суда». А значит, квалификация деяний Иисуса имела отношение к идолопоклонству. В пользу этой версии свидетельствует сразу несколько ключевых моментов, зафиксированных в Евангелиях. К тому же, они не только позволяют объяснить и снять ряд евангельских «противоречий», но и согласовать евангельские свидетельства с иудейскими источниками. Ведь, согласно последним, только лжепророков, подстрекавших (соблазнявших) к идолопоклонству: