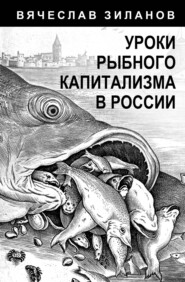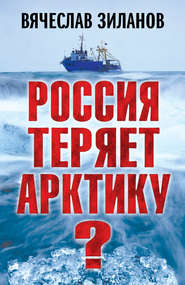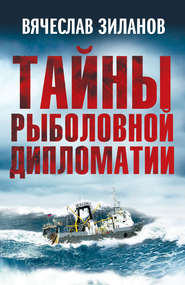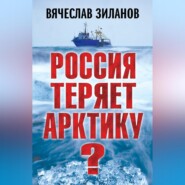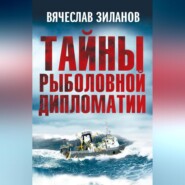По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайны рыболовной дипломатии
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В думах о прошлом
Тема переговоров весьма сложная – рыболовство в 200-мильной, так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена, введенной Норвегией в 1977 году. А точнее – в советском понимании – в районе, подпадающем под действие Договора о Шпицбергене 1920 года. По этому Договору Норвегия получила полный суверенитет над Шпицбергеном и другими островами, но на определенных этим Договором условиях. Одно из этих условий – равные права всех участников Договора о Шпицбергене на занятие экономической деятельностью, включая рыболовство. Советский Союз – один из равноправных участников этого Договора. Следовательно, у нас есть право на занятие рыболовством. У норвежцев несколько иное понимание. Они, используя положение Договора о Шпицбергене, и главное, основываясь на своем полном суверенитете над островами и изменившемся международном праве, объявили в июне 1977 года вокруг островов 200-мильную «рыбоохранную» зону, в которой твердо намерены осуществлять свою юрисдикцию. Наша страна направила норвежцам резкую ноту протеста против установления такой зоны. Причин к такому шагу было много. Основная все же – особое значение для рыболовства района Шпицбергена.
В отдельные годы наши рыболовные суда берут здесь от 20 до 50 % годового улова в Баренцевом море. А это ни много ни мало 100–420 тыс. тонн трески, мойвы, палтуса, сельди, окуня, зубатки и других весьма ценных видов рыбы. Да и вся история освоения и открытия районов рыбного промысла в зоне архипелага Шпицберген, островов Медвежий, Надежда связана с русскими исследователями, капитанами, учеными, рыбаками. Здесь нами были открыты запасы окуня, и этот район был назван банкой Копытова, в честь мурманского капитана известного промысловика, промразведчика – Степана Дмитриевича Копытова. А один из видов окуней этого района – окунь-клювач – носит название Травина, в честь описавшего его впервые ученого ПИНРО Валентина Ивановича Травина. Именно российские рыбаки и ученые впервые в Медвежинско-Шпицбергенском районе открыли и освоили запасы синекорого палтуса. Да и по треске наши достижения в этом районе общепризнанны. Намного южнее острова Надежда лежит район Демидова, который частично входит в район Договора о Шпицбергене, он назван в честь открывшего его капитана мурманского тралового флота Ивана Николаевича Демидова.
Трал с уловом трески не менее 70 тонн поднят на борт российского рыболовного траулера в Баренцевом море
Есть множество фактов нашего приоритета в освоении и открытии этих районов. Имеются и широко признанные рыбные открытия внутри страны. Еще в предвоенные годы, а точнее – в 1939 году, деревянный зверобойный бот ПИНРО «Николай Книпович», переоборудованный под дрифтерный лов, под руководством начальника рейса, в последующем профессора Ю. Марти и капитана П. Полисадова впервые обнаружил у о. Медвежий промысловые скопления сельди. К ним подошел поисковик «Авангард», которым командовали капитан Е. Едемский и научный сотрудник С. Захаров. За 18 дней они взяли и доставили в Мурманский рыбный порт первые 25 тонн крупной, жирной сельди. Война временно прервала освоение этого района.
В 1946–1949 годах в районе архипелага Шпицберген, впервые в мировой практике, на судах дрифтерного лова «Кашалот», «Рында», «Разведчик 1», «Разведчик 2», «Харлов» и «Смерч» была доказана возможность успешного промысла в северных Медвежинско-Шпицбергенских широтах крупной сельди, названной в последствии «полярный залом». За это открытие группе ученых, специалистов, капитанов – Ю. Марти, Б. Мантейфелю, С. Михайлову и Г. Королькову была присуждена Сталинская, в последующем называемая просто – Государственная премия. В правительственном решении так и было обозначено: «За открытие и освоение нового сельдяного промысла в Баренцевом море».
В 1950—1970-х годах район Медвежинско-Шпицбергенский приобрел для отечественного рыболовства большое значение как район промысла, прежде всего, донных рыб – трески, окуня, палтуса, зубаток, камбалы-ерша, мойвы, креветки. Этот район играет ведущую роль в отечественном промысле при охлаждении восточных районов Баренцева моря. Косяки рыб изменяют миграции и предпочитают в этих случаях более теплые воды Медвежинско-Шпицбергенского района. До введения норвежцами 200-мильной «рыбоохранной» зоны вокруг архипелага Шпицберген и других островов наш флот вел промысел на основе действующих национальных и международных правил рыболовства и отчитывался об уловах перед своими властями и международными организациями. Сейчас же норвежцы все это, включая инспекцию на промысле судов, намерены осуществлять своими силами. А при выявлении нарушений правил рыболовства – арест судов и санкции в соответствии с решением норвежских судов и по норвежским законам. Такой подход нас не устраивал, так как противоречил положениям Договора о Шпицбергене 1920 года. Необходимо было найти взаимоприемлемое решение этой непростой проблемы. Какой выход может быть?
Неожиданное знакомство
Мои раздумья прерывает стюардесса: «Что будете пить? Соки, шампанское, вино или, как всегда, коньяк?» Последняя фраза окончательно вернула в действительность. Смотрю на стюардессу и как-то по-детски радостно говорю: «Надя, опять мы с Вами летим?» Она, улыбаясь, кивает. Ранее много раз на американо-канадском направлении Надя часто обслуживала салоны наших авиалайнеров и профессионально помнит летающих государевых службистов и запоминает вкусы пассажиров. Отвечаю: «Соком обойдемся, спиртное один не пью».
Сосед в левом ряду меня «выручает»: «А вы ко мне подсаживайтесь, я тоже один не пью». Пересаживаюсь в его ряд. Знакомимся. Приятный спокойный голос: «Евгений Львович». Я: «Вячеслав Константинович».
Как правило, в полете первый тост – за удачный взлет, затем за знакомство, и потекла беседа – обычная, полетная. Ничего не значащий вежливый разговор: как регистрируют, как границу проходят у нас и у них, и т. д. Почувствовав взаимное расположение, начинаем обмениваться фразами о цели поездки, и кто чем занимается. Инициатива за собеседником – он старше меня лет на 20–25 лет.
Помолчав какое-то время и чуть понизив голос, Евгений Львович говорит, что он физик-математик, занимающийся кибернетикой, был вовлечен в атомный проект и направляется в Берн на празднование 100-летия со дня рождения Альберта Эйнштейна. Направлен от АН СССР в единственном лице и что он удивлен, почему ему это доверили, а главное – как это одного отпустили. В целом по секретности он – невыездной, и это его первая за послевоенный период поездка. К тому же английского языка он не знает, а предстоит пересадка в Цюрихе на автобус для следования в Берн. Да, у него есть некоторые познания немецкого, так как этот язык близок к идиш, на нем умеет писать и говорить. Успокаиваю собеседника, что его обязательно встретят либо организаторы чествования великого Эйнштейна, и уж точно – кто-нибудь из посольства. Для убедительности говорю, что я тоже без знания английского, и мне из Цюриха надо переехать в Женеву, где проходит сессия III Конференции ООН по морскому праву, где я должен присоединиться к советской делегации как специалист-рыбник. И это действительно так. Своеобразная «крыша» для спокойных, без привлечения лишнего внимания, доверительных переговоров с норвежцами по деликатной теме Шпицбергена. Последнее, конечно, я не говорю.
Машинально слушаю рассказ собеседника об Альберте Эйнштейне и связях зарубежных физиков со своими советскими коллегами. Сам размышляю: я ведь тоже «секретоноситель», то есть знакомый с секретными документами, представляющими в то время государственную тайну, тоже – впервые в одиночестве выезжаю в зарубежную, да еще и в западную капиталистическую страну. В прошлом это всегда случалось вместе с делегациями, формируемыми Минрыбхозом или МИДом. Члены же советской делегации, с которыми я буду работать в этой загранкомандировке, уже находятся в Женеве в составе большой нашей делегации на Конференции ООН по морскому праву. А раз я лечу один, да еще «секретоноситель», то меня обязательно будут встречать наши из посольства или из консульства. Отсюда и моя уверенность, что и Евгения Львовича встречать обязательно будут. Мои размышления прерывает собеседник: «А что значит “специалист-рыбник”? И каково влияние рыбников на ход Конференции ООН по морскому праву?»
Увлеченно объясняю значение морского рыболовства для нашей страны в обеспечении продовольствием, прежде всего – белками животного происхождения, систему организации исследований и поиска новых районов добычи, формы экспедиционного промысла и прочие повседневные рыбацкие дела. Евгений Львович поражается масштабности отечественного рыболовства, его удивляет простая и продуманная форма экспедиционного океанического промысла и особенно продолжительность рейсов – иногда более 150 суток, а также институт промразведок, как система поиска и открытия новых районов и объектов лова.
«У нас, физиков, – поясняет он, – есть теория, экспериментальные установки для опытной проверки теоретических разработок – и то не все получается. А как вы в безбрежном океане находите те или иные признаки, что там есть крупные скопления рыбы или же их нет?» Поясняю: «Да и у нас кое-что базируется на теоретических обоснованиях. Например, открытие и освоение запасов глубоководных рыб – окуня, макрурусов, палтуса, атлантической сайры – основывались на теоретических обоснованиях. Хотя все же многие районы и объекты были открыты благодаря практике, опыту капитанов, ученых-биологов, океанографов, находящихся в рейсах поисковых и научно-исследовательских судов. Да что говорить! Часто просто чутье поисковика, интуиция делают чудеса открытия новых объектов и районов лова. К таким можно отнести организацию промысла мойвы в Северо-Западной Атлантике на Большой Ньюфаундленской банке или промысел макруруса, палтуса на Канадо-Гренландском пороге, окуня и макруруса на хребте Рейкьянес и на подводных возвышенностях Серединно-Атлантического хребта». В своих пояснениях я использую карты, которые имелись в буклетах, журналах, разъясняющих перелетные трассы авиалайнеров. Рассказываю про авиаразведку и попытку использования подводных лодок для исследования и поиска рыбы и других обитателей океана. Такие исследования на переоборудованной подлодке «Северянка» велись у нас в Северном бассейне. Все это заинтересованно и с массой вопросов выслушивает Евгений Львович.
В свою очередь он посвящает меня в свою загадочную профессию и в теорию относительности Эйнштейна. Говорит о том, что у него родственница работает в ВНИРО, изучает моллюсков.
На госпремию не выдвигались?
Когда капитан лайнера объявил, что через час мы приземлимся в Цюрихе, собеседник предложил обменяться визитками. Изучив мою, Евгений Львович неожиданно задает вопрос: «А вы не выдвигались на Государственную премию?»
Автоматически под впечатлением интересной беседы отвечаю: «Да что вы! До этого еще не дорос. Нет, не выдвигался».
«Не может быть, чтобы я ошибался, – слышу в ответ. – У меня хорошая память на фамилии и отдельные необычные факты. А необычайность в том, что хорошо запомнил вашу фамилию – Зиланов, потому что она стояла перед фамилией другого соискателя Госпремии – Филиппова, который в алфавитном порядке должен идти в конце всех других соискателей. А он почему-то был впереди всех. Да и работа была по рыбной теме. Дело в том, что я, – пояснил далее Евгений Львович, – являюсь одним из членов комиссии по присуждению госпремий».
Упоминание фамилии Филиппова и рыбной тематики возвращают мою память к далекому 1974 году. Тогда действительно была выдвинута Северным бассейном, а точнее Главным управлением рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба», на соискание Государственной премии СССР работа «Открытие новых районов и объектов рыболовства в Северной Атлантике и их промышленное освоение». На титульном листе этой работы был обозначен следующий авторский коллектив: Филиппов А. И. – руководитель работы, Зиланов В. К., Каргин М. И., Кудрин Б. Д., Константинов К. Г., Кособуцкий В. А., Лука Г. И., Немыченков В. А., Печеник Л. Н., Пономаренко В. П., Стромилов В. Д., Трояновский Ф. М.
В комиссии по госпремиям работа длительно рассматривалась в течении конца 1974 и всего 1975 годов, но безрезультатно. Премия не была присуждена. Причины отклонения официально в то время не указывались. Неофициально – слухи были разные. Что, дескать, среди авторского коллектива нет ни одного из представителей от Мурманского обкома и даже от Минрыбхоза СССР. Более того, выдвижение самой работы осуществлено только Главком «Севрыба» и Мурманским областным правлением научно-технического общества пищевой промышленности. А для уверенного прохождения работы надо было к ним добавить отдел рыбной промышленности Мурманского обкома либо Горисполкома. Да и Минрыбхоза бы не помешало. Причины такого отступления от общепринятых позиций, а вернее – игнорирования власть имущих лежали в характере руководителя работы – начальнике Главка «Севрыба» Анатолии Ивановиче Филиппове. Человек властный, талантливый организатор, ценящий людей за конкретные дела, пренебрегающий словесной трескотней и считающий, что власть – властью, а все практические дела в области экономики, благополучия населения Северного бассейна делают простые рыбаки, ученые, практики. И нечего примазываться различным партийным функционерам и другим к делам, которые они не понимают, да и ничего в этом путного не сделали.
Начальник промразведки – опытный в прошлом министерский работник Леонид Натанович Печеник, тоже выдвинутый в число авторского коллектива, пытался и не раз уговорить Филиппова ради успешного прохождения работы ввести в авторский коллектив одного партийного функционера от Мурманского обкома партии и одного заместителя министра или начальника Управления от Минрыбхоза. Но для этого надо было исключить из списка двух специалистов от «Севрыбы», так как по положению авторский коллектив не должен быть более двенадцати человек. Более того, самыми молодыми соавторами работы – мною, Трояновским Ф. М. и Лукой Г. И. – было дано согласие на исключение нас из списка, ради включения других и прохождения самой работы. Однако Филиппов был тверд: «Никого не будет в числе соавторов из тех, кто не причастен к открытию и освоению новых районов и объектов лова». В таком виде работа и попала в комиссию по Госпремиям.
Весьма характерен для своего времени был авторский коллектив по своему национальному, партийному и профессиональному составу. Русских – 6, украинцев – 4, евреев – 1, белорусов – 1; членов КПСС – 9, беспартийных – 3; морских биологов (ихтиологов), практиков, ученых – 6, инженеров промрыболовства и практиков – 3, инженеров и техников судовождения (капитанов) – 3; более половины авторского коллектива были в возрасте до 38 лет. Буквально все авторы работы постоянно находились на переднем крае научных и практических дел широкомасштабного открытия и освоения новых районов лова и на этой основе расширяющегося рыболовства Севера. Словом, многонациональный состав, широкий охват по профессиям, преобладание молодости, все участвовали в конкретных делах по открытию и освоению новых районов и объектов лова. Был и экономический эффект, исчисляемый сотнями миллионов рублей. Завалить такую работу, казалось, почти невозможно. И, тем не менее, она не прошла.
Опытные члены авторского коллектива А. И. Филиппов и Л. Н. Печеник считали основной причиной отклонения работы именно отсутствие прямой поддержки партийных органов Минрыбхоза. К этому следует добавить, что и сам Филиппов был не в лучших отношениях с секретарями Мурманского обкома партии.
Кстати, к новым объектам и районам вовлечения в промысел были макрурус Северо-Западной Атлантики, хребтов Рейкьянес и Серединно-Атлантического; мойва Ньюфаундленда и Баренцева моря; черный палтус Исландии и Северо-Западной Атлантики; длинная камбала Северо-Западной Атлантики; атлантическая сайра (макрелещука) Северной Атлантики и сайка Баренцева моря. По оценкам 1974 года освоение этих объектов и районов лова давали возможность ежегодно добывать не менее 1,3–1,5 млн. тонн сырья.
«Отклонили-утопили»
Интересуюсь у Евгения Львовича истинными причинами отклонения работы комиссией по госпремиям. С приятным чувством узнаю, что на первом этапе все члены комиссии ее приняли благожелательно, и не было особого давления со стороны партийных органов и Минрыбхоза, хотя отдельные звонки со Старой площади и Рождественского бульвара с просьбой заволынить работу были. Правда, все же возник один процедурный вопрос – в какой секции ее рассматривать: по научным открытиям или промышленным достижениям? Это заняло изрядное время. Когда определили, что она должна идти по научной тематике с практическим уклоном, то был привлечен в качестве эксперта работы крупнейший ученый головного отраслевого института ВНИРО профессор П. А. Моисеев. Вот он-то, пояснил Евгений Львович, и был основным «отклонителем», а точнее «утопителем» работы.
Профессор не возражал против достоинства и практической ценности материала. Вместе с тем настойчиво подчеркивал, что он касается только объектов и районов Северной Атлантики, и в работе не представлены аналогичные отечественные открытия в других районах Мирового океана. Комиссия с его доводами согласилась и работу отставили в сторону. Говоря все это, Евгений Львович как-то виновато и искренне закончил: «Если бы я знал вас раньше, и все, что вы мне поведали о сложности поисково-исследовательских работ в океане, то обязательно добивался бы присуждения премии».
Услышав все это, я был поражен подобным подходом профессора П. А. Моисеева, тем более, что я его хорошо знал. О последнем, естественно, не сказал в самолетной встрече с Евгением Львовичем. На этой доброй ноте мы и расстались с ним в Цюрихе, хотя моя связь с ним в последующем не была потеряна.
В одну из наших встреч в Москве он мне подарил замечательное свое исследование, изложенное в книге «Кибернетика, логика, искусство», где показал, как великие умы, творящие чудеса в искусстве и делающие великие открытия в науке, пользуются двумя инструментами – интуицией и логикой. Безусловно, для первых большей составляющей является интуиция, а для вторых – логика и математические вычисления. Вместе с тем, только человек, обладающий интуицией и логикой, а также природным умом и талантом, способен на великие открытия. Все это в полной мере относится к такой деятельности, как поиск и открытие новых районов и объектов лова.
Долг платежом красен
В завершение поведаю читателям, что у меня все же состоялся откровенный разговор с профессором Моисеевым о его подходе к оценке нашей работы. Произошел он в ходе очередной служебной загранкомандировки – в далекой Новой Зеландии, куда мы с ним отправились с заданием подготовить проект межправительственного соглашения в области рыболовства. Профессор был намного старше меня и относился ко мне по-отечески, называя мягко – Вяче. Я отвечал взаимностью – мэтр, профессор.
В принципиальном плане Петр Алексеевич одобрял нашу работу и считал ее достойной Госпремии. Вместе с тем, он вежливо напомнил мне, что в свое время, несколько раньше, сам выдвигал одну из своих работ на Госпремию. Настойчиво просил начальника Главка «Севрыба» А. И. Филиппова поддержать ее и дать положительный отзыв. Ответа от последнего он не получил. Так что все по логике – долг платежом красен. И, тем не менее, мы с профессором сохранили замечательные человеческие и творческие отношения и дружно работали над некоторыми научными и практическими проблемами рыболовства.
Февраль 2006
Как развязать морской узел?
В России должна быть выработана национальная рыболовная политика
В последнее время проблемы рыбной отрасли вызывают постоянный интерес, как со стороны средств массовой информации, так и в правительственных кругах. Периодически сообщается об ошеломляющих суммах в валюте, которые якобы уплывают стараниями наших пахарей моря за рубеж. Цифры называют такие, что и Остапу Бендеру не снились: 500 млн. в год, 2 млрд, 4 млрд. и даже 10 млрд. долл. – почти полбюджета страны! Но вот беда – что-то никто до этих желанных миллиардов не доберется и никак их в страну не вернет. Не назван ни один капитан-рыбак – миллиардер; ни один из отечественных рыбопромышленников не вошел ни в какой-либо известный список богачей. Более того: отрасль все хиреет и хиреет. Если в 1990 году Россия добывала 7,5 млн. тонн рыбы, то в 1998-м – 4,5 млн. тонн, а в нынешнем году ожидается не более 4 млн. тонн. Аналогичное положение с производством пищевой рыбной продукции, консервов, кормовой рыбной муки. Одновременно с этим возрос экспорт, который доходил в отдельные годы до 1,5 млн. тонн. Увеличился и импорт – до 500–700 тыс. тонн. Потребление же рыбы населением России резко упало: с 20 кг в 1990 году до 9 кг в 1998-м. Рентабельность отечественной товарной продукции, по данным Счетной палаты Федерального собрания, составляла в 1990–1991 годах 19–37 %, а начиная с 1996 года она уже была минусовая (~ 2,2 %) и в 1998 г. достигла 7,1 %. К тому же кредиторская задолженность предприятий всех форм собственности намного превышает дебиторскую. Если исходить из этих показателей, отрасль – банкрот. Но как же могут у банкрота уходить за границу миллиарды долларов? Что вообще происходит в рыбном хозяйстве страны на самом деле?
Не претендуя на истину в последней инстанции, попробую на основе 45-летнего опыта работы в отрасли высказать свою версию.
С чего начался развал
Горбачевская перестройка экономики не стала для рыбаков откровением. К ее началу в отрасли уже насчитывалось более двух десятков смешанных рыболовных компаний и экспедиций. Работали они на территории иностранных государств, по рыночным законам. В США действовала компания «Совам», в Испании – «Совиспан», в Сингапуре – «Мориско», во Франции – «Франсов». Задолго до злобинских и травкинских начинаний на всех рыболовных судах существовала система индивидуальных трудовых паев: как работаешь, так и получай. Правда, львиную долю прибыли государство забирало в свою казну. Рыбаки терпели, так как все это окупалось строительством флота за счет той же казны, социальными гарантиями в виде повышенных районных коэффициентов, дополнительных отпусков, льготных путевок на курорты и т. д. Но уже тогда, во времена горбачевской перестройки и ельцинских реформ, стало ясно, что рыболовный флот, созданный под советскую плановую систему, оказался «тяжеловесен» в экономическом смысле и не сможет эффективно конкурировать в рыночной стихии с флотами других государств.
Большинство специалистов отрасли видело выход в эволюционном врастании в рынок, в параллельном на первых порах функционировании двух систем: старого флота, работающего по экономическим правилам «облегченного рынка», и нового, действующего только по рыночным законам. Постепенно вторые должны были заменять и вытеснять первых. Однако руководство страны придерживалось курса на разрушение старой управленческой системы, форсированный переход к либеральной экономике и грабительскую ваучерную приватизацию. Чтобы сломить сопротивление отраслевиков, было принято решение ликвидировать Министерство рыбного хозяйства и создать взамен Комитет по рыболовству при Минсельхозе. Полным ходом пошли развал отрасли, разгон кадров и разбазаривание – путем приватизации – основных фондов. В 1990 году Россия добывала 7,5 млн. тонн рыбы, а уже в 1994-м – всего 3,7 млн. тонн. Отрасль трещала по всем швам. Штаб же ее в последние семь лет реформировался шесть раз: Министерство рыбного хозяйства – Комитет по рыболовству при Минсельхозе – Комитет по рыболовству при правительстве – Государственный комитет по рыболовству – департамент при Минсельхозе – Госкомитет по рыболовству. Поистине достойно занесения в Книгу рекордов Гиннесса! Мотивировались все эти новации необходимостью создания функционального федерального органа по рыболовству, а не отраслевого. Если это так, то надо было менять не названия, а функции. Словом, подтвердилось известное правило: когда руководство государства не знает, что делать, оно меняет вывески и кадры.
Кому мешает Госкомрыболовство?
И все же даже в этих условиях рыбаки, пережив шок реформ и опираясь на восстановленный в 1994 году федеральный орган – Государственный комитет по рыболовству, начали постепенно выправлять положение. Была упорядочена работа судов в море, образованы общественные ассоциации и объединения рыбаков, освоены особенности кредитования флотов, началось некоторое обновление его, создан свой Рыбхозбанк, установились новые экономические взаимоотношения с зарубежными партнерами. Вылов рыбы возрос с 3,5 млн. тонн в 1994 году до 4,5–4,7 млн. тонн в 1996–1997 годах. И тут грянуло очередное реформирование отечественного рыболовства – вновь без всякого гласного обсуждения среди специалистов-рыбников и в приморских регионах, которых это реформирование прежде всего касается.
На этот раз борьба за передел полномочий среди федеральных органов власти связана с передачей охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере Федеральной пограничной службе, которая впервые и оповестила общественность о том, что рыбаки уводят за рубеж 4 млрд. долл. в год. То, что охранять морские границы и контролировать обстановку в приграничном пространстве – обязанность ФПС, вряд ли требует обсуждения. Вместе с тем сама охрана – это только небольшая, пусть и важная, часть всего комплекса проблемы управления морскими живыми ресурсами. Этот комплекс включает еще и мониторинг рыбных запасов, определение научно допустимого вылова, разработку правил рыболовства и контроль за их соблюдением, установление сезонов и способов лова, распределение допустимых уловов среди субъектов Федерации и промышленниками, международные связи, рыболовную политику и т. д. Кто этим всем будет заниматься на федеральном уровне? Ясно, что не ФПС и не Госкомэкология, а Государственный комитет по рыболовству, который теперь, одумавшись, воссоздали. Кадры его, однако, разогнали. Дескать, слишком уж отстаивают свои отраслевые, не рыночные отношения…
О том, почему периодически повторяются эти разгоны, среди рыбаков – в отсутствие вразумительных официальных объяснений – циркулируют различные домыслы и версии. Последних имеется три.
Версия первая, политическая. Лидер ЛДПР Жириновский уже не раз высказывал желание «порулить» рыбным ведомством. К тому же рыбаки всячески противятся передаче Японии Южных Курил. Вот и добивают то Госкомрыболовство, то его кадры – с тем, чтобы Жириновскому было не на что претендовать и некому было в Москве отстаивать интересы рыбаков, промышляющих у Южных Курил.
Версия вторая, экономическая. Пора ввести либеральные рыночные отношения в сфере пользования рыбными ресурсами и передать управление ими другим ведомствам. Госкомрыболовство оказывается помехой этому денежному дележу.
Версия третья, силовая. Криминальная активность в рыбной отрасли достигла небывалых масштабов, и все, что связано с охраной морских ресурсов, необходимо поручить силовикам – морским пограничникам. Вот только беда – денег на эти цели в бюджете нет. Но уже наготове обоснование: за рубеж якобы утекает то ли 2, то ли 4, то ли 10 млрд. долл. ежегодно, и спасти эти деньги можно только при условии дополнительного финансирования силовиков (в частности, ФПС), Госкомэкологии и общественных экологических организаций. И опять мешает Госкомрыболовство, специалисты которого опротестовывают дутые цифры и сам метод их расчета. Вот его и решили ликвидировать.
Полагаю, что все же истинная причина частых реорганизаций федерального органа по рыболовству лежит глубже и совмещает эти три версии. В основе всего – развернувшаяся в условиях ослабления государства жесткая борьба за распоряжение возобновляемыми биоресурсами 200-мильной морской экономической зоны и континентального шельфа России, и попытки введения для российских рыбопромышленников платы за их использование. А это, при возможном объеме улова в пределах 4,5–6,5 млн. тонн и первоначальной стоимости сырья на уровне среднемировых расчетных цен, от 1,3 до 2 млрд. долл. в зависимости от видового состава улова. Именно такую сумму – около 2 млрд. долл. – хотели бы обложить данью властные и мафиозные структуры. Однако непредвзятые расчеты показывают: самое большее, что смогут получить федеральные органы с иностранных компаний и собственных российских рыбаков от такой «торговли» морскими ресурсами, – 150–200 млн. долл. Тоже, прямо скажем, немало. Эти затраты судовладелец сразу же отнесет на рыбную продукцию, и результатом станет повышение розничных цен не менее чем на 10–15 %. Вновь пострадает простой налогоплательщик – покупатель. Мы с вами.